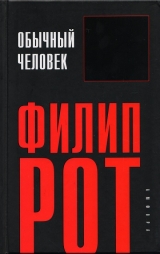
Текст книги "Обычный человек"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Филип Рот
Обычный человек
~ ~ ~
Посвящается Дж. С.
Не знаешь ты, покоясь средь ветвей,
Усталости, болезней, лихорадки.
Что сотрясает стонущих людей —
Бедняг худых, зашедшихся в припадке.
Здесь паралич разит слепых старух.
Здесь юность блекнет, рано умирая,
Здесь спят навечно зрение и слух,
Здесь тьма царит от края и до края.
Но где же быть исполненным печали,
Как не в юдоли мрачной, в этой дали,
Где скорбь не даст поднять свинцовых век
И где любовь погребена навек.
Вокруг могилы на захудалом кладбище собралась горстка его бывших сотрудников из нью – йоркского рекламного агентства, которые вспоминали, каким энергичным и оригинальным человеком он был, и говорили его дочери Нэнси, как им было приятно работать рядом с ним. На похороны прибыли и несколько человек из Старфиш Бич, небольшой деревушки на джерсийском побережье, где в основном жили пенсионеры, – он перебрался в это местечко после Дня благодарения в 2001 году, чтобы преподавать живопись ученикам преклонного возраста. На погребение приехали и двое его сыновей, Рэнди и Лонни, оба уже в годах; это были дети от его первого брака, бурного и недолгого, и поскольку мальчиков растила мать, они мало что знали о своем отце – скорее больше плохого, чем хорошего, – и присутствовали на похоронах исключительно из чувства долга. Там был и его старший брат, Хоуи, накануне вечером прилетевший из Калифорнии вместе со своей женой, его золовкой. Присутствовала также и одна из трех его бывших жен, вторая по счету, – Феба, мать его дочери Нэнси, – сухопарая седовласая женщина, чья правая рука безжизненно свисала вдоль тела. Когда Нэнси спросила ее, не хочет ли она что-нибудь сказать, Феба сначала застенчиво покачала головой, но, подумав, все же вышла вперед. Говорила она тихо и невнятно:
– Я просто не могу поверить… Я все время вспоминаю, как он плавал в заливе… Вот и все. До сих пор вижу, как он плывет…
Затем слово взяла Нэнси. Это она занималась организацией похорон, она же и обзванивала всех, кто приехал: она хотела, чтобы рядом с гробом стояли не только они с матерью да брат с золовкой. На кладбище была лишь одна женщина, прибывшая не по приглашению, а по собственному желанию, – это была плотная дама с приятным круглым лицом и крашеными рыжими волосами, представившаяся как Морин, – частная сиделка, ухаживавшая за ним после операции на сердце много лет назад. Хоуи вспомнил сиделку и приблизился к ней, чтобы поцеловать ее в щеку.
Нэнси, обращаясь к скорбящим, заговорила первой:
– Я хочу начать с того, чтобы сказать несколько слов об этом кладбище. Я недавно узнала, что дед моего отца, мой прадед, который похоронен здесь же, недалеко отсюда, рядом с моей прабабушкой, был одним из основателей этого кладбища, заложенного в 1888 году. Ассоциация, давшая деньги на место для погребения усопших, была создана на базе похоронных контор, которые существовали на средства еврейских благотворительных организаций и религиозных сообществ из округов Юнион и Эссекс. Мой прадед владел пансионом в городке Элизабет, где принимали вновь прибывших иммигрантов; и нужно сказать, что прадед заботился об удобстве гостей гораздо больше, чем обычный хозяин подобного заведения. Вот почему он стал одним из первых владельцев этого незастроенного участка земли: он тщательно следил и ухаживал за своим владением, ставшим последним приютом усопших, и вот почему именно он стал первым управляющим этого кладбища. В ту пору он был уже не очень молод, но все еще крепок и силен; сохранился документ с его личной подписью, в котором говорится, что «сие кладбище предназначено для погребения покойных в соответствии с иудейскими законами и обычаями». К сожалению, как мы можем убедиться, могилы, ограды и калитки теперь не содержатся в надлежащем порядке. Памятники покосились или опрокинуты, ограды проржавели, замки покорежены – повсюду следы вандализма. Теперь рядом с кладбищем располагается аэропорт, и буквально в нескольких милях отсюда пролегает скоростное шоссе на Нью-Джерси, откуда постоянно доносятся гул и грохот. Конечно, сначала я подумала о том, что мой отец должен быть похоронен в каком-нибудь другом, тихом и спокойном месте, например, там, где он купался вместе с моей матерью, когда они оба были еще молодыми, в тех местах, где он любил плавать вдоль берега. И все же, несмотря на то что на кладбище царят мерзость и запустение, отчего мое сердце буквально разрывается на части – а может, и ваши сердца тоже, – мы собрались именно здесь, на том кусочке земли, где время оставило глубокие шрамы. Я хотела, чтобы он лежал рядом с теми, кого он любил и кому был обязан своим рождением. Мой отец любил своих родителей, и он должен остаться рядом с ними навсегда. Я не хотела, чтобы он был похоронен где-то в стороне от своих родных и близких.
Она помолчала несколько секунд, как бы собираясь с мыслями. Нэнси, женщина средних лет, с приятным лицом, такая же милая и симпатичная, какой когда-то была ее мать, не казалась ни властной, ни напористой – в тот момент она скорее напоминала напуганную десятилетнюю девочку. Повернувшись к могиле, она зачерпнула горсть земли и, прежде чем бросить ее на крышку гроба, тихо, с тем же недоуменным выражением лица десятилетней девочки, произнесла:
– Вот как все обернулось. Больше мы ничего не можем сделать, пап.
Внезапно, выплыв из глубин десятилетий, на ум ей пришло одно из любимых выражений ее отца, звучавших как стоическая максима, и она заплакала.
– Нельзя переделать жизнь, – сказала она ему. – Принимай ее такой, какая она есть. Смотри на вещи трезво, но не сдавайся.
Следом за его дочерью ком земли на крышку гроба бросил Хоуи. Старший брат был предметом его обожания в ту пору, когда они оба были еще детьми, и Хоуи, в свою очередь, относился к младшему брату с любовью и нежностью: терпеливо учил его кататься на велосипеде и плавать, играл с ним во все детские игры, в каких сам был непревзойденным мастером. Казалось, он до сих пор мог провести футбольный мяч далеко за центральную линию, а ведь ему было уже семьдесят семь! Хоуи ни разу в жизни не лежал в больнице, и хотя они оба были родными братьями, выросшими в одной семье, старший брат, как ни удивительно, никогда не жаловался на здоровье.
Голос Хоуи звучал глухо от переполнявших его чувств, когда он шепнул жене:
– Мой младший брат. Это так глупо…
Затем он обратился к присутствующим:
– Не знаю, смогу ли я выразить все, что у меня на душе. Я хотел бы сказать несколько слов об этом человеке… О моем брате… – Он замолчал, собираясь с мыслями, чтобы выражаться четко и ясно. Его манера говорить и тембр голоса сразу же напомнили всем его покойного брата; Феба тотчас залилась слезами, и Нэнси быстро взяла ее за руку.
– В последние годы у него были проблемы со здоровьем, – сказал Хоуи, глядя на вырытую могилу, – к тому же он был одинок, а одиночество – это тоже серьезная проблема. Мы много общались по телефону, хотя к концу жизни он стал отстраняться от семьи по причинам, неясным для меня до сих пор. В старших классах он почувствовал непреодолимую тягу к живописи.
Когда он ушел на пенсию, оставив рекламный бизнес, где достиг значительных успехов, сначала в роли художника-постановщика, а впоследствии получив должность руководителя рекламного отдела, он, всю свою сознательную жизнь посвятивший рекламе, стал писать практически каждый день, не теряя ни минуты из тех лет, что были отпущены ему на закате жизни.
Мы можем сказать то, что обычно говорят близкие люди о своих безвременно ушедших и горячо любимых родственниках: он ушел от нас слишком рано. Он мог бы еще жить и жить…
Наступила гробовая тишина, и вдруг соответствующее моменту скорбное выражение лица Хоуи сменилось грустной улыбкой.
– Когда я был старшеклассником, по вечерам я ходил на тренировки вместе со своей командой. Брат часто выручал меня, выполняя поручения, которые давал мне отец. Ему, девятилетнему мальчику, нравилось, что ему доверяют нести в кармане куртки алмазы, положенные в конверт, до автобуса, идущего в Ньюарк, где их уже ждали огранщик, шлифовальщик и часовщик – знакомые моего отца, ютившиеся по своим каморкам в дебрях Фрелингхайсен-авеню. Эти поручения доставляли моему маленькому брату огромное удовольствие. Я думаю, уже тогда, наблюдая за мастерами, в одиночку трудившимися в крохотных, тесных мастерских, он захотел создавать что-то прекрасное своими собственными руками. Мне также кажется, что тяга к творчеству проснулась в нем в то время, когда он разглядывал грани бриллиантов сквозь ювелирную лупу нашего отца.
Внезапно волна облегчения прошла по напряженному лицу Хоуи, и он тихо рассмеялся, подняв руку над головой.
– Я был самым заурядным ребенком. Во мне бриллианты подстегивали только желание делать деньги. – Затем Хоуи продолжил свою речь с того момента, где остановился, – теперь он выглядел так, будто всматривался в свою юность сквозь залитое солнцем окно. – Раз в месяц наш отец помещал коротенькое объявление в «Элизабет джорнал». В сезон отпусков, между Днем благодарения и Рождеством, его печатали каждую неделю: «Обменяй старые часы на новые!» И все эти часы, скопившиеся у него, – большая их часть уже не подлежала ремонту, – были свалены в ящик, задвинутый в дальний угол его мастерской. Мой братишка мог часами сидеть у этой груды сломанных механизмов, вращая стрелки, прислушиваясь к тиканью, если часики все еще ходили, и, пристально разглядывая каждый циферблат, старался определить причину поломки. Наверно, игра со старыми часиками и «завела» его, как заводится будильник. Сотня, пара сотен никому не нужных часов, стоивших не более десятки баксов за ящик, в его глазах – глазах начинающего художника – имели огромную ценность, и ящик в дальнем углу мастерской был для него сундуком, доверху набитым сокровищами. Он часто вынимал их из ящика – как я помню, на нем всегда были часы, которые он вытащил из груды хлама. Иногда они даже ходили.
Бывало, ему нравились какие-нибудь часики, и тогда он сам пытался починить их, чтобы они наконец затикали, но все без толку: обычно после ремонта все становилось еще хуже, чем было. Именно тогда, возясь с часовыми механизмами, он приучил свои руки выполнять тончайшие операции. У моего отца всегда были две помощницы, они стояли за прилавком, – это были девушки, только что закончившие школу, лет девятнадцати-двадцати. Милые, нежные создания, уроженки городка Элизабет, чистенькие и опрятные, непременно христианки, в основном католички ирландского происхождения, чьи отцы и братья работали в компании Зингера, производившей швейные машинки, или на кондитерской фабрике, выпускающей печенье, или в порту. Если к девушкам обращались покупатели, они показывали им украшения, помогали подобрать и примерить понравившуюся безделушку, и если нам улыбалась удача, дело заканчивалось покупкой. Как учил нас отец: если хорошенькая молодая девушка надевает драгоценности, то другие женщины думают, что они, как только наденут на себя бриллианты, сразу же станут такими же красивыми, как она. Парни, что работали в портовых доках, захаживали в нашу лавку присмотреть обручальное кольцо для своей невесты и, выбирая подарок, иногда даже осмеливались коснуться руки продавщицы, чтобы получше разглядеть драгоценный камень. Мой брат обожал крутиться вокруг этих девушек, и это было еще задолго до того, как он понял, что именно так сильно привлекает его. Он помогал продавщицам убирать драгоценности из стеклянных витрин в конце рабочего дня; он делал все что угодно, лишь бы угодить им. Они убирали с витрин все, что имело хоть какую-либо ценность, оставляя на виду лишь самый простенький товар, и за несколько минут до закрытия мой маленький брат сам отпирал большой сейф в дальнем углу магазина, набирая тайный шифр, который доверил ему мой отец. Раньше, до него, все это входило в мои обязанности, и я так же, как и он, старался подойти поближе к тем девушкам; особенно хорошо мне запомнились блондинки, которых звали Гарриет и Мей. Их много сменилось за прошедшие годы: Гкрриет, Мей, Энн-Мэри, Джин, потом еще были Мира, Мэри, Пэтти, и еще Кэтлин и Корина, и каждая из них сияла как солнце для моего брата, тогда еще совсем маленького мальчика. Корина, писаная красавица, обычно сидела за конторкой в заднем помещении лавки: стоял ранний ноябрь, и они вместе с моим братишкой надписывали адреса покупателей на каталогах, где рекламировались изделия, продающиеся в нашем магазинчике, – каталоги были напечатаны специально для осенних распродаж, когда лавка была открыта шесть дней в неделю, и поэтому мы все пахали как ломовые лошади. Если дать моему брату целую кипу конвертов, он мог пересчитать их в мгновение ока, в сто раз быстрее, чем другие, потому что у него были очень ловкие пальцы: он брал их по пять штук сразу. Как-то раз, заглянув в контору, я сразу понял, чем он увлечен: он рисовался перед Кориной, показывая ей фокусы с конвертами. Этот мальчик всегда поступал так, чтобы в нем видели заслуживающего уважения сына ювелира! «Заслуживает уважения» – это была наивысшая похвала в устах моего отца. Многие годы мой отец продавал обручальные кольца простым работягам: и ирландцам-католикам, и немцам, и словакам, и итальянцам, и полякам, жившим в Элизабет. Люди любили его: он обладал чувством юмора, и к тому же цены на его товары не были слишком высоки. Кроме того, он предоставлял кредит каждому покупателю, и поэтому нас всех приглашали на свадьбы – сначала в церковь на венчание, а потом на праздничное застолье. Затем грянула Великая депрессия, началась война, но все же люди продолжали играть свадьбы, и у нас всегда были девушки-продавщицы, и были автобусные поездки в Ньюарк с дорогущими – на сотни долларов – алмазами в конверте, засунутом в карман толстой куртки. На лицевой стороне конверта были инструкции для огранщика или шлифовальщика, написанные рукой нашего отца.
В кладовой стоял огромный сейф фирмы «Мосли» пяти футов в высоту, со специальными прорезями для подносов с драгоценностями, и каждый вечер мы аккуратно прятали в него ювелирные изделия, а утром снова вынимали… и все это составляло смысл жизни моего младшего брата, когда он был еще ребенком.
Глаза Хоуи снова остановились на крышке гроба.
– И что теперь? – вздохнул он. – Думаю, на этом пора закончить. Продолжать воспоминания, все больше и больше бередить свою рану… Но как же вычеркнуть его из памяти? Мы все здесь близкие люди – родственники и друзья, и незачем стесняться слез, которые мы льем над его могилой. Когда умер наш отец, мой брат спросил меня, не буду ли я против, если он возьмет себе папины часы. Это был «Гамильтон», сделанный в Ланкастере, штат Пенсильвания, и, как говорил один крупный эксперт по часам, это была лучшая модель из всех выпущенных за всю историю существования Америки. Когда отцу случалось продавать эту марку часов, он всегда объяснял покупателю, что тот сделал правильный выбор. «Посмотрите – я сам такие ношу. Исключительно респектабельная вещь. „Гамильтон" – фирма, заслуживающая большого уважения. Мне кажется, – говорил он в таких случаях, – это лучшие часы во всех Штатах». Семьдесят девять пятьдесят, если я правильно помню. Тогда все ценники оканчивались на пятьдесят. Да, «Гамильтон» имел очень хорошую репутацию. Это были классные часы, и отец любил их, и когда брат сказал, что ему хотелось бы иметь отцовские часы, мне это было очень приятно. Он мог бы попросить увеличительное стекло для ювелирных работ или футляр для перевозки бриллиантов. Это был старый футляр из потертой кожи, и отец всегда носил его с собой, в кармане пиджака, если ему приходилось договариваться о сделке за стенами лавки; еще там лежали пинцеты, и крохотные отверточки, и калибровочные колечки, чтобы измерять величину камней, и белая папиросная бумага, в которую заворачивали каждый алмаз. Все это были прекрасные, любимые им вещицы, с которыми он всегда работал – он держал их в своих руках, он был к ним очень привязан, и мы, помня об этом, решили похоронить его вместе с лупой и футляром, со всем его содержимым. Он всегда носил лупу в одном кармане, а сигареты в другом, и вот почему мы положили его лупу в гроб, под саван. Я помню, как мой брат сказал тогда: «Лучше бы мы вставили эту лупу ему в глаз – так было бы правильно». Вот что горе делает с человеком. Это только показывает, в каком состоянии мы находились тогда. Мы не знали, что и как нужно делать. Правильно или неправильно, но мы относились к этим вещам по-особому, потому что они не просто принадлежали ему – они и были им самим... Хочу закончить рассказ о его «Гамильтоне»: у отцовских часов сверху была шишечка, и ее надо было вращать каждое утро, чтобы завести часы, а если потянуть за эту шишечку, то из часов вытаскивался стержень, и тогда можно было переводить стрелки… Мой брат никогда не снимал эти часы – за исключением тех случаев, когда шел купаться. Теперь он навсегда снял свои часы. Двое суток тому назад он передал их сиделке, чтобы она положила их в сейф на хранение, пока его будут оперировать. Эта операция убила его. Сегодня утром, пока мы ехали в машине на кладбище, моя племянница Нэнси показала мне новую дырочку на ремешке от часов: теперь она будет носить их и узнавать по ним время.
Затем слово взяли его сыновья – начинающие стареть мужчины, чей возраст уже приближался к пятидесяти. Блестящие, гладкие черные волосы, выразительные темные глаза и чувственные полные губы делали их похожими не только друг на друга, но и на их отца и на дядю, когда те были в их возрасте. Красивые, видные, братья были настолько близки друг с другом, насколько несовместимы по духу с их покойным отцом. Младший, Лонни, первым подошел к могиле. Не успел он зачерпнуть пригоршню земли, как все его тело начала сотрясать крупная дрожь, как будто к горлу у него подступила сильнейшая рвота. Его охватило странное чувство по отношению к отцу, которое нельзя было назвать ненавистью, – скорее это было неприятие происходящего, от которого ему было некуда деться. Когда Лонни открыл рот, у него вырвалось только несколько нечленораздельных хрипов, и, судя по его виду, приступ, накативший на него, не собирался его отпускать. Он находился в таком ужасном состоянии, что Рэнди, старший и более решительный сын, тотчас же бросился ему на помощь. Он забрал ком грязи из кулака младшего брата и бросил на гроб от имени обоих – и за себя, и за него. Публика с одобрением подняла на него глаза, когда он начал свою речь.
– Спи спокойно, отец, – произнес Рэнди, но в голосе его ужасающим образом отсутствовали и нежность, и печаль, и горечь утраты.
Последней подошла к гробу сиделка, Морин, – она походила на бравого бойца, который немало повидал на своем веку – и жизнь, и смерть. Когда она, улыбаясь, красиво изогнула запястье и изящно выпустила из пригоршни землю, упавшую на крышку гроба, ее жест выглядел как прелюдия к интимной близости. Похоже, она когда-то была сильно увлечена этим человеком.
На том все было кончено. Никто не выступил с заключительным словом, завершая церемонию прощания с покойным. Сказали ли они всё что хотели? Нет, конечно не всё. Но с другой стороны, что еще они могли сказать? По всему штату в тот день прошло пятьсот похорон, подобных этим: тусклых, рутинных, заурядных, и даже несмотря на полуминутное замешательство одного из сыновей и речь Хоуи, из последних сил сопротивлявшегося смерти и вспоминавшего чистый, полный невинных забав мир, в котором он существовал до изобретения смерти, в вечном Эдеме, созданном их отцом, маленьком раю в виде старомодной ювелирной лавки пятнадцати футов в ширину и сорока в длину, – это погребение было не более и не менее интересным, чем все остальные. Самое ужасное было не в этом: похороны еще раз подтвердили обыденность происходящего, подчеркнули тот факт, что смерть объемлет и поглощает все сущее на свете.
Несколько минут спустя похоронная процессия двинулась прочь – подавленные, заплаканные, они завершали наименее приятную процедуру, выпавшую на долю человеческого рода: они уходили, оставив его позади. Конечно же, когда кто-нибудь умирает, многие скорбят об утрате, но большей частью чужая смерть не затрагивает ничьих чувств, либо, напротив, вызывает облегчение или даже злорадство.
Хотя со времени своего последнего развода он привык жить один и обслуживать себя сам, лежа в больничной постели ночью перед операцией, он старательно воскрешал в памяти мельчайшие детали, связанные с каждой женщиной, которые ждали, пока в реанимации он придет в сознание после наркоза; он вспомнил даже самую беспомощную сиделку, свою последнюю жену, рядом с которой выздоровление после операции на сердце, проходившей в пять этапов, казалось делом сомнительным, не внушавшим особых надежд. Напротив, надежда завладела им, когда он подумал о частной, профессиональной сиделке, которая вернулась с ним домой из больницы и ухаживала за ним с истовой преданностью, что способствовало его постепенному выздоровлению, и с которой он втайне от жены вступил в связь, как только восстановились его сексуальные способности. Морин. Морин Мразек. Куда только он не звонил, чтобы найти ее! Он хотел, чтобы она приехала к нему и стала его сиделкой, если ему снова понадобится уход после выписки. Но с тех пор прошло шестнадцать лет, и агентство, предоставлявшее медсестер для ухода за послеоперационными больными, потеряло ее след. Сейчас, должно быть, ей уже сорок восемь, она чья-то мать и чья-то жена, и из крепкой энергичной молодой женщины давно превратилась в расплывшуюся домохозяйку средних лет, и битва, которую он вел за право оставаться самим собой, уже давно проиграна им, а его собственное тело теперь превратилось в набор хитроумных приспособлений, изобретенных человеком для временной отсрочки последнего часа. Никогда прежде не прилагал он таких усилий, чтобы отогнать от себя мысли о неизбежной кончине.
Прошла целая вечность с тех пор, как он ехал в больницу вместе с матерью, которая сопровождала его на операцию по удалению грыжи осенью 1942 года, – это было короткое путешествие на автобусе, длившееся не более десяти минут. Обычно, если он ездил куда-нибудь вместе с матерью, они садились в машину, принадлежавшую их семье, и за рулем, как правило, был отец. Но теперь их было только двое, они сели в автобус и направились в больницу, где он когда-то родился, и она была рядом, чтобы успокоить его, заглушить дурные предчувствия, он храбрился, и мать хвалила его за мужество.
Его старший брат был в это время в школе, а отец уехал на машине задолго до того, как они с матерью отправились в больницу. На коленях у матери лежала маленькая дорожная сумка: в нее она положила зубную щетку, пижаму, купальный халат и тапочки, а также книжки, которые он собирался прочесть. Он до сих пор помнил, какие книжки взял с собой. Больница располагалась сразу за углом от районной библиотеки, так что его мать с легкостью могла пополнить запас для чтения, если он быстро одолеет все, что захватил с собой. Ему предстояло просидеть еще целую неделю дома, поправляясь после операции, и он больше волновался о том, что ему придется пропустить много уроков в школе, чем об усыпляющей маске с эфиром, которую ему должны были положить на лицо. В начале сороковых годов родителям не разрешали дежурить по ночам у койки, где лежало их больное дитя, и он понимал, что ему придется спать одному, потому что рядом не будет ни матери, ни отца, ни брата. Из-за этого он волновался еще больше.
Мать чрезвычайно учтиво и мягко беседовала с медицинским персоналом, поэтому женщины, которые оформляли его в приемном покое, тоже разговаривали с ней уважительно, так же как и медсестры, дежурившие на посту, когда они с матерью направлялись к лифту, поднявшему их в детское хирургическое отделение. Мать несла его вещи, потому что до операции и еще несколько недель после нее ему, пока он полностью не поправится, нельзя было поднимать никакие тяжести, даже такие, как маленькая дорожная сумка. Он обнаружил шишку слева в паху несколько месяцев назад, но никому не сказал о ней, пытаясь самостоятельно вправить ее пальцами. Он не имел понятия, что такое паховая грыжа или какую опасность представляет этот выпирающий желвак, располагающийся так близко к его гениталиям.
В те дни, если родители были против хирургического вмешательства, врач мог посоветовать жесткий корсет с металлическими прутьями. В его школе был мальчик, который носил такой корсет, и это была одна из причин, по которой он долго ничего не говорил об опухоли в паху: он боялся, что его тоже заставят носить корсет и, когда он будет надевать шорты перед занятиями физкультурой в гимнастическом зале, все мальчики увидят его позор.
Он долго терпел, но однажды, не выдержав, признался во всем родителям, и отец отвел его на консультацию к врачу. Врач, быстро осмотрев больного, поставил диагноз и, переговорив с отцом, назначил операцию. Все произошло с удивительной скоростью, и врач – тот самый, который помогал ему появиться на свет, – убедив его, что все будет в полном порядке, перевел разговор на серию юмористических комиксов про «Крошку Абнера»,[2]2
«Крошка Абнер» – популярный герой серии юмористических комиксов, созданных американским карикатуристом Ал Капом (Альфред Джеральд Каплин; 1909–1979) в 1934–1977 гг.
[Закрыть] которую они оба с удовольствием читали в вечерней газете.
Как сказали его родителям, хирург, доктор Смит, был лучшим в городе специалистом в этой области. Как и отец мальчика, доктор Смит, урожденный Солли Смулович, был сыном бедного иммигранта и вырос в трущобах.
Он был помещен в палату и уложен на койку уже через час после прибытия в больницу, хотя операция была назначена только на следующее утро, – вот как обращались с пациентами в те Дни.
Рядом с ним лежал мальчик, которому была сделана операция на желудке, – ему до сих пор не разрешали вставать. Рядом с мальчиком, держа его за руку, сидела его мать. Когда к мальчику пришел отец – навестить его после работы, родители сразу перешли на идиш, и он подумал, что оба они слишком обеспокоены, чтобы говорить в присутствии сына на понятном ему английском.
Единственным местом, где он слышал идиш, была ювелирная лавка, куда заходили беженцы, чтобы купить «Шаффхаузен» – часы, которые было очень трудно найти, и его отец частенько объезжал окрестности, чтобы найти именно эту марку. «„Шаффхаузен", я хочу „Шаффхаузен"» – это был предел их знания английского. Конечно, беседа шла исключительно на идиш, когда в Элизабет раз или пару раз в месяц приезжали евреи-хасиды из Нью-Йорка и отец мог пополнить содержимое своего сейфа, поскольку хранить богатый запас бриллиантов в лавке было для него слишком дорого. До войны в Америке не так уж много евреев торговало алмазами, но его отец с самого начала предпочитал иметь дело с хасидами, чем с крупными ювелирными домами. Торговец алмазами, заезжавший к ним чаще других, был беженцем, чей маршрут привел его из Варшавы в Нью-Йорк через Антверпен; этот старик носил широкополую черную шляпу и лапсердак – длинное черное пальто, какое невозможно было увидеть ни на одном из прохожих на улицах Элизабет, даже из еврейской среды. Он носил бороду и пейсы и прятал свой поясной кошель, в котором хранились бриллианты, под нижним бельем с бахромой, чье религиозное значение ускользало от юного богоборца и, конечно же, казалось ему нелепым – даже после того, как отец объяснил ему, почему хасиды до сих пор носят то, что носили их предки в Старом Свете двести лет назад, и живут по тем же законам, по которым жили их предшественники, несмотря на то (как он снова и снова доказывал своему отцу) что они теперь находятся в Америке и вольны бриться, носить что угодно и вести себя как хотят. Когда один из семерых сыновей этого торговца решил жениться, тот пригласил всю их семью на свадьбу в Бруклин. Все мужчины, присутствовавшие на свадьбе, носили бороды, а все женщины, согласно обычаю, были в париках, и в синагоге гости разошлись в разные стороны: женщины и мужчины сидели отдельно, разделенные стеной, и после венчания они даже не танцевали вместе, то есть поступали так, чтобы все в этой свадьбе сделалось ему и Хоуи ненавистно. Когда торговец бриллиантами приходил в ювелирную лавку его отца, он всегда снимал свой длинный лапсердак, но оставался в шляпе, и двое мужчин садились у витрины с драгоценностями, дружелюбно беседуя на идиш, на том языке, на котором дома говорили с родившимися в Америке детьми родители его отца, его бабушка и дедушка, в ту пору, когда были еще живы. Но когда приходило время заняться делом, оба старика отправлялись в заднюю комнату, где стояли сейф и верстак, а пол был покрыт коричневым линолеумом, и, низко наклонив головы, разглядывали лежавшие на столе бриллианты; они уединялись за дверью, которая почти никогда плотно не закрывалась, даже если удавалось изнутри накинуть на нее крючок, и еще там были туалет и крохотная раковина. Отец всегда расплачивался на месте, выписывая чек.
Закрыв лавку с помощью Хоуи – отец опускал вниз решетки, предохранявшие витрины магазинчика от грабителей, навешивал на них амбарные замки и включал сигнализацию, – а потом, заперев входные двери на всевозможные ключи, появлялся в больничной палате, чтобы обнять своего младшего сына.
Отец был в палате в тот момент, когда туда зашел доктор Смит – представиться ему. На хирурге был не белый халат, а деловой костюм, и, завидев доктора, отец тотчас же вскочил на ноги с криком: «Это же доктор Смит!»
– А это, я полагаю, мой пациент, – произнес доктор Смит. – Вот что я тебе скажу, – продолжал хирург, подойдя к краю кровати и крепко беря его за плечо, – завтра я сделаю тебе операцию. Удалю твою грыжу, и ты снова будешь как огурчик. Ты где обычно стоишь на футбольном поле?
– Я полузащитник.
– Очень скоро ты выйдешь на поле и снова будешь полузащитником или кем пожелаешь. Не успеешь и глазом моргнуть, как все войдет в норму. А пока ложись спать. Увидимся завтра утром. Спокойной тебе ночи.
Осмеливаясь пошутить в беседе со знаменитым хирургом, отец сказал:
– И я вам тоже желаю крепкого сна.
Когда пришло время обеда, рядом с ним сидели отец и мать, как будто они все были дома. Они говорили тихими голосами, чтобы не потревожить больного мальчика, лежавшего на соседней койке, или его родителей, которые, погрузившись в глубокое молчание, тоже находились в палате: мать ребенка сидела на краешке кровати, а отец то метался в ногах у его постели, то выскакивал в коридор. Больной мальчик вовсе не казался таким взбаламученным, как родители, пришедшие его навестить.
Без пяти восемь в дверь просунулась голова медсестры. Заглянув в палату, медсестра объявила, что время посещения больных закончилось. Родители прооперированного мальчика перебросились несколькими фразами на идиш, и после того как мать многократно поцеловала сына в лоб, они оба удалились. У отца по щекам текли слезы.







