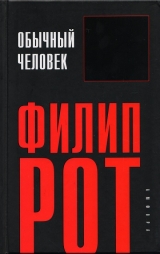
Текст книги "Обычный человек"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Затем встали его родители: им пора было уходить домой, к его брату, чтобы, собравшись на кухне, вместе разделить поздний обед – только без него. Поцеловав сына, мать крепко прижала его к груди.
– Ты справишься, сынок, – сказал отец, наклоняясь к нему, чтобы поцеловать его в лоб. – Это не сложнее тех поручений, которые я даю тебе, например, сбегать к автобусу или выполнить какую-нибудь работу в лавке. Что бы это ни было, ты не подведешь меня, сын. Мои верные, надежные сыновья! У меня грудь распирает от гордости, когда я думаю о моих сыновьях! Вы всегда отлично справляетесь с любым заданием, выполняя поручение тщательно, стараясь сделать все на совесть, мои честные, трудолюбивые мальчики, такие порядочные, какими мы и воспитывали вас. Вы носили в кармане бриллианты в Ньюарк и обратно, размером в четверть или даже в полкарата, и это не смущало вас в вашем юном возрасте. Вы смотрите на все неприятности в мире так, будто это какая-то дрянь, случайно попавшая в пакет с попкорном «Крекер Джек». Если ты мог справиться с такой работой, как доставка алмазов, значит, справишься и с этим. Попытайся понять, что это просто еще одно задание, которое тебе нужно выполнить. Сделай эту работу. Покончи с ней, и завтра утром все будет уже позади. Слышишь колокол? Выходи на бой! Ты понял?
– Угу, – откликнулся мальчик.
– Когда я приду к тебе завтра, доктор Смит уже прооперирует тебя, и все будет в порядке.
– Угу.
– Какие замечательные у меня сыновья!
Они ушли, и он остался в палате вдвоем с мальчиком, лежавшим на соседней койке. Протянув руку, с прикроватной тумбочки, на которую мать положила стопку книг, он достал «Швейцарских робинзонов».[3]3
"Швейцарские робинзоны» – приключенческий роман Йоганна Дэвида Уисса, впервые опубликованный в 1812 г.
[Закрыть] Затем переключился на «Остров сокровищ». Потом взялся за «Кима».[4]4
«Ким» – роман английского писателя, поэта, новеллиста Джозефа Редъярда Киплинга (1865–1936), изданный в 1901 г.
[Закрыть] Затем он сунул руку под одеяло – пощупать, на месте ли грыжа. Шишки не было. Из своего прошлого опыта он знал, что иногда грыжа уходила или становилась меньше, но теперь он был совершенно уверен, что она исчезла навсегда и ему совершенно не нужна никакая операция. Когда в палату зашла медсестра измерить ему температуру, он не знал, как сказать ей, что грыжа рассосалась сама собой и что надо вызвать его родителей, чтобы они забрали его домой. Она с одобрением посмотрела на книги, которые он принес, и сообщила ему, что он может встать и сходить в туалет, если нужно, но в основном он должен лежать; и еще медсестра разрешила ему почитать в постели, пока она не вернется потушить свет. Она ничего не сказала о его соседе, который непременно, как он считал, должен был умереть.
Сначала ему никак не удавалось заснуть: он ждал смерти мальчика на соседней койке, но потом он отвлекся, потому что его посетили навязчивые воспоминания об утопленнике, которого волной вынесло на берег прошлым летом. Это был моряк с танкера, протараненного немецкой подводной лодкой. Патруль береговой охраны обнаружил тело моряка на отмели, покрытой густой нефтяной пленкой, рядом с разломанными контейнерами для перевозки грузов, неподалеку от того места, где их семья из четырех человек снимала на месяц комнату каждое лето. Обычно вода в заливе была чистой, и он не задумывался о том, что, шлепая босыми ногами по мелким набегающим волнам прибоя, можно натолкнуться на утопленника. Но когда нефть с протараненного танкера, покрыв вязкой черной массой все песчаное побережье, обволокла маслянистой пленкой его ноги, он испугался, что может споткнуться о мертвое тело. Или врезаться в плывущего к берегу диверсанта, вредителя, работавшего на Гитлера. Вооруженные винтовками или ручными пулеметами, часто в сопровождении собак, патрульные день и ночь караулили протянувшийся на многие мили пустынный берег, чтобы не допустить высадки диверсантов. И все же кое – кому из них удавалось пробраться на берег незамеченными, и они, вместе с американцами, сочувствующими нацистам, с самого начала войны делали вылазки на сушу, чтобы немецкие подводные лодки, снующие вдоль восточного побережья, могли потопить корабли у берегов Нью – Джерси. Как-то его отец прочел в газете, что береговая линия вдоль штата Нью-Джерси превратилась в самое крупное кладбище кораблей во всей Америке, и теперь, лежа в больнице, мальчик никак не мог избавиться от мыслей об этом: слово «кладбище» вертелось у него в мозгу, будоража и тревожа его; точно так же он не мог выбросить из памяти утонувшего моряка, чей распухший труп, лежавший у самого берега в нефтяной пленке, обнаружила патрульная служба береговой охраны как раз в тот момент, когда они с братом с дощатого настила наблюдали за работой солдат.
Наконец ему удалось заснуть, но он проснулся от шума в палате. Он увидел, что занавеска между двумя койками была задернута и что рядом с койкой, где лежал мальчик, суетятся врачи и медсестры, – он слышал их голоса и сквозь ткань видел, как двигались чьи-то тени. Когда из-за занавески показалась одна из медсестер, она заметила, что мальчик не спит, и, подойдя к его кровати, тихо сказала:
– Спи, завтра тебе предстоит трудный день.
– А что случилось? – просил мальчик.
– Ничего, – ответила она. – Мы делаем перевязку. Закрой глазки и спи.
Он проснулся рано утром, готовый к операции, и увидел рядом с собой мать, которая уже пришла в больницу и теперь сидела в ногах его кровати.
– Доброе утро, дорогой. Ну, как себя чувствует мой маленький храбрец?
Взглянув на соседнюю койку, мальчик увидел, что с нее снято белье. Ничто не могло яснее сказать ему, что произошло ночью, чем вид голого матраца в полосатом чехле и подушек без наволочек, сложенных горкой посреди пустой кровати.
– Этот мальчик умер, – проговорил он. Как странно, что он запомнил это, ведь он был еще совсем маленьким, когда его привезли в больницу на операцию, но еще более странным было то, что память его зафиксировала смерть. Первым был утопленник с распухшим телом, вторым – этот мальчик. Ночью, когда он проснулся и увидел тени, двигающиеся за перегородкой, его преследовала только одна мысль: «Доктора убили его».
– Я полагаю, его перевели, деточка. Перевели на другой этаж.
Тут появились два санитара, чтобы отвезти его в операционную. Один из них велел ему сходить в туалет, и, закрыв дверь уборной, первым делом он пощупал свою грыжу. Он хотел убедиться, что она окончательно исчезла. Но шишка вернулась на место. Теперь ему никак было не отвертеться от операции.
Матери позволили сопровождать его до лифта, пока санитары везли его на каталке в операционную. Затем его погрузили в лифт и спустили на нижний этаж, а там повезли по какому-то жуткому коридору в операционную, где его уже ждал доктор Смит в белом хирургическом халате и маске, которая настолько изменила его внешность, что это мог бы быть даже и не доктор Смит.
Вместо хирурга под маской мог оказаться кто – то совершенно другой – человек, который никогда не был сыном бедных иммигрантов и не носил фамилию Смулович, – тот, о ком его отец ничего не знал и никто ничего не знал, – посторонний, случайно забредший в операционную и взявший в руки скальпель. Он содрогнулся от ужаса, когда к его лицу, будто пытаясь удушить его, поднесли эфирную маску. Он мог поклясться чем угодно, что хирург или тот, кто притворялся хирургом, наклоняясь над ним, произнес страшные слова:
– А теперь мы превратим тебя в девочку.
Недомогание началось сразу, как только он вернулся домой после тридцатидневного отпуска: он не был так счастлив со времени отдыха на побережье Нью-Джерси, со всей семьей, еще до войны. Он провел август в бедно обставленной, полуразвалившейся хибаре, притулившейся на обочине одной из проселочных дорог на острове Мартас-Винъярд, вместе с женщиной, чьим любовником он был вот уже более двух лет. Раньше они ни разу не пробовали жить вместе, существовать бок о бок изо дня в день, но эксперимент оказался удачным, и они провели чудесный месяц, то плескаясь в воде, то путешествуя автостопом и самозабвенно занимаясь любовью в любое время суток. Они переплывали залив, направляясь к гряде песчаных дюн, и там лежали в объятиях друг друга на солнце, подальше от посторонних глаз, а затем, вставая, надевали купальные костюмы и плыли обратно к пляжу, где на обед собирали среди камней сросшиеся ракушки с моллюсками внутри и тащили их домой в ведре, наполненном морской водой.
Он испытывал легкое беспокойство только по ночам, когда они вдвоем бродили по берегу. Темное море бурлило, тревожно грохоча, валы накатывали один за другим, и небо, усыпанное яркими светящимися точками, приводившими Фебу в восторг, пугало его. Изобилие звезд на небосклоне недвусмысленно говорило ему, что он обречен, а раскаты волн, громыхавших всего в нескольких ярдах от них, и мглистая жуть обезумевшей пучины, что была черней чернил, грозили забвением, толкая его к бегству, к поискам спасения в их плохо обставленном, но уютном, ярко освещенном домишке. Когда он служил на флоте, сразу после Корейской войны, он не испытывал такого мощного давления необъятных морских просторов и бескрайнего неба – они не звучали для него похоронным звоном. Он не мог понять причины своих страхов и должен был держать себя в руках, чтобы скрыть от Фебы гложущую его тревогу. Почему он не должен верить в жизнь, если только сейчас стал ее полновластным хозяином? Почему ему кажется, что он висит на волоске от смерти, если холодный разум подсказывает ему, что вся жизнь еще впереди? Он не был каким-то выдающимся или просто ярким человеком, но калекой он тоже не был – ничего экстраординарного, так почему же его преследовали мысли о смерти? Он был рассудителен и добр, дружелюбен и трудолюбив, проявлял умеренность в политических воззрениях – с такой оценкой его личности согласились бы все, кроме, конечно, его жены и двух сыновей, которых он бросил, уйдя из дома: они не смогли оценить его рассудительность и доброту – и тогда он поставил крест на своем неудавшемся браке и где только мог стал искать уединения с женщиной, к которой он вожделел.
Большинство людей, как он полагал, считали его человеком приземленным. В юности он сам считал себя столь заурядным, тусклым и неинициативным, безо всякой авантюрной жилки, что после художественной школы, вместо того чтобы отдать себя целиком живописи, зарабатывая на жизнь где придется (что было его тайной мечтой), он остался таким, каким был, – примерным мальчиком, и более потакая желаниям родителей, чем своим собственным, женился, завел детей и занялся рекламным бизнесом, чтобы обеспечить стабильный доход. Но брак стал для него тюрьмой, и вот, после мучительных раздумий, терзавших его и во время работы, и по ночам, он начал мало-помалу, постоянно оправдываясь, прокладывать свой путь, все больше отдаляясь от семьи. Разве не так поступают все нормальные люди? Разве все нормальные люди не делают это каждый день? Вопреки тому, что утверждала его жена, он не жаждал безмерной свободы и не распутничал, пустившись во все тяжкие. Напротив, он желал чего-то стабильного, хотя и ненавидел то, что имел. Он не испытывал недовольства и не возражал против ограничений и приличий, диктуемых правилами поведения. Он только хотел освободить свой мозг от тяжких и неприятных мыслей, порождаемых бесчестьем длительной супружеской войны. Он никогда не провозглашал свою исключительность. В нем таились лишь ранимость, уязвимость и смущение. И, убежденный в своей правоте, как всякий обыватель, он желал быть прощенным целиком и полностью, несмотря на ущерб, приносимый его ни в чем не виноватым детям, – только ради того, чтобы не прожить еще полжизни в смятении.
Меня пугает встреча со смертью? Но мне всего лишь тридцать четыре! Думай о вечности, когда тебе будет семьдесят пять, говорил он себе. У меня еще куча времени, чтобы подумать о далеком будущем, а сейчас нечего терзаться из-за грядущей катастрофы.
Но как только он вернулся на Манхэттен, где они с Фебой жили каждый в своей квартире, в нескольких кварталах друг от друга, он внезапно заболел. Из-за какой-то таинственной болезни он потерял аппетит и всю свою былую энергию – его тошнило с утра до вечера, и он не мог пройти и нескольких шагов по улице, чтобы не почувствовать головокружение и слабость в ногах.
Доктора ничего у него не нашли. После развода он начал ходить к психоаналитику, который приписывал его состояние зависти, испытываемой к коллеге, тоже художнику-постановщику, которого только что выдвинули на должность вице-президента агентства.
«Вас делает больным зависть», – сказал психоаналитик.
Он пытался возразить, что упомянутый коллега на двенадцать лет его старше, что он приятный и щедрый человек, с которым ему нравится работать, но психоаналитик продолжал настаивать на «глубоко внедрившейся в сознание зависти» как скрытой причине заболевания, и когда факты доказали, что врач поставил неправильный диагноз, тот, несмотря на данное им ложное заключение, остался невозмутим.
В течение нескольких последующих недель он постоянно ходил к психоаналитику, тогда как прежде навещал его не чаще, чем раз в два года, да и то из-за пустяковых проблем. Но он продолжал терять вес, и приступы тошноты становились все тяжелее. Никогда раньше он не чувствовал себя так скверно – даже после того, как бросил Сесилию с двумя маленькими детьми и выдержал все судебные баталии по поводу условий развода, когда в присутствии всех членов суда адвокат Сесилии назвал его «известным волокитой» из-за романа, который он крутил с Фебой, работавшей машинисткой в его агентстве. Истица, стоявшая за кафедрой в суде, обиженная и взвинченная до предела, будто возводила обвинения против самого маркиза де Сада, назвала Фебу «номером тридцать седьмым» в длинном списке девиц, имевших с ним связь, хотя в действительности она тогда была всего лишь «номером вторым», и его жена, призывая изменщика к ответу, казалось, заглядывала в далекое будущее. Тогда, по крайней мере, у него была причина чувствовать себя прескверно. Но сейчас с ним происходило что-то непонятное: из пышущего здоровьем молодого мужчины он за одни сутки превратился в инвалида, необъяснимым образом теряющего силы с каждой минутой.
Так прошел месяц. Он не мог сконцентрироваться на работе, прекратил плавать по утрам и к тому времени уже не мог смотреть на еду без отвращения. В пятницу вечером, сразу после работы, он взял такси и отправился к врачу, не оговорив посещение заранее и даже не сделав предварительного звонка. Он позвонил только Фебе, чтобы сообщить ей о своих намерениях.
– Положите меня в больницу, – сказал он врачу. – Кажется, я умираю.
Доктор сразу же договорился о госпитализации, и когда его привезли в приемный покой, Феба уже ждала у справочного. К пяти вечера его уже поместили в палату, и часам к семи рядом с его койкой появился высокий, загорелый, полный сил мужчина средних лет в смокинге, который представился ему как хирург; он сказал, что приехал по вызову терапевта, чтобы взглянуть на больного. Хирург собирался на какое-то официальное мероприятие и заехал ненадолго – для предварительного осмотра. Врач положил ему руку на живот с правой стороны, внизу, рядом с пахом, и сильно надавил на него. В отличие от врача-терапевта, хирург продолжал давить, причиняя ему невыносимую боль, которая нарастала с каждым мгновением. Он почувствовал, что к горлу подступила рвота. Хирург спросил:
– Вы никогда раньше не жаловались на боли в желудке?
– Нет, – ответил он.
– Тогда это аппендицит. Вам необходима операция.
– Когда?
– Прямо сейчас.
Он увидел, как хирург прошел в операционную – он уже сменил смокинг на медицинский халат.
– Вы спасли меня от скучнейшего банкета, – пошутил врач.
Он проснулся только на следующее утро. В его ногах, рядом с Фебой, стояли мать и отец со строгими, печальными лицами. Феба, с которой его родители не были знакомы (они знали о ее существовании только по гневным репликам Сесилии, брошенным в адрес соперницы, по тем уничижительным характеристикам, на которые не скупилась его бывшая жена в бесконечных тирадах по телефону и которые неизменно заканчивались в таком духе: «Мне жаль эту маленькую дурочку, что пришла мне на смену, честное слово, мне искренне жаль эту Крошку Мисс Маффет,[5]5
Крошка Мисс Маффет-фольклорный персонаж, героиня детского стишка про девочку и спугнувшего ее паука.
[Закрыть] мерзкую потаскушку из квакерской семьи!»), позвонила им, и они немедленно приехали из Нью-Джерси. Напрягая сознание, он понял, что у медбрата возникли проблемы: то ли он пытался приладить какую-то трубку, засовывая ее в ноздрю, то ли, наоборот, хотел вытащить ее. Первыми словами, которые он произнес, открыв глаза, были: «Поаккуратнее, твою мать!» – после чего он снова провалился в беспамятство.
Когда к нему снова вернулось сознание, отец и мать сидели в палате на стульях. На их лицах он заметил печать тревоги и бесконечной усталости. Феба, державшая его за руку, примостилась на стуле рядом с койкой. Это была хорошенькая молодая женщина, спокойная и уравновешенная, но эта приятная внешность создавала неверное представление о ней. Она не выказывала ни малейшего страха и не допускала даже нотки тревоги в своем голосе. Однако Феба знала многое о физической немощи и страданиях, поскольку испытывала тяжелейшие головные боли примерно с двадцати лет, но тогда, в двадцать, она считала это пустяком, не заслуживающим внимания; позже, годам к тридцати, когда приступы участились и стали регулярными, она поняла, что страдает мигренями. Ей еще повезло, что она могла спать, когда у нее случался очередной приступ, но как только она открывала глаза, невыносимая боль накатывала с новой силой – голова буквально раскалывалась пополам, одна сторона лица и челюсть нестерпимо ныли, будто глазное яблоко было насквозь проткнуто острой спицей. Мигрень подступала так: перед глазами у нее возникали яркие световые спирали и пятна, они мельтешили, продолжая извиваться в безумной пляске, даже когда она прикрывала веки; затем она теряла ориентацию в пространстве, начиналось головокружение, ее пронзала дикая боль, к горлу подкатывала тошнота, и приступ заканчивался рвотой. «Я будто теряю связь с миром, – признавалась она ему, приходя в себя. – Я не чувствую своего тела – чувствую только, как что-то чудовищно давит мне на голову».
Он не знал, как помочь ей; единственное, что он мог сделать, – это вынести большую кастрюлю, в которую ее выворачивало, и выплеснуть рвотные массы в унитаз, а затем вернуться на цыпочках в спальню и снова поставить емкость рядом с ее кроватью на тот случай, если ее опять стошнит. Приступ мигрени продолжался сутки или двое, и в это время она не переносила чужого присутствия в затемненной комнате; ей было невыносимо видеть даже тонюсенькую серебристую полоску света, пробивающуюся сквозь щель меж задернутых штор. Ей не помогали никакие таблетки. Ни одна не оказывала исцеляющего действия. Если накатывала мигрень, приступ невозможно было купировать.
– Что со мной? – спросил он Фебу.
– Гнойный аппендицит. У тебя давно уже шел воспалительный процесс.
– Я умираю? – слабым голосом спросил он.
– У тебя сделался перитонит. Сейчас тебе откачивают гной из брюшной полости. Тебе поставили дренаж в живот и колют лошадиными дозами антибиотики. Но ты выкарабкаешься. Мы еще поплаваем с тобой в заливе.
В это было трудно поверить. В 1942 году его отец чуть не умер от аппендицита с перитонитом, потому что ему вовремя не поставили правильный диагноз. Отцу уже стукнуло сорок два, и у него на руках было двое маленьких детей; тогда ему пришлось провести в больнице тридцать шесть дней: о работе и думать было нечего. Когда его привезли домой, он был так слаб, что с трудом смог проползти по единственному лестничному пролету, ведущему к их квартире; с помощью жены он еле-еле дотащился от входной двери до кровати в своей спальне и, присев на краешек постели, внезапно потерял самообладание и впервые в жизни расплакался в присутствии жены и детей.
Одиннадцать лет тому назад от аппендицита умер самый младший брат отца, Сэмми, студент – третьекурсник инженерной школы, самый последний из восьми детей в их семье, всеобщий любимец. Только трое из восьмерых детей доучились до старших классов школы, а Сэмми был единственным, кто поступил в колледж. Друзьями у него были самые умные мальчишки со всей округи, все – дети евреев-иммигрантов, и они часто ходили друг к другу в гости, чтобы сыграть партию-другую в шахматы или поговорить о политике и философии. Сэмми был прирожденный лидер: первоклассный бегун, капитан спортивной команды, гений математических олимпиад. Именно его имя повторял отец, рыдая в своей спальне: старик никак не мог поверить, что вернулся обратно, в семью, чьим единственным кормильцем он был.
Дядя Сэмми, отец, а теперь он сам – третий в семье, кто пострадал от аппендицита с перитонитом. Пока он валялся в больнице, то приходя в сознание, то снова проваливаясь в черное марево в течение последующих двух суток, было неясно, чью судьбу он разделит – дядину или отцовскую.
Его брат Хоуи прилетел из Калифорнии на второй день после операции, и когда он открыл глаза и увидел у своей постели крупную фигуру брата и посмотрел на его доброе, внушающее доверие лицо, на котором отражалось безмятежное спокойствие и радость встречи, он подумал: «Пока Хоуи здесь, я не умру». Брат склонился над ним, чтобы поцеловать его в лоб; и как только Хоуи присел на стул у больничной койки и взял его за руку, время остановилось, настоящее рассеялось, и больной снова превратился в маленького мальчика, охраняемого от страхов и бед великодушным старшим братом, который в детстве спал на соседней кровати рядом с ним.
Хоуи пробыл у него четыре дня. Когда-то за четыре дня он успевал слетать в Манилу, Сингапур и Куала Лумпур и вернуться обратно. Он начинал работать в компании «Голдман Сакс»[6]6
«Голдман Сакс» – один из крупнейших в мире инвестиционных банков, лидер в сфере ценных бумаг и инвестиционного бизнеса.
[Закрыть] и быстро сделал карьеру, поднявшись от клерка, занимающегося рассылкой писем, до начальника отдела валютных продаж, и вскоре сам стал заниматься инвестициями и покупкой ценных бумаг. Теперь он посвятил себя скупке и продаже валюты на мировом рынке, работая с зарубежными корпорациями: виноделами из Франции, производителями фотоаппаратов в Западной Германии и изготовителями автомобилей в Японии, для которых он менял франки, немецкие марки и йены на доллары. Он много колесил по свету, встречаясь с клиентами и продолжая делать инвестиции в компании, которые считал надежными, и к тридцати двум годам уже сколотил свой первый миллион.
Отправив родителей домой отдыхать, Хоуи присоединился к Фебе и оставался с ним все самое тяжелое время после операции; он начал собирать вещи, только когда врачи его уверили, что кризис миновал. В утро перед отъездом Хоуи серьезно сказал ему:
– В этот раз ты отхватил очень хорошую девушку. Постарайся не испортить все, как всегда. Не дай ей уйти от тебя.
И радуясь тому, что сумел выжить, он подумал: есть ли на свете хоть один человек с такой неуемной жаждой жизни, как Хоуи? Наверно, мне повезло больше всех, потому что у меня есть такой брат!
Он провел в больнице тридцать дней. К нему приходили медсестры: славные, добросовестные молодые женщины с ирландским акцентом, у которых всегда хватало времени немного поболтать с ним, пока он проходил процедуры. Феба навещала его каждый вечер, сразу после работы, и даже ужинала у него в палате; он не мог представить себе, как он, в таком жалком состоянии, постоянно нуждаясь в посторонней помощи, обходился бы без нее. Хоуи не нужно было специально предупреждать его, чтобы он держался за Фебу: он и не собирался ее отпускать; более того, никогда еще он не был так уверен, что хочет остаться с женщиной навсегда.
Глядя в окно, он видел, как желтеют и опадают с деревьев листья: проходила неделя за неделей, кончался октябрь. Когда однажды хирург заглянул к нему в палату, он спросил:
– Когда вы меня выпустите отсюда? Я уже столько дней потерял: вся осень 1967 года прошла без меня.
Хирург, спокойно выслушав его сетования, с улыбкой ответил:
– Разве вы еще не поняли? Вы могли жизнь потерять.
Прошло двадцать два года. Двадцать два года, в течение которых он ни разу не жаловался на здоровье, и благодаря тому, что всегда был в отличной форме, он испытывал безграничную уверенность в себе. Двадцать два года враг по имени Болезнь не беспокоил его, и тревога не поджидала его в темном закоулке. Как-то он сказал, успокаивая себя, когда бродил вместе с Фебой под усыпанным звездами небом на острове Мартас-Винъярд: «Я буду думать о вечности, когда мне исполнится семьдесят пять».
Однажды августовским вечером 1989 года он внезапно почувствовал удушье – приступ начался в бассейне городского атлетического клуба, куда он заехал после больницы, где навещал своего умирающего отца, бывая у него ежедневно уже в течение целого месяца. Он вернулся из Нью – Джерси на полчаса раньше и решил окунуться, прежде чем вернуться домой, чтобы восстановить силы. Обычно он ходил в бассейн по утрам, где всегда проплывал не менее мили. Он практически не пил, никогда не курил, и вес его оставался стабильным – точно таким же, каким был в 1957 году, когда он вернулся домой после службы на флоте и начал работать в рекламном бизнесе. После случая с гнойным аппендицитом, когда перитонит едва не стоил ему жизни, он понял, что, как и все смертные, он может серьезно заболеть, но то, что человек, ведущий здоровый образ жизни и регулярно занимающийся спортом, может стать кандидатом на операцию на сердце, казалось ему абсурдом. Такого просто не могло быть.
Тем не менее он не смог даже доплыть до противоположной стороны бассейна, перекрыть короткую дистанцию, и вынужден был подобраться к бортику, где, зацепившись за выступ, замер, боясь шевельнуться, настолько тяжело ему было дышать. Он с трудом вылез из бассейна и, пытаясь успокоиться, сел на край, опустив ноги в воду. Он был уверен, что причиной удушья послужило беспокойство из-за состояния его отца, резко ухудшившегося за последний месяц. На самом деле ухудшилось его собственное здоровье, и когда он пошел к врачу, ЭКГ показала, что в его сердце произошли кардинальные изменения. Наблюдалась сильная закупорка главных коронарных артерий. Еще до наступления вечера он оказался на койке в кардиологическом центре Манхэттенского госпиталя, где вскоре ему вручили результаты ангиограммы, подтверждающей необходимость операции. В нос ему вставили трубки от кислородного баллона, на теле укрепили множество проводков, ведущих к кардиомонитору за его кроватью. Стоял только один вопрос: делать ли ему операцию прямо сейчас или можно подождать до утра.
Где-то посреди ночи его все же разбудили. Он увидел, что вокруг него столпились люди в белых халатах – врачи и медсестры, точно так же, как когда-то они сгрудились вокруг постели мальчика из его палаты, когда ему было девять. Все эти годы он жил, а маленький мальчик был мертв, и теперь он стал этим мальчиком.
Ему назначили какое-то внутривенное вливание, и он догадался, что врачи стараются предотвратить кризис. Он не понимал, что бормочут друг другу эти люди в белых халатах, а затем он, должно быть, заснул, потому что очнулся в тот момент, когда его на каталке уже везли в операционную.
Его нынешняя жена – третья и последняя – не имела никакого сходства с Фебой: она никогда не была помощницей в критической ситуации. Утром перед операцией она шла рядом с каталкой, заливаясь слезами и ломая руки, что отнюдь не вселяло в него бодрость. Не выдержав напряжения, она в конце концов воскликнула:
– А как же я?!
Его жена была слишком молода и неопытна – на ее долю пока не выпадало тяжких испытаний, и, возможно, она хотела сказать что-то совсем другое, но он воспринял ее слова так, будто она не знает, что с ней будет, если ему не удастся выжить.
– Давай не все сразу, – сказал он ей. – Сначала дай мне помереть. А потом я помогу тебе справиться с этим.
Операция продолжалась семь часов. Большую часть времени он был подключен к аппарату «сердце-легкие», который качал кровь и дышал вместо него. Хирурги вшили ему пять шунтов, и когда его вывезли из операционной, у него был длинный разрез вдоль грудной клетки и еще один, от паха до икры на правой ноге – именно из нее была вырезана вена для коронарного шунтирования, из которой выкроили четыре из пяти отрезков.
Когда его перевели в реанимацию, он обнаружил у себя в горле трубку, которая душила его так, будто он находился на грани смерти. Из-за трубки он чувствовал себя ужасно, но никак не мог сообщить об этом медсестре, которая объясняла ему, где он находится и что с ним произошло. Тут он снова потерял сознание, а когда пришел в себя, та же трубка, душившая его, все еще торчала у него из глотки, но теперь медсестра сообщила ему, что трубку уберут, как только врачи решат, что он может дышать самостоятельно. Над собой он увидел лицо своей молодой жены, радовавшейся его возвращению в мир живых, где он снова мог бы заботиться о ней.
Отправляясь в больницу, он дал ей одно-единственное поручение – забрать машину с улицы, где он ее припарковал, и отвезти на платную стоянку в квартале от больницы. Впоследствии выяснилось, что она оказалась совершенно беспомощной: доведенная до состояния нервного истощения, она не смогла справиться даже с такой элементарной задачей и вынуждена была просить одного из его друзей о помощи. Ему и в голову не приходило, каким наблюдательным человеком был его лечащий врач, даже если дело касалось вещей, далеких от медицины: спустя какое-то время после операции врач, как обычно, зайдя его проведать, сообщил, что не может выписать его из больницы на попечение жены, если больше некому обеспечить ему уход.
– Я не должен говорить вам такие вещи, это не мое дело, и ваши отношения с женой меня не касаются. Но мне случалось наблюдать за ее поведением, когда она приходила навещать вас. Эта женщина всегда сидит с отсутствующим видом, а у меня есть долг – заботиться о здоровье своих пациентов.
Но к этому времени уже появился Хоуи. Он прилетел из Европы, где занимался делами и играл в поло. Хоуи до сих пор катался на лыжах, участвовал в соревнованиях по стрельбе и играл в поло – и в водное, и в конное; он давно стал виртуозом в этих видах спорта, еще в те времена, когда учился в средней школе в Элизабет, где вместе с другими мальчишками из итальянских и ирландско-католических семей, чьи отцы работали докерами в порту, гонял мяч осенью и прыгал с шестом весной. Все эти увлечения не помешали ему окончить школу с весьма приличными отметками и стать стипендиатом Пенсильванского университета, а затем поступить в Школу Уортона,[7]7
Самая престижная бизнес-школа в мире, старейшая в США школа управления при Пенсильванском университете.
[Закрыть] где он получил МВА – степень магистра делового администрирования. Хотя его отец умирал в больнице Нью-Джерси, а брат еле – еле выкарабкивался после сложнейшей операции на сердце в Нью-Йорке, сам Хоуи, летая на самолете из одного штата в другой, чтобы посидеть то у постели больного брата, то у постели смертельно больного отца, не терял ни мужества, ни присутствия духа, которые никогда не покидали его, так же как и способность вселять уверенность в каждого, с кем он общался. Поддержка, оказываемая пятидесятишестилетнему больному его абсолютно здоровой тридцатилетней женой, оказалась никчемной, и заботу о брате взял на себя веселый и добродушный Хоуи, с лихвой компенсируя недостаток внимания со стороны его второй половины. Именно Хоуи предложил нанять ему двух частных сиделок – дневную, Морин Мразек, и ночную, Олив Пэррот, чтобы сменить на посту женщину, которую он однажды назвал «титанически безынициативной особой», а затем стал настаивать, несмотря на возражения брата, на том, чтобы именно он покрыл все расходы по оплате медперсонала.







