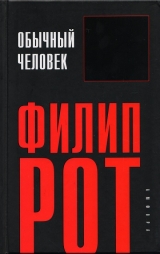
Текст книги "Обычный человек"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
– Ничего постыдного в этом нет.
– Есть, есть, еще как есть! – рыдала Миллисент. – Ты становишься беспомощным и жалким, и тебя все время кто-нибудь должен утешать и ухаживать за тобой.
– Учитывая данные обстоятельства, это никак нельзя назвать постыдным.
– Вы ошибаетесь. Вы просто не знаете. Зависимость, беспомощность, изоляция, страх – это все ужасно и постыдно. Боль заставляет бояться самого себя. Ты уже не такой как все – и это отвратительно. Вот отчего бросает в дрожь.
Ее угнетало то, что делает с людьми старость. Миллисент, не желая признаться в этом, чувствовала себя жалкой, униженной, изуродованной. Но кто не страдал от этих мыслей? На закате лет всех угнетает осознание того, во что они превратились. А он сам? Разве с ним не произошли перемены? Разве он не чувствовал, как убывают его силы, как он теряет свое мужское «я»? Ошибки, промахи, неудачи искорежили его тело, а удары судьбы, обрушившиеся на него как по его собственной, так и по чужой вине, деформировали его личность. Он понял, что именно придавало духовное величие ужасным телесным страданиям Миллисент, в миниатюре отразившимся в его невыразительных переживаниях: это была, конечно, ее непрекращающаяся, никогда не отпускающая боль. Даже фотографии внуков, даже фотографии бабушек и дедушек, развешенные по всему дому, не значили больше ничего: она даже не глядела на них. У нее не осталось ничего, кроме боли.
– Ш-ш-ш, – прошептал он. – Ш-ш-ш, успокойтесь. – И прежде чем вернуться в класс, он на секунду подошел к ее кровати и взял ее за руку. – Подождите, пока таблетка начнет действовать, и возвращайтесь в класс, когда почувствуете, что можете рисовать.
Через десять дней она покончила с собой, приняв лошадиную дозу снотворного.
В конце курса, продолжавшегося двенадцать недель, все его ученики выразили желание заниматься дальше, но он объявил, что у него изменились планы и что он сможет возобновить уроки только следующей осенью, бежав из Нью-Йорка, в качестве нового пристанища он выбрал побережье, так как всегда любил плавать и кататься на волнах, борясь с прибоем, а также потому, что с полоской пляжа в Джерси его связывали счастливые детские воспоминания. Была еще одна причина: даже если Нэнси откажется переехать к нему, он будет жить от нее в часе езды; к тому же водная стихия и свежий воздух всегда благотворно воздействовали на него, следовательно, переезд положительно скажется на его здоровье. В его жизни была теперь только одна женщина – его дочь. Она всегда звонила ему по утрам, перед уходом на работу, но в остальное время его телефон по большей части молчал. Он больше не искал любви сыновей от первого брака: если верить их словам или словам его бывшей жены, их матери, он никогда ничего хорошего для них не сделал, а опровергать эти бесконечные обвинения он уже был не в состоянии, – у сыновей была своя версия распада семьи, и, чтобы противостоять ей, нужно было обладать определенной напористостью, которая давно отсутствовала в его арсенале. Боевой настрой сменился великой печалью. Если он поддавался соблазну скоротать с кем – нибудь вечерок, чтобы не оставаться в полном одиночестве, потом его переполняла еще большая печаль, печаль, смешанная с чувством, что его побили как паршивую собаку.
Рэнди и Лонни заставляли его испытывать чувство вины, и он был не в состоянии объяснить им свой поступок. Он пытался поговорить с сыновьями, когда те были подростками, но они были слишком молоды и сердиты, чтобы понять его. И что они должны были понять? Ему казалась необъяснимой та радость, которую они испытывали, отталкивая отца. Он делал то, что хотел, и они делали то, что хотели. Можно ли было простить их ничем не пробиваемую позицию непрощения? Или смягчить хоть как-то их неприятие отца? Он был одним из миллионов американцев, прошедших через бракоразводный процесс, завершивший распад их семьи. Но разве он поднимал руку на их мать? Разве он поднимал руку на своих сыновей? Разве он не поддерживал материально их мать? Или не поддерживал сыновей? Разве хоть одному из них приходилось выпрашивать у него деньги? Был ли он хоть раз суров с ними? Разве он не делал попыток примирения? Чего можно было избежать? Что нужно было сделать, чтобы они лучше относились к нему? Как было объяснить им, что он не мог оставаться связанным узами брака, что он не мог больше жить с их матерью? Понимали ли они это или нет? К сожалению, нет, и это было печально, печально и для них, и для него самого. Они даже не понимали, что он потерял семью, членами которой они были. Несомненно, были вещи, которых он не понимал. Если даже так, ситуация от этого складывалась не менее печально. Кто мог утверждать, что печаль не витала вокруг и что раскаяние не вызывало разноголосую лавину вопросов, которые он задавал сам себе, пытаясь оправдать свой жизненный путь?
Он ничего не сказал им о череде госпитализаций, опасаясь, что его болезни всколыхнут волну мстительного удовольствия. Он был уверен, что смерть его вызовет бурю ликования – и все потому, что они никогда не вырастут из своих детских воспоминаний о том, что он бросил семью, чтобы жениться во второй раз. И потому, что в конце концов он оставил свою вторую семью, чтобы жениться на красотке – топ-модели, ни больше ни меньше, к тому же на двадцать шесть лет его моложе, которую, по словам Рэнди и Лонни, все, кроме него самого, считали идиоткой, безмозглой дурой и которую он подцепил за несколько дней съемок на Карибах, и она заменила ему всех, кто был с ним прежде, включая их двоих. Это обстоятельство только укрепило представление о нем как о лживом, безответственном, легкомысленном, незрелом человеке, любителе сексуальных авантюр. Он был не отец, не муж, а негодяй. Даже для ангелоподобной Фебы, ради которой он бросил жену и сыновей, он был негодяем. Он для всех них был лишь вконец изолгавшимся, похотливым кобелем. И самым абсурдным для его сыновей стало решение отца уже на склоне лет стать художником, и поскольку он серьезно занялся живописью и писал каждый день, Рэнди придумал для него ироническую кличку – Счастливый Сапожник.[12]12
Счастливый сапожник – персонаж басни Жана де Лaфонтена (1621–1685) «Откупщик и сапожник». Русский вариант басни известен в переложении И. А. Крылова. Согласно басне, сапожник становится счастлив только тогда, когда отказывается от мешка золота, полученного в подарок от откупщика.
[Закрыть]
Он никогда ничего не говорил в ответ, чтобы защитить себя, и не требовал справедливой оценки своих действий. Его третий брак основывался на необузданном желании, вожделении к женщине, которое никогда раньше не владело им с такой силой и не ослепляло его настолько, чтобы в пятьдесят лет играть в игры молодого человека. Он не спал с Фебой последние шесть лет их брака, тем не менее этот факт его интимной жизни не мог служить объяснением развода для его сыновей. Ему казалось, что его опыт семьянина (он был идеальным мужем для Фебы на протяжении целых пятнадцати лет и замечательным отцом для Нэнси в течение тринадцати, хорошим братом для Хоуи и примерным сыном своих родителей с самого рождения) не нуждается в объяснениях. Он полагал, что его карьера (он работал в рекламной компании уже двадцать лет) избавляет его от необходимости давать какие-то объяснения. Он пришел к выводу, что его роль отца Лонни и Рэнди ни в коем случае не требует никаких объяснений.
Тем не менее рассказы о том, как он вел себя всю свою жизнь, были даже не шаржем, а злобной карикатурой на него, пародией на то, кем он никогда не был; они старались умалить, растоптать все его достижения, которые были очевидны для всех остальных. Они лишали его чести и достоинства, преувеличивая недостатки и призывая к благоразумию, которое уже не могло проявляться у него с прежней силой в столь преклонном возрасте. Когда его сыновьям было уже под сорок, в отношениях с отцом они все еще оставались теми детьми, которых он бросил, разведясь с их матерью; они были его детьми, которые по самой своей природе не могли понять, что для каждого человеческого поступка имеется масса объяснений, детьми, которые, став взрослыми, разумными людьми, продолжали вести против него войну, а он не мог выстроить достойной обороны. Сыновья предпочитали, чтобы их отсутствующий отец страдал, и он испытывал муки, дав детям эту власть над собой. Единственное, что ему оставалось, – это страдать из-за своего дурного поступка, и он старался ублажать сыновей как мог: он платил свою дань, разыгрывая идеального отца и покорно принимая их плохо скрываемую ненависть.
Ах вы мерзкие ублюдки! Злобные уроды! Гнусное, поганое дерьмо! Изменилось бы хоть что-нибудь, если я был бы другим и вел себя иначе? Разве я не был бы таким одиноким? Конечно, все бы пошло по-другому. Но я сам виноват в том, что сделал. Теперь мне семьдесят один. И я такой, какой есть. Вот что я натворил и теперь сам должен расхлебывать последствия. Всё. На этом точка. Не убавишь, не прибавишь.
К счастью, все последние годы он поддерживал связь с Хоуи. Его старший брат по достижении шестидесяти лет ушел из компании «Голдман Сакс», так же как и все его коллеги, достигшие пенсионного возраста, за исключением трех – четырех человек из высшего руководства, но к этому времени его состояние насчитывало не менее пятидесяти миллионов. Вскоре он уже входил в совет директоров многочисленных корпораций и в конце концов стал главой совета директоров компании «Проктер энд Гэмбл»,[13]13
«Проктер энд Гэмбл»– глобальная американская корпорация, производящая средства женской гигиены, моющие и чистящие средства, детские подгузники, электробатарейки, корма для животных и др.
[Закрыть] на которую работал в юности, занимаясь покупкой и продажей ценных бумаг. Когда Хоуи перевалило за семьдесят, он все еще оставался крепким и деятельным мужчиной, готовым пахать без устали с утра до ночи. Он стал консультантом в одной бостонской фирме, специализирующейся на выкупе финансовых компаний, и много путешествовал по миру в поисках очередного контрольного пакета акций. Несмотря на то что Хоуи был очень занятым человеком и на нем лежала огромная ответственность, братья обменивались телефонными звонками раза два в месяц; разговоры по телефону всегда продолжались не менее часа: они вели неторопливую беседу, развлекая друг друга воспоминаниями о детстве, рассказывали смешные эпизоды из школьных лет жизни, обсуждали дни, проведенные в ювелирной лавке отца.
Теперь он неожиданно охладел к Хоуи, и во время беседы ответом на жизнерадостные реплики старшего брата было молчание. Причина была смехотворна. Он возненавидел Хоуи за то, что брат обладал крепким здоровьем. Он возненавидел Хоуи потому, что тот никогда в жизни не лежал в больнице и никогда не болел, а еще потому, что ни по единому участку его тела не прошелся скальпель хирурга и в артериях не торчало шесть металлических эндопротезов. Не было у Хоуи в груди и прибора, регулирующего сердечную деятельность, кардиостимулятора – это слово, когда он его услышал в первый раз из уст кардиолога, показалось ему вполне безобидным, как если бы оно имело отношение к системе велосипедных передач. Он возненавидел брата еще и потому, что они, появившись на свет от одних родителей, были внешне схожи между собой, но Хоуи унаследовал от них физическую силу и здоровье, а ему достались лишь сердечнососудистые болезни. Было смешно и глупо ненавидеть брата: Хоуи был не виноват в том, что судьба наделила его крепким здоровьем; он справедливо радовался тому, что в такие годы пребывает в такой хорошей физической форме. Было глупо ненавидеть брата за то, что он родился таким, а не другим. Раньше его не захлестывала ненависть к Хоуи: академические успехи и спортивные достижения не вызывали у него зависти; он никогда не завидовал старшему брату, думая о своих бывших женах и собственных сыновьях и сравнивая своих отпрысков с четырьмя сыновьями Хоуи, которые всегда с любовью относились к своему отцу; он никогда не завидовал и тому, что у брата была преданная жена, с которой тот прожил около пятидесяти лет, и они всегда оставались близкими друг другу людьми. Он гордился своим крепким, атлетически сложенным братом, который учился в школе на одни пятерки, восхищался им с раннего детства.
Когда он был еще подростком, выказывавшим способности к рисованию, чьим единственным спортивным увлечением было плавание, он безоглядно любил старшего брата и ходил за ним по пятам. Но теперь он ненавидел его, он жестоко ревновал и завидовал ему: в мыслях все его существо бунтовало против Хоуи, потому что брат обладал здоровьем и фантастическим жизнелюбием. Хотя в разговорах по телефону он подавлял в себе все иррациональные, ничем не оправданные вспышки ненависти, зреющей в его сознании, звонки друг другу за последние месяцы становились все реже, а беседы – короче, так что в итоге братья практически совсем перестали общаться.
Он не мог долго злиться на брата, желать ему зла: он завидовал ему, но не хотел, чтобы Хоуи потерял здоровье – это не помогло бы ему восстановить свое собственное. Ничто не могло помочь ему восстановить здоровье, вернуть молодость и укрепить талант. Впадая в бешенство, он в своих безумных рассуждениях доходил до абсурда, начиная думать, что отличное самочувствие Хоуи напрямую связано с его собственной немощью, хотя в глубине души понимал, что это далеко не так, поскольку, как все цивилизованные люди, ясно понимал, что равенство существует только как абстрактная идея, а в жизни у каждого своя судьба. Он снова вспомнил историю с острым аппендицитом, когда психоаналитик бойко приписал его недомогание жестокой зависти: в ту пору он, сын любящих родителей, был еще не знаком с такими чувствами, как зависть и ревность, и не думал, что счастье можно обрести, получив то, чем владеют другие. Но теперь он многое понял; в преклонном возрасте он открыл для себя то эмоциональное состояние, которое отнимает у завистника спокойствие и, что еще хуже, реальное восприятие жизни. Он ненавидел Хоуи за тот дар, который преподнесла ему природа, считая себя обделенным: ведь он тоже мог бы обладать тем, что имел его брат.
Внезапно он понял, что терпеть не может своего брата: он ненавидел его такой же примитивной, инстинктивной ненавистью, какую видел в глазах своих сыновей.
Он надеялся, что в его классе живописи появится женщина, которая сможет его заинтересовать, – это была одна из причин, по которой он стал преподавать в группах для взрослых. Он не мыслил себе существования под одной крышей с какой-нибудь малопривлекательной вдовой, приблизительно такого же возраста, как он сам, а пышущие здоровьем, крепкие молодые женщины с роскошными формами и каскадом блестящих на солнце волос, совершающие утреннюю пробежку в парке, неслись по дорожке мимо него. Ему казалось, что они были в сто раз красивее девушек в пору его юности, но у них хватало здравого смысла не останавливаться, чтобы поболтать с ним, и они лишь приветствовали его дежурной, ничего не значащей улыбкой. Он провожал их взглядом – смотреть на них было сплошное удовольствие, но это удовольствие было горьким для него, потому что, в душе испытывая к ним нежность, он одновременно погружался в уныние и печаль, которую еще более усиливало непереносимое чувство одиночества. Да, он сам выбрал свою судьбу, предпочтя остаться одному, но он не желал, чтобы это одиночество сделалось непереносимым. Самое скверное в чувстве одиночества то, что тебе нужно бороться с ним, иначе ты погибнешь. Тебе нужно работать над собой, обуздывая горестные мысли, надо заставить себя не думать о былом, не оглядываться назад, жадно вспоминая наполненное событиями прошлое.
И к тому же ему надоела живопись. Многие годы он мечтал о том, как выйдет на пенсию и наконец у него появится свободное время, чтобы писать картины, время для себя, когда никто ему не будет мешать. Так, наверно, думали тысячи тысяч постановщиков, которые зарабатывали себе на хлеб, трудясь с утра до ночи в рекламных агентствах. Переехав на побережье, он начал писать каждый день, но вскоре это занятие ему прискучило. Вначале он чувствовал подъем и воодушевление, но он потерпел фиаско: занятия живописью не могли заполнить целиком всю его оставшуюся жизнь. Идеи иссякли. Каждая следующая картина была похожа на предыдущую. Его яркие, красочные абстракции с успехом выставлялись на вернисажах местных художников из Старфиш Бич, и три его работы были не только вывешены в художественной галерее ближайшего городка, охотно посещаемой туристами, но и проданы завсегдатаям этого заведения. Но с тех пор прошло уже более двух лет. Теперь ему нечего было предъявить. Он исчерпал себя. Как художник он, вероятнее всего, навсегда останется не более чем «счастливым сапожником», как саркастически называл его один из сыновей. Он писал – будто живопись была для него священнодействием сродни заклинанию, изгнанию злых духов. Но каких духов он собирался изгнать? Духов древнего как мир самообмана? Или же он бросился в живопись как в пропасть, чтобы забыть о том, что ты рожден жить, но вместо этого тебе уготована смерть? Внезапно его озарило, что он затерялся в пустоте, что двусложное слово «ничто» и есть пустота, в которой он плывет в никуда, – и душу его начал заполнять ледяной ужас. Ничего нельзя добиться, если ничем не рисковать, думал он, все, абсолютно все имеет оборотную сторону, даже если ты пишешь дурацкие абстракции.
Как-то Нэнси спросила его о работе, и он объяснил дочери, что страдает «необратимой эстетической вазэктомией».[14]14
Вазэктомия, или мужская стерилизация, – блокирование семявыносящих протоков для предотвращения проходимости сперматозоидов.
[Закрыть]
– Ну что-нибудь должно поставить тебя на ноги, – парировала она со смехом, понимая отцовскую шутливую гиперболу. Нэнси всегда светилась добротой, унаследованной от матери: она не могла оставаться равнодушной к чужим бедам, особенно если кто-нибудь нуждался в ее помощи; она обладала редкими душевными качествами, проявляемыми ежедневно, ежечасно, а он катастрофически недооценивал ее порывы, отстраняясь от дочернего тепла, даже не осознавая, как трудно будет ему впоследствии обходиться без него.
– Мне уже ничего не поможет, – отвечал он. – Вот почему я так и не стал художником. У меня от занятий живописью неприятный привкус во рту.
– Знаешь, почему ты не стал художником? – задала вопрос Нэнси. – Да потому, что у тебя всегда была семья. Жены, дети, куча голодных ртов, которых всегда нужно было кормить. На тебе лежала большая ответственность.
– Я не стал художником потому, что я – не художник. И никогда не был художником. Ни тогда, ни сейчас.
– Ох, папа…
– Нет, ты дослушай… Я всю жизнь занимался мазней, понапрасну тратя время.
– Ты сейчас просто не в духе. Не надо себя унижать, ведь ты знаешь, что это не так. И я знаю, что это не так. Твои картины развешаны у меня по всему дому, и я клянусь, что никогда не считала мазней то, что ты делаешь. Ко мне приходят друзья, знакомые, смотрят на твои картины и спрашивают, чья это работа. Они интересуются твоими работами, обращают на них внимание. Они спрашивают, жив ли художник.
– Ну и что ты им отвечаешь?
– А теперь слушай меня внимательно: еще никто, ни разу не сказал мне, что твои картины – никчемная мазня. Люди ценят твои работы.
И смотрят на них как на прекрасное произведение искусства. И конечно же я говорю им, что ты живой, еще какой живой! – сказала Нэнси со смехом, и у него будто камень с души упал: в его семьдесят лет на него снова накатила волна любви к своей маленькой девочке. – Я всем говорю, что это мой отец написал все эти картины и что я ужасно горжусь тобой.
– Приятно слышать, детка.
– У меня там целая галерея твоих работ.
– Отлично! Твои слова – просто бальзам на сердце.
– Ты сейчас подавлен, мне это совершенно ясно. Ты – прекрасный художник. Я знаю о чем говорю. Если кому-либо на всем белом свете и дано право судить, какой ты художник, то это мне, твоей дочери.
И это после всего, что он сделал, бросив ее и предав Фебу! Она все еще хотела гордиться своим отцом, восхищаться им! Она была такой уже лет в десять – чистая, благоразумная девочка, единственным недостатком которой была безграничная щедрость. Его дочь, не причиняя никому вреда, всегда пыталась спрятаться от несчастья: она не желала видеть дурных поступков близких ей людей, закрывая глаза на чужие ошибки и искупая их своей переливающейся через край любовью. Она складывала скирдами прощение, будто сгребала сено, и неизбежно сама себе причиняла вред, глядя на мир сквозь розовые очки, как было в случае с одним сопляком, самодовольным хлыщом, в которого она сначала влюбилась, а потом вышла за него замуж.
– И не только я так думаю, пап. Так считают все, кто бывает у нас дома. Ко мне приходили разные няньки на собеседование, потому что Молли больше не может сидеть с детьми. Ну вот, на днях я разговаривала с одной замечательной девушкой, на которой решила остановиться. Ее зовут Таня, и она студентка, хочет немного подработать. Она состоит в Студенческой лиге художников, как и ты когда-то, – так она просто глаз не могла оторвать от картины, которая висит у меня в гостиной над сервантом, – такая желтенькая, ну, ты знаешь, о чем я говорю.
– Знаю.
– Она не могла от нее глаз отвести. Желто – черная. Это просто потрясающе. Я ей задаю вопросы, а она уставилась на полотно над сервантом и стоит. Она спрашивала меня, кто и когда написал эту вещь и где мне удалось ее купить. В твоих картинах есть что-то необыкновенно притягательное.
– Ты мне льстишь, дорогая.
– Нет, я честно говорю тебе все как есть.
– Спасибо.
– Ты еще вернешься к творчеству. Все будет как прежде. Живопись – это не то, что можно бросить просто так. К тебе все вернется. А пока отдыхай, наслаждайся жизнью. Ты живешь в таком прекрасном месте! Просто имей терпение. Дай себе время. Талант не исчезает бесследно. А пока радуйся, что стоят прекрасные дни, гуляй в свое удовольствие, ходи по берегу и любуйся океаном. Ничего у тебя не пропало и ничего не изменилось.
Как ни странно, ее слова оказались большим утешением для него, и все же он ни на секунду не поверил в то, что говорила ему дочь. Но желание выслушать слова утешения – уже великая вещь, особенно если утешение исходит от дочери, которая непонятно почему – быть может, по сверхъестественным причинам – все еще любит тебя.
– Я больше не катаюсь на волнах.
– Как это?
Рядом с ним была одна лишь Нэнси, но он почувствовал всю унизительность своего признания.
– Из-за волн. Потерял уверенность.
– Можно плавать и в бассейне.
– Можно.
– Ну и хорошо. Плавай в бассейне.
Он стал расспрашивать ее о близнецах, думая о том, что было бы, если бы он все еще жил с Фебой, если бы Феба сейчас была с ним, если бы только Нэнси не приходилось работать на износ, чтобы обихаживать отца в отсутствие преданной жены, если б только он не обижал Фебу, причиняя ей зло, если б только он не лгал! Ах, если б она не сказала ему: «Я никогда в жизни не смогу поверить тебе, потому что ты не умеешь говорить правду».
Это началось, когда ему было уже около пятидесяти. Молодые женщины были повсюду: и подружки фотографов, и секретарши, и стилисты, и модели, и сотрудницы рекламного агентства – толпы женщин, с которыми он и работал, и путешествовал, и приглашал на обед. Но самым удивительным было не то, что это вообще случилось, – он сделал это открытие, будучи еще «чьим-то мужем», – а то, что это случилось с ним так поздно, спустя годы после того, как страсть в браке давным-давно угасла. Она была прелестной темноволосой девушкой лет девятнадцати, которую он взял на место секретарши, и не прошло и двух недель, как он, едва успев расстегнуть ширинку, взял ее прямо на полу своего кабинета; она, даже не раздевшись, стояла перед ним на коленях, повернувшись к нему задом. Нельзя сказать, что он овладел ею насильно, но она была немало удивлена его поступком, как, впрочем, и он сам, не ожидавший от себя такой прыти, поскольку в ту пору еще ничем особенным не выделялся, полагая, что живет по общепринятым нормам и его поведение мало чем отличается от поведения всех прочих людей. Он вошел в нее легко, потому что внутри она была теплой и влажной, и в экстремальных условиях они быстро достигли сильного оргазма. Одним утром, когда она, еле успев подняться с пола, села за конторку в приемной, а он, поправляя одежду, все еще стоял посреди своего офиса с пылающим от возбуждения лицом, двери открылись и в кабинет вошел его босс, Кларенс, вице-президент компании, руководитель группы менеджмента и исполнительный директор их фирмы.
– А дом у нее есть? – спросил его Кларенс.
– Я не знаю, – ответил он, – наверно, да.
– Вот и ходи к ней домой, – сурово отрезал босс и вышел вон.
Но они уже не могли остановиться – они продолжали заниматься любовью день за днем и в том же месте, где начали, несмотря на то, что риск был подобен выступлению гимнастов на трапеции под куполом цирка и они оба могли все потерять. Весь день они находились так близко друг от друга, что остановиться было невозможно. Они думали только об одном: как она встанет на колени посреди его кабинета, а он, задрав ей юбку и схватив ее за волосы, стащит с нее трусики и войдет в нее со всем неистовством мужской силы, пренебрегая опасностью и не думая о том, что их могут застукать.
Вскоре он уехал на съемки в Гренаду. Он руководил проектом и вместе с приглашенным фотографом занимался кастингом: ему нужно было отобрать десять девушек для рекламы полотенец – предполагалось, что они будут позировать перед камерой на фоне небольшого озера в тропическом лесу. Каждую модель собирались облачить в короткую тунику, а на голове у каждой девушки, как будто она только что помыла голову, должен был красоваться тюрбан, скрученный из полотенца заказчика. После того как все обо всем договорились и идея была одобрена начальством, он сел в самолет, выбрав местечко, где бы ему никто не мешал, подальше от остальных, чтобы во время полета спокойно почитать и немного вздремнуть.
Самолет совершил посадку на Карибах, и он, спустившись на землю, отправился в зал ожидания; оглядевшись по сторонам, он увидел девушек, приглашенных для съемки, и, поприветствовав их, повел всех к другому самолету, поменьше, на котором они довольно быстро долетели до пункта назначения, где всю группу уже поджидало несколько автомобилей, и он, выбрав одну из малолитражек, напоминавших джип, сел в нее вместе с одной из моделей, приглянувшихся ему больше других еще в тот день, когда он проводил отбор и нанимал девушек на работу. Она оказалась единственной иностранкой из всей компании молоденьких американок, приглашенных на съемки, – датчанка по имени Мерете, и ей уже минуло двадцать четыре года – по возрасту она была самой старшей: всем остальным едва исполнилось восемнадцать-девятнадцать. Кто-то сидел за рулем, Мерете устроилась посередине, а он оказался сбоку, у окна. Уже наступила ночь, и на улице было очень темно. Они сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу, и он обнимал ее за плечи. Не успела машина тронуться с места, как его большой палец оказался у нее во рту, и он, сам не понимая, что происходит, подверг новому испытанию свой брак. Тот юный романтик, который когда-то решил ни за что на свете не жить двойной жизнью, теперь будто разрубил себя пополам.
Они прибыли в отель, и он пошел к себе в номер, где большую часть ночи провел без сна, думая о Мерете. На следующее утро, когда они встретились, она сказала ему: «А я вас ждала». Все произошло очень быстро, и роман был бурным. Весь день они снимали рекламный ролик у озера, затерявшегося в глубине леса, и работали до ночи не покладая рук, а когда вернулись назад, он выяснил, что подружка фотографа, которой тоже нашлась работа на съемках благодаря его хлопотам, сняла для него отдельный домик на берегу, и поскольку этот коттедж теперь принадлежал только ему, он тотчас же выехал из отеля; Мерете присоединилась к нему, и они вместе провели три счастливых дня у самой воды. По утрам, когда он, наплававшись в море, возвращался на берег, Мерете, на которой не было ничего, кроме полоски трусиков от купального костюма, ждала его на веранде. Они сразу же бросались в объятия друг другу, пока кожа его еще была влажной после долгого купания. В первые два дня он делал нерешительные движения, желая совокупиться с ней сзади, но, сдерживая себя, лишь поглаживал пальцами ее маленькие ягодицы, и в конце концов не выдержав, она сказала ему: «Если тебе так нравится моя маленькая дырочка, что тебя останавливает?»
Конечно же, он встречался с ней и по возвращении в Нью-Йорк. Каждый день, когда Мерете не была занята, он заходил к ней домой во время обеденного перерыва. И вот как-то, одним воскресным днем, прогуливаясь с Фебой и Нэнси по Третьей авеню, он случайно увидел Мерете, идущую по другой стороне улицы: она, распрямив плечи, двигалась легко и свободно – ее летящая походка, напоминающая движения сомнамбулы, всегда заставляла его обмирать; она шла по улице с уверенностью дикого зверя, будто она, Мерете Есперсен из Копенгагена, пересекала саванну Серенгети, как и тысячи африканских антилоп, пасущихся на необъятных просторах Национального парка, хотя на самом деле она всего лишь подходила к светофору на углу Семьдесят второй стрит, держа пакет с продуктами в руках. В то время от моделей еще не требовалось, чтобы они были худыми, как щепки, и задолго до того, как он приметил ее летящую походку и оценил копну золотых волос, ниспадающих до середины спины, он понял, что она – настоящее сокровище, которым должен владеть только он один; она была для него наградой, добычей белого охотника, который оценил ее тяжелые груди, скрывающиеся под легкой тканью блузки, и бугорок пониже спины с маленькой дырочкой, обещавшей ему неземное блаженство. Он не выказал ни страха, ни возбуждения, когда увидел Мерете, но, почувствовав странное томление, накатившее на него как болезнь, и, покончив с делами, сразу же отправился искать телефон, чтобы позвонить ей и поговорить наедине, – мысль о телефоне преследовала его весь остаток дня. То, что происходило с ним, никак не напоминало жажду обладания секретаршей на полу кабинета. Тогда он просто испытывал превосходство над всем ее существом – его влекла неодолимая сила сродни инстинкту выживания, с которым нельзя было не считаться. Роман с Мерете оказался самым рискованным предприятием в его жизни, самым бурным приключением; эта страсть, как он смутно начал осознавать, могла превратиться в ураган, сметающий все на своем пути. Только по прошествии многих лет ему пришло в голову, что в пятьдесят лет было смешно впадать в заблуждение, думая, что можно найти убежище – маленькую дырочку, которая заменит ему все остальное в жизни.
Несколько месяцев спустя он решил слетать в Париж, чтобы повидаться с Мерете.
Его возлюбленную пригласили работать в Европу на полтора месяца, и хотя они тайно беседовали по телефону не менее трех раз в день, переговоры не могли утолить желание, снедающее их обоих. Ровно за неделю до той субботы, когда они с женой должны были на машине съездить в Нью-Гемпшир, чтобы забрать Нэнси из летнего лагеря, он сообщил Фебе, что ему нужно на выходные слетать в Париж, чтобы присутствовать на очередных съемках. Он должен уехать в четверг вечером и вернуться в понедельник утром. Он объяснил, что с ним едет Эзра Поллок, их финансовый директор, и в Европе их уже будет ждать съемочная группа. Он знал, что Поллока не будет в городе до Дня труда,[15]15
День труда – национальный праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября.
[Закрыть] поскольку Эз собирался провести несколько дней с семьей на крохотном острове в океане, в нескольких милях от южной части Фрипорта, штат Мэн, в зоне, где нет сотовой связи, – местечко это было настолько удаленным от цивилизации, что там можно было даже наблюдать за тюленями, мирно дремлющими на уступах соседнего каменистого островка. Он дал Фебе телефон своего отеля в Париже и, десяток раз за день перебрав все возможности быть изобличенным в измене, решил, что особого риска нет, так что они с Мерете спокойно могут провести долгий уик-энд в самой знаменитой столице любовников. К его удивлению, у Фебы не возникло никаких подозрений и она с готовностью вызвалась забрать Нэнси сама. Жена его заранее радовалась долгожданной встрече с дочерью после летних каникул, и он точно так же сгорал от нетерпения, предвкушая отдых с Мерете после полуторамесячной разлуки; итак, он улетел в Париж в четверг вечером, мечтая о сладкой маленькой дырочке пониже спины, и, вожделея, представлял, как его подруге понравится то, что он будет проделывать с ней. Да, в своем воображении он видел только эту маленькую дырочку и весь долгий путь через Атлантику на самолете «Эйр Франс» не мог думать ни о чем другом.







