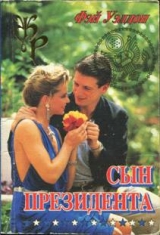
Текст книги "Сын президента"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Фэй Уэлдон
Сын президента
1
По воскресеньям, когда жизнь приостанавливается и все ждут новых важных событий, когда улицы пусты и неестественно тихи, и над страной нависает бремя долга, обитатели Уинкастер-роу приходят меня навестить. Они делают это по доброте, ведь я слепая, и я, тоже по доброте, смыкаю прошлое с настоящим, чтобы заполнить пустоту воскресного дня, и рассказываю им истории.
Сегодня я рассказываю им про Изабел; она влюбилась, и из-за этого весь мир дрогнул и повернул не в ту сторону.
Кап-кап, тук-тук!Слышите? Это стучит дождь по оконному стеклу. В такой день в таком месте легко представить, что важные события никак нас не касаются, что мы отрезаны от мира и от мирской суеты, что между простыми людьми и политикой стоит стена, и что основной поток жизни течет от нас далеко-далеко.
«Но это не так», – говорю я им. Изабел жила рядом с нами. Река течет сразу за садом; что еще важнее, она глубока, широка, мутна и коварна, это вовсе не спокойный журчащий ручеек, как вы надеетесь. Изабел чуть не утонула».
Кап-кап, тук-тук.Под конец все мы будем знать больше, чем вначале. Разве этого не достаточно, чтобы послужить основой жизни?
Естественно, женщины с Уинкастер-роу не согласны со мной. Стремления к познанию им явно недостаточно. Они хотят счастья, любви, секса, вкусных обедов, денег, качественных товаров, восхищения, смеющихся детей, и один Бог знает, чего еще. Они до сих пор живут в материальном, а не духовном мире.
Сегодня у меня одни женщины. Оливер, архитектор из 13-го номера, не смог прийти. И Айвор, алкаш из 17-го, тоже. Домашние обязанности. Зато пришли Цибела-Дженифер, из 9-го номера, снова на сносях, и злючка Хилари в крепких джинсах и неуклюжих сапогах из 11-го, и хорошенькая, умненькая неугомонная крошка Хоуп из 25-го, которой не сидится на месте – ей скучно без мужчин и того возбуждения, что дает секс, это необходимо ей, ворчит Хилари, как наркоману героин.
На Уинкастер-роу нет четных номеров. Противоположную сторону улицы снесли еще до того, как Общество по охране памятников старины успело встать – вернее лечь – на пути бульдозеров. Хилари до сих пор хромает в сырую погоду, и сейчас, слушая меня, она потирает искалеченное колено.
– А это правда, насчет Изабел? – спрашивает Хилари.
– Или ты все придумываешь?
Хилари, Дженифер и Хоуп полагают, будто правда должна быть точной и окончательной. Я же знаю, что это скорее гора, на которую вам надо взобраться. Вершина горы скрыта облаками; ее редко можно увидеть и невозможно достичь. К тому же то, Что вы увидите, зависит от того, на каком склоне вы стоите и насколько измучились, поднимаясь сюда. Главное – смотреть вверх. Лезть, карабкаться, взбираться, а порой радостно прыгать с одного надежного уступа – факта или чувства – на другой.
– Более или менее, – сказала я.
Изабел жила со мной рядом. В соседнем доме. И наполняла мой мир жизнью, энергией и суетой. Теперь дом пуст, между брусчаткой на дорожке к входной двери, там, где некогда маленький Джейсон, сын Изабел, играл и капризничал и, не зная узды, навязывал свою волю всему свету, пробиваются сорняки. Ворота со скрипом качаются взад-вперед. Агенты по продаже недвижимости воткнули среди сорняков плакат: «Продается», он стоит, как выросшее вдруг дерево, враждебное нам.
Кап-кап, тук-тук.Река подступает, она течет у самой двери. Держите наготове мешки с песком, кто знает, когда поднимется вода? Слышите? Дождь льет все сильнее.
– Меня не удивит, если все это правда, – говорит Дженифер. – Изабел не очень-то подходила к Уинкастер-роу.
– Она была безупречна, – говорит Хоуп, – ты это хочешь сказать? Она всего достигла, не в пример нам. Безупречный брак: современный, честный, все пополам. Полная договоренность.
Сказать по правде, многие из нас думают, что достигла всего как раз Хоуп: незамужняя, независимая, бездетная, молодая – ей нет и тридцати, – склонная влюбляться и способная вызывать любовь; маленькая, легкая, она бегает вприпрыжку по нашей улочке, замечая время от времени: «Хоть убейте, не понимаю, почему, если заниматься любовью так приятно, люди не делают этого всевремя?»
Уинкастер-роу находится в Кэмден-тауне на границе центрального Лондона. Остров преуспеяния в городском море обездоленных. Летом из распахнутых окон вылетают звуки Вивальди и Моцарта и разносятся по лужайкам и цветникам, заглушая полицейские сирены и звонки «скорой помощи». Зимой, хотя окна закрыты, тревожные сигналы звучат ближе. Из пыли и мусора здесь умудрились создать общественный сад. Этому способствовали Оливер, архитектор, и Дженифер, обожающая сады, а также кэмденский муниципальный совет, который печется о здешних местах, как ревнивое монолитное Божество.
Мы отнюдь не безупречны здесь, на Уинкастер-роу. Мы не так уж благоразумны, и не так уж благородны, и не так уж великодушны. Как и у всех других людей, что-то вызывает в нас страх, что-то – гнев, нас мучают навязчивые идеи. Но мы добры к нашим детям и друг к другу, мы стремимся к совершенству, а совершенствуя самих себя, мы совершенствуем и весь мир. Я думаю, мы хорошие люди.
Как-кап, тук-тук.Не обращайте внимания на дождь. Фермерам он нужен. Молитесь Богу, чтобы он не был радиоактивным.
Мы не столько соль земли – в наши дни это в порядке вещей, – сколько щепотка пряностей, придающих вкус любой пище. В большинстве своем мы работаем с людьми – мы учителя, сотрудники телевидения, киностудий и издательств, или каким-либо образом связаны с театром, во всяком случае, считаем, что следует иметь эту связь. Мы – социальные работники, дипломаты и государственные служащие. Мы стремимся к правде. И поднялись – с большим шумом – чуть ближе к вершине этой горы, чем остальной мир. Мы храбры, если нет другого выхода. Мы поставим общее» благо – если на нас нажмут – выше личных интересов. Мы даже способны умереть за принципы, если только они не вредят детям.
Мы забрались сюда, на этот остров цивилизации, принесенные течениями, курс которых нам неясен; и живем теперь лучше, чем когда-либо могли ожидать.
Во всем мире есть такие, как мы – тесные группки поборников правды – в Нью-Дели и Сиднее, в Хельсинки и Хьюстоне, во всех больших городах всех стран; и во всех небольших городках и деревнях; повсюду – в Блендфорде, Дорсете и Мус-Джо, в Саскачеване, Ташкенте и Джорджии есть горстки таких, как мы; для нашей доброй воли нет языковых барьеров и политических границ, это огромный всплеск взаимной доброты. Мы читаем книги друг друга, слушаем стихи. На утренних воскресных сборищах или во время аперитивов перед обедом равно в Москве или Окленде, Нью-Йорке, Осло или Маниле наши дети ведут себя безобразно, они с шумом носятся по комнате, и, тревожно провожая их глазами, родители спрашивают себя, в чем их ошибка, почему дети берут у родителей их недостатки, а не достоинства. Неуверенность в себе отличает нас не меньше, чем стремление к правде.
При любом сборище на Уинкастер-роу, в котором участвовали дети, Джейсон, сын Изабел, оказывался самым шумным, драчливым и непослушным. Это был белокурый, крепко сбитый мальчик с сильными плотными руками и ногами, ярким румянцем и широко расставленными блуждающими по сторонам голубыми глазами, одно время ему пришлось носить очки с закрытым стеклом, чтобы зафиксировать взгляд. В младенчестве он много ревел и мало спал. К году он уже ходил и ломал все вокруг, еще через три месяца заговорил, чтобы четко сказать: «Не хочу». В два года он знал все буквы, но в шесть все еще не желал читать. Когда ему не удавалось настоять на своем, он пускал в ход слезы, когда было скучно, в ход шло бесконечное жалобное хныканье. Он требовал, и он получал, и был всеобщим любимцем.
Кап-кап, тук-тук.Одних детей труднее растить, чем других. Но постепенно из этих, самых беспокойных детей, вырастают самые покладистые и легкие люди. Такова мудрость Уинкастер-роу. Если никто не приучает тебя к дисциплине, в конце концов ты дисциплинируешь себя сам. Еще Кропоткин – давным-давно – сказал это.
Изабел и Хомер тоже говорили это своим соседям и друг другу. Они делили между собой победы и поражения, к которым вели их взгляды, так же, как делили жизнь, доходы и домашние обязанности. Изабел и Хомер были партнерами в Современном Браке, где все обсуждается и все делится пополам. Для нас на Уинкастер-роу Изабел и Хомер являлись примером того, как надо жить, нас только тревожило, что они не совсем вписываются в наше сообщество: Хомер приехал из Америки, Изабел из Квинсленда, Австралия.
Кап-кап, тук-тук.Для слепого дождь – лишняя угроза. Палка скажет тебе, где край тротуара, но вряд ли ты узнаешь, глубока ли лужа на мостовой. В дождь я остаюсь дома. У меня хорошие друзья, заботливый муж и есть одно из тех устройств, которые переводят голос на машинопись для зрячих и шрифт Брайля для личного пользования слепого. Благодарение Господу за прогресс, полупроводники и деньги.
Дождь все сильней барабанит по стеклам. Хилари включает паровое отопление: середина лета, а холодно. Предзнаменование того, что нас ждет! Но разве мужчины и женщины не могут быть и друзьями, и любовниками? Родителями и в то же время партнерами?
Хомер и Изабел поженились потому, что должен был появиться Джейсон. Мне сказала об этом сама Изабел, как и о многих других интимных вещах. Она была моей близкой подругой. Когда я только ослепла, не кто иной, как Изабел присматривала за мной. Моему мужу, Лоренсу, часто приходится уезжать. Он журналист, ведущий расследования, ему принадлежат последние страницы газет, и он нередко уезжает из дома. Изабел была моим поводырем в новом для меня пугающем мраке, пока я к нему не привыкла. Она была хорошим поводырем: тогда она еще не понимала, что такое страх, лишь позднее ее до этого довели. Она не могла постигнуть, что именно пугает меня в моем новом обиталище, она благополучно скользила по поверхности материального мира, мимоходом напоминая мне об осязаемых предметах: осторожно, стул, осторожно, ступенька, и понятных вещах: ты не можешь прочитать счет за телефон, но можешь позвонить по телефону и спросить, сколько надо платить; она не придавала значения тому неосязаемому, которое пугало меня и сбивало с толку, – безмолвным воплям, стонам и рыданиям у меня в мозгу. В ней была своего рода черствость, которая мне помогала, поразительный здравый смысл: казалось, она вовсе не думает, что потеря зрения такое уж огромное событие. Она оставалась слепа к моей слепоте во всех смыслах, кроме практического.
И очень хорошо, потому что в первое время моя слепота была для моего мужа огромным событием, он был так преисполнен вины, раскаяния и жалости, что из-за слез, застилавших его глаза, с трудом мог увидеть собственный путь, не говоря о моем.
«Ради бога, Лоренс, – говорила обычно Изабел, – возвращайся в бар», – и он, спотыкаясь, выходил из комнаты, небритый, мрачный, предоставляя Изабел учить меня причесываться наизусть и ощупью отыскивать свое белье на полках шкафа. Само собой, я лишалась утешения, которое приносило мне присутствие Лоренса, хоть он и утомлял меня, и раздражал своими слезами, без конца повторяя: «О, все это бессмысленно, безнадежно. Это не начало конца, это – конец. Лучше признать свое поражение и умереть вместе».
Теперь, когда я больше не вижу людей, я храню воспоминания о том, как они выглядели. Они возникают на чистом листе моей памяти: рельефные, четко очерченные, словно вырезанные фигуры. Лоренс неясным контуром вырисовывается на пороге, закрывая собой свет, окаймляющий его: такой подлинный, коренастый, плотный; он стоит лицом ко мне, как квадратная глыба. Но вот он повернул голову, свет упал на лицо; глаза его широко расставлены – как у девушки, абрис щек так же тонок.
Изабел лежит на каменной плите, руки молитвенно сложены, как высеченная из мрамора фигура святой, достигшей великой славы при жизни и сохранившейся в наших сердцах после смерти. Свет, падающий сквозь витражи, освещает ее неправильный профиль и скользит по длинному телу с широкими бедрами и почти совсем опавшей после рождения сына грудью. Я «вижу» затем, как она вдруг садится, поворачивается, улыбается мне, встает, потягивается, гордая своим телом, уверенная в себе, и неторопливо уходит, такой фланирующей, беззаботной, современной походкой, что все мысли о каменных статуях и праведности вылетают у меня из головы.
После ее ухода в церкви холодно и пусто: я снова остаюсь одна в темноте.
Профиль у Изабел неправильный потому что, когда ей было девять лет, ее лягнула в подбородок любимая лошадь матери. «Пустяки, – сказала мать. – О чем тут тревожиться?»
Однако «воздушный» доктор встревожился. Изабел с матерью жили в глубине малонаселенных районов Австралии, где медицинская помощь носила временный или самодельный характер. Доктор прилетел, соединил, что надо, проволокой, наложил швы и укрепил зубы, и все было бы в порядке, если бы всего неделю спустя лошадь не ударила бы девочку по тому же месту. «Ради всего святого, – сказала мать, – что ты ей делаешь, этой лошади?»
Живите сегодняшним днем, сестры. Настоящим. Стройте свой дом крепким и безопасным, любите своих детей, умрите за них, если понадобится, и постарайтесь любить своих матерей, которые всего этого не сделали.
«Я погладила ее по спине, как ты велела», – сказала Изабел.
Но мать не слушала. Она пыталась передать по телефону вызов «воздушному» доктору. «Ума не приложу, как мне быть», – сказала она.
В то время в их краях уже начался сезон дождей, вертолет, на котором доктор возвращался от них на базу, разбился при посадке, и доктор сильно расшибся. Все утопало в желтой грязи, стоило выйти под дождь, начинала болеть голова. По той ли, по другой причине, о новом ушибе Изабел позабыли, и в результате подбородок ее стал слишком выдаваться вперед, губы расплющились, а зубы отклонились назад и находили друг на друга. Доктор лишился глаза и ноги. Изабел чувствовала себя за это в ответе, но впоследствии, все пережив, больше ничего не боялась. Неправильность подбородка и рта лишь подчеркивала прелесть остальных черт невозмутимо-приветливого лица с широко расставленными глазами, придавая ей своеобразное очарование в юности и интеллигентный вид, когда она стала старше. В душах парней, живущих в их необжитых краях и скитающихся по глухим уголкам этой непривлекательной в основном страны, Изабел вызывала равно любовь и вожделение.
Кап-кап, тук-тук.В Лондоне дождь неопасен и ласков для всех, всех, я хочу сказать, кроме слепых. Он бьет по твердой мостовой и уходит в водостоки. Он не топит всю страну в желтой грязи.
«Эта жизнь не для тебя, – сказала мать, когда Изабел исполнилось пятнадцать. – Не для таких, как ты. Лучше выбирайся отсюда».
«Уедем вместе», – сказала Изабел. У них обеих не было никого, кроме друг друга.
«А лошади? – сказала мать. – Я не могу их бросить».
Ну конечно же, Изабел на секунду забыла про лошадей. И не очень-то они были хорошие. Косматые, линяющие, больные животины, жертвы оводов и мух, они не выполняли никакой работы, лишь стояли с укоризненным видом на лугу и поглощали в виде тюков корма и счетов ветеринара то, что еще осталось от наследства Изабел. Летом они поднимали ногами пыль, зимой месили грязь.
Мать Изабел любила их, и Изабел тоже старалась ради матери их полюбить, но не могла. Чато и Уиндус, Хейнеман и Варбург, Герберт и Дженкинс (Секер сдох от укуса змеи), все до единого – напоминания о прошлом матери. Мать Изабел выросла в литературных кругах Лондона и была перенесена оттуда вглубь Австралии отцом Изабел – фермером-австралийцем. Вскоре он ушел воевать и так и не вернулся обратно, предпочтя жизнь в травяной хижине с малазийской девушкой жизни с матерью Изабел и ею самой. Мать и дочь остались там, где были, продавая постепенно землю, одну тысячу акров за другой, пока не потеряли все, кроме кишащего жучком деревянного дома с шатким балконом, шести лошадей на единственном лугу, змей, спящих в сухом, как порох, подлеске, и друг друга.
А куда было ехать матери, унылой, желтой, вросшей в пейзаж? Что еще оставалось? Пригвожденной к месту войной, мировыми событиями, собственной упрямой натурой и младенцем. Когда шли дожди, ей казалось, – будто небо по ее просьбе мстит за нее, ну, а если и ее утопит, быть по сему. Кап-кап, тук-тук.
«Но что ты будешь делать, когда я уеду?» – спросила Изабел.
«То, что всегда делаю, – ответила мать. – Смотреть на горизонт».
Изабел подумала, что мать будет рада, когда она уедет, что мать уже выполнила перед ней свой долг. И, хотя она, Изабел, чувствует неразрывную близость с матерью, мать не чувствует того же по отношению к ней. Ребенок для матери явление случайное. Эпизод. Мать для ребенка – основа жизни. Горький урок для ребенка.
Тело Секера отправили на живодерню; все, кроме головы, из которой мать отдала сделать чучело и повесила в передней. Окруженная мухами лошадиная голова провожала Изабел стеклянными глазами в тот день, когда она покидала дом. Секер был той самой лошадью, что изуродовала ей лицо; мать рыдала над его чудовищно раздувшимся телом.
«Почему ты плачешь?» – спросила тогда Изабел. Никогда раньше она не видела у матери слез.
«Все пошло вкривь и вкось, – сказала мать. – Война. А когда она кончилась, разве могла я вернуться? Люди сказали бы: «Мы тебе говорили». Никто не хотел, чтобы я выходила за твоего отца. Люди твердили, что из этого не будет толку».
«Какие люди?»
«Люди», – горестно сказала мать.
И правда, кто были эти люди? Друзей и родных Хэриет раскидало во все концы. Вот, что творит война. Она хватает семьи за шиворот, трясет и швыряет в воздух, и даже не побеспокоится взглянуть, куда ты упал, – в точности, как деревенские собаки, когда гоняют крыс.
Но мать Изабел жила не в Европе и, естественно, не видела войны. Война катилась по далеким континентам, убивая все, чего касалась. А мать Изабел сидела, уставясь на желтый горизонт, сегодня такой же, как вчера, на всходившее и заходившее красное солнце, и люди ее прошлого, осудившие ее, постепенно стирались из памяти. Возьмет кто-нибудь на себя труд сказать: «Я тебе говорила»? Конечно, нет. Остался кто-нибудь, чтобы сказать? Мать этого уже не знала. Она не отвечала на письма, и постепенно они перестали приходить.
И теперь она рыдала над Секером, который искалечил лицо ее дочери, зато сохранил ее как личность.
«Плохо быть красивой, – сказала как-то мать Изабел. – Это не приносит счастья. Если ты красива, какой-нибудь мужчина возьмет тебя в жены и не даст пробить себе дорогу в жизни».
Палящее солнце и секущие дожди задубили кожу Хэриет, упрямство искривило рот, а постоянное разглядывание горизонта обвело глаза красным ободком. Но когда-то она была красива. Изабел и сейчас считала мать красавицей. То же, наверное, считал и отец, давным-давно.
Мать Изабел не желала говорить об ее отце. «Он делал все, что ему заблагорассудится, – большего от нее нельзя было добиться, – как и все мужчины».
Изабел думала, что он, верно, был очень сильным, если мог обрабатывать на свой страх и риск столько акров земли, и могущественным, чтобы распоряжаться ею. Она думала, что он, верно, был одним из истинных хозяев этой страны – высоких, худощавых, бронзовых от загара, неразборчивых в средствах, с заострившимися от горячего ветра чертами лица; их окружали табуны лошадей, своры собак и всякая шушера – краснолицые, отупевшие от пива людишки, невежественные и грубые. Если им попадался под ноги цветок, они со смехом топтали его. Если им попадалась собака, они ее пинали. Вот почему собаки рычали и кусались.
Она не представляла мать рядом с таким человеком. К тому же у матери бывали видения, Изабел не сомневалась в этом. Порой матери являлась в желтой пыли или в рыжих тучах, клубившихся над плоской землей, частица божественного откровения, лицо ее освещалось, и она вздыхала от удовольствия.
«В чем дело? – спрашивала маленькая Изабел. – Там что-нибудь есть?» «Больше, чем я могу выразить», – говорила мать, отводя глаза от горизонта, и вновь принималась чистить закопченное дно жестяной кастрюли.
Изабел оторвала ногу у своей любимой куклы, вымазала ее бараньим жиром и дала грызть собакам.
Изабел сама мне рассказала. Она никогда не признавалась в этом никому, кроме меня, ни Хомеру, ее мужу, и уже тем более Джейсону, ее сыну. Я слепая, я не стану ее осуждать, на меня можно положиться.
Кап-кап, тук-тук.Дженифер заварила чай. Хилари протягивает мне тарелку с печеньем.
«Шоколадные дольки и лимонные слойки», – говорит она, описывая содержимое тарелки.
Я беру шоколадную дольку. Лимонные слойки крошатся и сыплются на ковер, и хотя слепые могут орудовать пылесосом, делают они это довольно неумело. Слойки принесла Хоуп. Не очень умно с ее стороны.
Я потеряла зрение два года назад. Не глядя, перебегала дорогу и оказалась под машиной. Меня бросило на капот, снова на землю, и я ударилась затылком о поребрик, тем местом слева от продолговатого мозга, которое заведует зрением. Удар причинил мне вред, сущность которого так и не ясна, просто мои глаза не могут зафиксировать то, что они видят. Это вызывает интерес глазных специалистов, хирургов и даже психиатров, и я без конца хожу в больницу, где они осматривают и обследуют меня, впрыскивают лекарства и всячески вторгаются в мой организм. Они сделали мне операцию, после которой левая сторона правой кисти перестала чувствовать холод и жар, но единственное, чего они добились, это боль, страх и унижение, испытанные мной. Время от времени какой-нибудь раздражительный врач говорил: «Я уверен, вы могли бы видеть, если бы захотели».
В слепоте, естественно, есть своя иерархия, как и многое другое. Поскольку мое печальное состояние непостижимо, чуть ли не предумышленно, а глаза по виду не отличаются от глаз зрячих, я стою на высшей ступени. Благородная слепота. Родиться слепым или ослепнуть из-за болезни котируется ниже. Презренная слепота, Божья кара. Мы не можем отделаться от чувства, что, если Бог поражает нас слепотой при рождении, значит, мы заслужили это. В конце концов миллионы жителей Индии свято в это верят.
Но со мной-то был несчастный случай! Несчастный случай может произойти с кем угодно. Это драматичное и увлекательное событие, дети любят несчастные случаи не меньше, чем гипсовые повязки – свидетельство беды. Я выбежала на улицу, потому что поссорилась с Лоренсом, своим мужем, а машину за спиной не увидела, потому что плакала, а возможно, просто не захотела увидеть.
Послушайте, как дождь бьет по окнам! Летний дождь. Каждая капля – потерянная человеческая душа, гонимая ветрами, которых ей не постичь; она старается проникнуть к нам сюда, где безопасно и тепло, где мы собираем воедино свои немощи и пытаемся получше использовать то, что у нас есть. Будьте благодарны стеклу, ограждающему вас от яростных, сотрясающих окна ударов. Драпируйте их занавесями, протирайте до блеска в ясные дни; и не старайтесь видеть сквозь них слишком много – лишь столько, сколько нужно, чтобы остаться в живых. Берегите свой душевный покой. Времени в обрез, все кончается смертью. Не слишком сокрушайтесь о прошлом, не страшитесь будущего, не тратьте слишком много сил на чужие горести, не то настоящее обратится в ничто.
Всему этому, сама того не зная, меня научила Изабел. Мало-помалу она открывала мне свою историю и саму себя. Кап-кап, тук-тук.Задерните занавеси.








