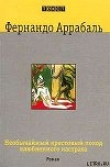Текст книги "Красная мадонна"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Вот так же, из чистого каприза знаменитости, лица, привыкшего красоваться на афишах, не мытьем так катаньем втерся он в твою жизнь и тем самым в мою тоже. Он мечтал погубить твою миссию, пустив прахом плоды твоего труда. Это его стараниями иностранные знаменитости – Г. Дж. Уэллс, Зигмунд Фрейд и Хэвлок Эллис – заинтересовались тем, что он называл «твой случай». Бенжамен совратил и Абеляра, заразив его своей причудой: за моей спиной он даже пожаловал ему звание наперсника. Наконец, я узнала, что он создал инквизиционную комиссию, чтобы вволю порыться в наших жизнях и составить на нас досье.
Мне приснился пианист; он выпустил из пращи семь камней в одинокий утес, возвышавшийся посреди моря. На скале было искусно высечено твое лицо. Семь камней отскочили от барельефа, изображавшего тебя, и размозжили пианисту голову.
Когда я поняла, что эти посторонние люди пытаются овладеть твоим разумом, чтобы разрушить его, я уговорила тебя кормиться самой и еще прибавить в силе и в знаниях. Так, решила я, ты станешь несокрушимой и неуязвимой.
Мудрость твоя была столь ослепительна, что ты, восхищавшая всех, постепенно стала вызывать зависть. Бенжамена и его упрямых иностранцев прельщали лишь суетные диковинки. Они были падки до теорий, столь же блестящих внешне, сколь пустых на поверку. Им было неведомо человеколюбие!
Ты ведь была не только, как говорил Бенжамен, самый заурядный из твоих поклонников, необычайно одарена – ты была состоявшимся ученым первой величины, в мастерстве достигшим совершенства. Какой дивный свет излучала ты во мраке этого мира, в котором мы жили! Ты сияла, точно неугасимый светильник.
XCVI
Зависть пустила глубоко в землю неистребимые корни клеветы. Одни цинично уверяли, будто видели, как ты сидела, расставив ноги, и курила глиняную трубку, другие врали еще бесстыднее, что ты пишешь совершенно голая у открытого окна. Даже от садовников я слышала эти бредни, которые сочиняли, чтобы ославить тебя. И ты сама в своем тайном дневнике представала на фоне поруганий и духовных увечий. С какой болью читала я твои заносчивые слова в «Преисподней».
«Мне наср… на науку. – Да здравствует бедлам! – Я валяюсь голая на солнце, и на мне кишат вши. – Я буду делать все, что мне запрещают».
Я никогда ничего тебе не запрещала, никогда, никогда в жизни! На твоей свободной воле зиждился фундамент замысла, и она же скрепляла его суть. Огнем и серой была твоя свобода, кормилица, не сгорающая в пламени и не подверженная никакому тлену, бесценное побуждение творить.
«Я буду жить одна – всю жизнь – без семьи. – Буду молчать, потому что могу изъясняться лишь на тех языках, которые выучила. – Я буду ленива и груба!»
Ты шла прямым путем к бессмертию – и писала такое, будто твой разум и вправду был отравлен пороком и страшился смерти. Ты источала энергию и здоровье каждой порой твоей кожи – а изъяснялась так, словно уже познала агонию и предсмертный хрип. Сказать по правде, меч, которым ты полосовала себя в «Преисподней», и шпатель, которым наносила целительный бальзам в горниле, таили в себе единую суть: тебе было дано и умерщвлять и возрождать, и разрушать и строить.
Ты не опускала рук, и тебе были нипочем жар горнила и угольные шлаки, опасность непредсказуемых реакций, бессонные ночи и колоссальный физический труд. Я не могла видеть миражей, которые возникали, подобно воздушным замкам, при поверхностном чтении написанного тобою. Свойства, присущие двум твоим противоположным натурам, были неразделимы в единой исконной материи. Ты порождала диалог между пагубой и гармонией – и как плодотворно!
XCVII
Абеляр стал посещать нас, едва лишь узнал, что он здоров, и на смену трепетному страху перед приступами боли и уныния пришло ликование души, полной радужных надежд. Как он переменился! Недуг отступил, и его истощенное тело налилось в считанные дни.
Шевалье же с каждым днем худел, словно смерть тянула его к себе. Обессиленный, он угасал, лежа на своей каталке. Он боялся докучать нам и жаловался крайне сдержанно.
«У меня ужасно болит колено. Будто туда воткнули раскаленный добела гвоздь. Эта пронзительная боль взбирается, содрогаясь, по моим костям, от пятки до макушки, и кажется, что душа сейчас разорвется».
Врачи, пользовавшие Шевалье, поставили диагноз – опухоль в колене – и настаивали на ампутации ноги. Абеляр заботился о нем, но на его муки взирал со странным благодушием.
Стоило Шевалье шевельнуть пальцем, как боли усиливались, нарастая.
«Вам страшно, не правда ли, до чего я стал тощий? Ни дать ни взять хребет рыбы, только без костей. Что это за кровать, я не могу пошевелиться, саднит спину и ж… Всю ночь ни на минуту не смыкаю глаз».
Его раздувшееся колено покачивалось, точно огромная тыква. Мы пытались кормить его, но от любой пищи его тошнило. Лихорадка и боль вползали червем в его мозг, извиваясь в сумятице бреда.
«Как я несчастен! Как убога моя жизнь! Зачем я еще живу?»
Абеляр, ухаживая за другом, непонятно чему радовался. Неуместный оптимизм, никому не приносивший вреда, но тягостный, бил из него ключом.
«Не стоит так мрачно смотреть на жизнь. Все болезни проходят, нужно только время и хороший уход».
А ты – ты знала, что у того, кто вкусил плодов с Древа Знания, разум осенен благоговением и усладами истины.
XCVIII
Согласиться на те глупые университетские экзамены в нашем особняке – какой это было чудовищной ошибкой! Мы потребовали, чтобы не было никакой огласки, но Профессорский Совет обманул наше доверие, устроив импровизированный митинг у самых дверей. Охваченная нетерпением толпа бушевала, ожидая законного позволения разрушить все, что мы воздвигли за годы учения и любви.
С каким самодовольством красовался перед публикой Ректор Университета, недалекий и тщеславный человечишка – на его тонкие ножки так и просились шпоры. Он одобрительно отозвался о твоем образовании, назвав его всесторонним и энциклопедическим. Он выразил восхищение оригинальностью твоих идей с таким апломбом, будто что-нибудь в них понимал. Он голословно заверил, что ты пользуешься большим авторитетом во всем мире. Он напыщенно заявил, что ты уже обладаешь всем интеллектуальным багажом, который могла получить дома самостоятельно. Он педантично предрек, что в будущем ты столкнешься с неизбежными препятствиями, исчерпав собственные возможности обогащения твоего исключительного ума. Он сообщил, что намерен создать комиссию, в состав которой войдут самые титулованные академики, для продолжения твоего образования. В завуалированной, но безапелляционной форме он раскритиковал меня, тем самым показав со всей очевидностью, что наука служила ему лишь прикрытием.
Они мечтали завлечь тебя, залучить в стадо позитивистов. Самый оголтелый прозелитизм лился в твои уши. Непоколебимая решимость совладать с твоим инакомыслием витала над тошнотворным фимиамом. Твое знание лишало всякого смысла их пустые убеждения и столь банальные методы. Вот почему они так старались сделать тебя овцой в своем стаде – любой ценой, даже рискуя погасить свет, озарявший твой разум.
В ночь после митинга мне приснилось, будто ты надевала костюм укротительницы на сцене театра под открытым небом. Из суфлерской будки, шипя, выползала змея. Ты смотрела на нее в упор, и под твоим взглядом она укусила собственный хвост и стала замкнутым кругом – символом равновесия, гармонии, единения и родства душ. В центр круга ты поместила табличку с надписью: «Дружба».
IC
Абеляр, проведший долгие годы одной ногой в могиле, после несчастья с Шевалье зажил суетной жизнью в непрерывном движении, подобном бурному морю. Каждый день он куда-то уходил. Сколько времени теряла с ним ты, подхваченная этой штормовой волной! Как беспокоил меня этот крен, вдруг развернувший тебя к человеку, который был для тебя почти отцом. По правде говоря, такой долгий путь разделял вас, что он вполне мог бы приходиться тебе и дедом.
Сколько раз мучилась я вопросом, не читаешь ли ты вместе с ним письма Бенжамена, не отвечаете ли вы вдвоем соглядатаям из-за границы. Какая паутина сплетен плелась за моей спиной!
Рука боли терзала рассудок Шевалье наваждением, и он окончательно потерял покой.
«Только не предавай меня. Прошу тебя ради всего святого. Главное – не доноси на меня военным, при моем-то состоянии здоровья».
Навязчивая идея поселилась в его мозгу, и он не мог от нее избавиться, панически боясь, что его заберут за дезертирство, потому что он не служил в армии.
«Пусть никто не называет меня Шевалье при врачах и сиделках. Скажи, что мое имя Адан. С армейского командования станется заточить меня в крепость, даже парализованного. Не предавай меня, умоляю!»
Я тоже, хоть и в силу иных причин, чувствовала себя за решеткой предательства и мучилась от коварных подножек измены.
Мне приснился дельфин; словно живой образ смятения и разлада, он обвивался вокруг центральной оси, которая была корабельным якорем. Вместе возвещали они о всемирном потопе. Но, поборов воду, проступила земля под ликом Дианы.
С тех пор как Шевалье стал угасать в страданиях, Абеляр сделался таким экспансивным! Он по-прежнему ухаживал за ним, не жалея сил, но как мало было в его заботах любви и преданности!
С
Сколько сомнений одолевало меня теперь, когда замысел вступил на самый многообещающий путь. Как всегда, ты проводила ночи за работой, не смыкая глаз, в подвале, – но сколько раз уносилась мыслями в фантазии, погрузившись в созерцание, забывшись, во власти необоримых искушений.
Умалялось твое мастерство, и слабела бдительность. Ты сама обкрадывала свои добродетели, и от этого страдал плод твоего труда. Твоей энергии больше не хватало, чтобы установить связь прежней силы. Как часто я видела тебя с Абеляром! Сколько вечеров проводила ты с ним неразлучно! Как долго я не замечала, до чего сильно его влияние! Как быстро взыграла в тебе гордыня, вытеснив здравомыслие! Самодовольство твое сделало тебя столь надменной, что поистине тяжко тебе было терять величие, садясь на жесткий табурет, что стоял у твоей печи. И все же сила твоя была и оставалась чистейшим пламенем.
Столь свободный разум твой ты пыталась заточить в телесную оболочку, как в стальной сейф. Однажды я застала тебя перед зеркалом – ты созерцала первый в твоей жизни эфемерный силуэт, которому суждено обратиться во прах. Ты изживала в себе скромность, и невдомек тебе было, что, поступая так, ты безвозвратно губишь замысел.
И все же ночами ты была со мной, ты садилась у горнила и трудилась почти с той же решимостью, что и прежде. Словно тело было дано тебе для низменных надобностей, а душа для высоких дел.
И как только ты принималась за работу, тяжелые черные тучи рассеивались и разгорался восторг. Ты воплощала замысел с таким искусством, что тайная его работа осуществлялась сама собой. И я любила тебя так пылко!
Однажды ночью, перед тем как лечь спать, ты сказала мне:
«Мама, пока я смогу дышать, я буду надеяться».
Позже я поднялась и зашла в твою спальню, отчего-то чуть-чуть встревожившись. Тебя там не было. С невыразимой печалью подумала я, что мимолетно, всего на несколько часов, но ты превратилась в рабыню.
CI
С какой беспечностью сказала ты мне, что провела эту ночь с Абеляром. Воли твоей не хватало, чтобы измыслить мотивы для столь долгих бесед. Я представляла себе, как ты читаешь и перечитываешь письма из-за границы. Абеляр изрядно прибавил в теле, но чувства его сильно изменились в худшую сторону – до такой степени, что он даже осмелился сказать мне:
«Хэвлок Эллис хочет только блага вашей дочери. Это современный сексолог, известный во всем мире. Вдобавок он специалист по евгенике. Бенжамен часто с ним видится и восхищается им. Этот профессор советует вашей дочери поехать для продолжения учебы в Англию. Вы не должны этому противиться».
Я не узнавала в этом человеке, поучавшем меня, прежнего, верного и благоразумного Абеляра, которого я знала столько лет. Болезнь Шевалье и собственное исцеление сказались на его рассудке.
«Если вы ничего не имеете против, я могу поехать с вашей дочерью».
То была вспышка пламени, на несколько мгновений ослепившая меня. Абеляр сам обеднил свой дух, поставив себя на одну доску с Бенжаменом. Оба они пали ниже некуда и сравнялись в малодушии и заблуждениях.
«В Англии она попадет наконец в среду, необходимую ей, чтобы завершить свое образование».
Твое образование – и Абеляр прекрасно это знал – ты могла продолжать только в нашем особняке. Знания и мудрость, благоразумие, опыт и постижение вливались в тебя, когда ты занималась своею работой у нас в подвале.
«В Шевалье так мало осталось жизни. Он даже не замечает, что я ухожу гулять. Дай Бог, чтобы он не слишком мучился во время своей медленной агонии и без страданий покинул этот мир».
И с каким же легким сердцем Абеляр, в свою очередь, был готов покинуть своего друга!
В ту ночь, работая в подвале, ты впервые выдержала испытание огнем. Каким красноречивым символом стала твоя обожженная рука – символом жертвенности и возрождения, которых требует замысел.
CII
С каким сокрушением, с какой горечью читала я поток откровений в твоем тайном дневнике:
«Убожество, извращение, мерзость, ненависть – вот ценности, которым я отдаю все мои предпочтения. – Я смеюсь надо всем, как набитая дура. – Я кормлюсь шарлатанством».
Абеляр, Бенжамен и Профессорский Совет Университета преследовали тебя и не давали мне покоя своими нотациями. В одиночку встала я на твою защиту, сказав тебе, что за все придется платить страданием; но они так ловко вворачивали свои комплименты и так грубо льстили тебе, что притупили все твои чувства. Поэтому ты записывала в «Преисподней» все больше и больше нелепиц.
«Я упиваюсь позором. – Я люблю ложь. – Более того, я чту ее как богоравную. – Я буду купаться в свежей крови только что убиенных. – Я из породы тех, что свистят, когда истязают».
С легкой руки Абеляра ты стала носить невозможно вульгарные юбки! Глядя на тебя в этом отвратительно пышном купоне органди, я вспомнила мою сестру Лулу и сказала тебе:
«Лучше бы мне увидеть тебя мертвой, чем духовно опустившейся. У тебя есть предназначение в жизни, ты должна выполнить миссию».
А ты, в чужих перьях, смотрела на меня свысока так властно.
«Я помню это, мама. Как помню и то, что мне решать, каким будет мой путь».
Впервые мы с тобой поссорились. Как ошеломила меня твоя заносчивость! В угаре твоей гордыни мне было так трудно дышать, что я едва не задохнулась. Я заперлась у себя в комнате, оцепенев от изумления. Я была уверена, что тебя еще не поздно спасти, что ты останешься жива и невредима после столь чудовищного опыта. Я подготовила тебя к нему по неразумению. Я лелеяла мысль, что эти позорные перипетии все же заставят тебя задуматься о Грехе.
Я была убеждена, что ты еще можешь вернуться к благости.
CIII
Хирурги ампутировали ногу Шевалье, но не избавили от болей, которые мучительными приступами терзали теперь культю с удвоенной силой. Как он страдал! Абеляр, однако, проводил столько времени с тобой, что вовсе не уделял внимания другу. Я очень жалела его! Забвению, в которое повергло его, как в бездну, равнодушие Абеляра, мое сочувствие положило предел. Я подолгу слушала его жалобы!
«Никогда не давай ампутировать себе ногу! Лучше бы меня зарезали на операционном столе. Мне хуже час от часу, все нутро болит. Нога, которую отняли, мучает меня, боль-то они не удалили».
Словно за малым ребенком, я ухаживала за ним, вытирала пот со лба, кормила с ложечки протертым супом.
«Абеляр совсем забыл меня. Вчера мне даже показалось, что он надо мной смеется. Да и вообще, весь Божий день он проводит с твоей дочерью. О чем только они между собой говорят? Скажи, он хоть знает, как сильно я страдаю?»
Иной раз он замыкался в угрюмом молчании, а потом вдруг вырывался из него, точно закусивший удила конь, и выкрикивал вздор и проклятья. Ни прогулки на воздухе, ни прописанные врачами лекарства не помогали ему.
«Никто не страдал так, как я, за всю историю человечества. Должно же быть какое-то лечение, чтобы избавить меня от этой боли. Может быть, электрический ток, ты бы разузнала. Не говори Абеляру, что я плакал. Не оставляй меня одного».
Сколько раз он громогласно призывал смерть. Иногда грозил, что удавится.
А вы с Абеляром тем временем тараторили без умолку. Ваши голоса доносились до нас и казались фантасмагорией.
В ночь, когда Шевалье подвел черту под своей жизнью, он диктовал мне, прерывисто дыша, весьма странное описание бивней африканских слонов. Он ненадолго забылся, угасая, еще среди живых. Агония перевела стрелки, положив конец его земному пути, и он умер у меня на руках с гримасой страдания, извратившего его рассудок.
CIV
В ночь, когда умер Шевалье, мне приснилась женщина могучего сложения с двумя рогами на голове; она шла ко мне, ведя рядом слониху. Когда ей оставалось два шага до моей постели, появилась еще одна женщина; на голове она несла черепаху, в правой руке держала стакан с водой, а в левой – раскаленные добела щипцы. Первая женщина достала из-под юбки стенные часы с гирьками и одной только стрелкой. Две женщины неотрывно смотрели друг на друга до тех пор, пока я не проснулась.
Сидя у моей постели, ты неотрывно смотрела на меня, как два видения из моего сна. Ты улыбнулась мне, и я забыла твои недавние нападки, еще звучавшие неотвязным гулом у меня в ушах.
Я рассказала тебе свой сон, изменив последовательность и присочинив, что в стакане была перманентная вода, которая, в отличие от всех других жидкостей, не мочит руки.
«Извини меня, мама, за то, что я наговорила тебе вчера».
В бесконечной своей благости ты нашла простой и естественный способ утешить меня. В этот миг я любила тебя больше, чем когда-либо. Доброта вернулась к тебе, и благодаря ей ты все окружающее подчиняла своей воле. Жизнь сулила блаженство, и моя душа медленно, но верно восходила к вершине, достигая чистоты.
Я так глубоко прониклась твоею вновь обретенной благостью! Я ощущала ее в воздухе, которым дышала, в земле и в воде, словно само биение моей жизни вибрировало в унисон с твоей. Как поражало меня упорство приверженцев позитивистской науки: они не понимали, что одной только Благостью осуществляется столь памятное событие, как единение знания и разума, и тем более не постигали они, что благость порождает и питает благость же.
«Да, мама».
Мне не страшны становились все мои враги, когда ты любила меня!
CV
Мы прожили пятнадцать лет в таком согласии, в таком нерасторжимом союзе! Тебе было семнадцать, когда ты затеяла эту идиллию с Абеляром, – куда девалось все твое благоразумие? Мне хотелось сказать тебе, что, несмотря на кажущуюся цельность, в нем соединились две противоположные и несовместимые натуры. Я очень отчетливо рассмотрела его во время агонии Шевалье: два Абеляра сменяли друг друга, два совершенно разных человека. Мы с тобой знали первого и восхищались его безграничной терпеливостью и смирением; второй же – такой злобный! – пустил прахом свои живительные добродетели и скромность в придачу.
В предсмертном бреду Шевалье твердил, что хочет сесть на корабль и уплыть в Абиссинию, один, словно тогда Абеляр перестал бы для него существовать. Он мечтал разбогатеть и убрать золотом его дом. Абеляр его даже не слушал. С какими оговорками отзывался он о заботах, которые я расточала его другу перед смертью.
«Радея в этом деле, вы утоляете вашу жажду самопожертвования, но для бедняги Шевалье уже слишком поздно».
Смерть друга не заставила Абеляра ни высказать свое горе, ни даже испытать его. Он позабыл обо всем на свете, кроме тебя.
«Позвольте мне сказать вам, что напрасно вы держите вашу дочь в стороне от жизни. Отпустите ее, пусть увидит мир, пусть живет свободно!»
Какую узость ума выказывал Абеляр, толкая тебя к сонму университетских деятелей из-за границы – можно подумать, эти сухие пни могли напитать тебя жизненной силой. В нашем доме и только в нем достигла ты совершенного равновесия. Умеряемый свежим воздухом жар горнила создавал гармонию твоей жизни – так земля нейтрализует влажность воды.
Мне приснился умирающий Шевалье; в венце, сжимавшем его виски, он улыбался внутри прозрачной сферы. Внезапно душа его воспарила, обернувшись ангелом, к звезде, сиявшей на небосводе подле дерева, усыпанного плодами.
CVI
Незадолго до смерти у пронзаемого болью Шевалье случился проблеск сознания.
«Я умру, так и не увидев, как ты поцелуешь свою дочь. А ведь уже шестнадцать лет, как я с вами!»
Я настолько любила тебя, что отвергала ужимки и глупое кривлянье. Эти телячьи нежности помешали бы мне восхищаться тобою. Я всегда была необыкновенно счастлива с тобой! Мы были так полны благости!
Когда я видела тебя, работающую у горнила, такую разумную, преодолевающую, как реки вброд, все препятствия, я чувствовала себя наверху блаженства. Когда я наблюдала за тобой, идущей извилистым путем, словно ты искала место для засады в иероглифе долгой жизни, как велика была моя гордость! Когда я смотрела на тебя, подготавливающую вещество в центре лабиринта, озаренного светом знания, не было никого счастливее меня на земле!
Под пагубным влиянием Абеляра ты круто свернула с пути, по которому шла с такой осмотрительностью, уверенностью и настойчивостью. Ты заблудилась в лабиринте, и у тебя не было нити Ариадны, которая позволила бы тебе осуществить синтетическую унификацию.
Мне приснилось, что ты рисуешь на прибрежном песке Соломонов лабиринт; у него было три входа и ни одного выхода. Невысоко над тобой, зацепившись за облако, покачивалась морская звезда. Выше, в небе, на четырех перевернутых делянках всходили небесные хлеба. Колосья из золота и семена из серы сверкали, налитые ртутью.
В эти дни, когда ты так жестоко сокрушала меня, я не могла забыть все то, что ты дала мне в прошлом. Самая непроницаемая тайна окружала лавой хаоса, сбоями и разладом страшное развоплощение, происходившее с тобой.
Я сказала тебе, что ты в опасности. Ты посмотрела на меня как на сумасшедшую и рассмеялась. Никогда раньше ты не делала ничего подобного.
CVII
Когда я узнала, что Бенжамен приехал в наш город, словно гвоздь вонзился в меня, такой острый, и я ощутила тревогу, сулившую так много волнений! Он остановился в отеле «Ритц», и Абеляр немедленно отправился к нему с тобой. Я так никогда и не узнала, что вы сказали друг другу в эту первую встречу и заходила ли речь обо мне. Абеляр рассказал мне только, что вместе с Бенжаменом приехал один молодой биолог благородных кровей, влюбленный в тебя. Он шутил на тему, не допускающую легкомысленного отношения.
«Надо нам выдать вашу дочь замуж».
Это его предложение, до жути несуразное, – как далеко оно отстояло от замысла! Твоя сила от подобных речей могла понести невосполнимую потерю. Лишь воля твоя и знание остались бы в целости, удержавшись за твой разум. Ты развивалась, двигаясь вперед, и благодаря этому проявляла благость и безошибочность в работе. Бенжамен и Абеляр, точно кони Аттилы, стремились вытоптать нашу землю.
Твою судьбу, неповторимую, они не могли оклеить банальными ярлыками. Абеляр, однако, самоуверенно полагал, что ему лучше знать.
«Ваша дочь уже не дитя, она взрослая женщина, и какая женщина! По сравнению со своими ровесницами она выше их на голову во всем. Естественно, что она чувствует тягу к противоположному полу».
Мне всегда был ненавистен порок. Сколько великих умов безнадежно пали, внезапно повстречав его. Ты не могла заразиться скверной и свернуть со своего пути, который лишился бы тогда всякого смысла. Абеляр говорил о влюбленности, не провидя ее гнусных и пагубных последствий.
Твоя миссия предполагала слияние разума и Природы. Благодаря упорству в учении и работе у горнила ты сумела возвысить свой ум и познать непостижимое. Ты сияла подобно звезде – мученица, труженица, богоравная. Ни перед чем и ни перед кем я не опустила бы рук!
CVIII
В отеле «Ритц» Бенжамен собрал вокруг себя камарилью университетских деятелей, прибывших прямиком из Англии, чтобы овладеть твоей волей. Абеляр, падкий до похвал, служил им посредником. Постыдно выставляя напоказ твою жизнь, а заодно и мою, они изучали тебя точно диковинный феномен.
Как мне хотелось запретить тебе уходить с Абеляром, но еще лучше было бы, если б ты сама порвала с его компанией. А ты проводила с ними дни напролет и возвращалась такая осунувшаяся. И потом, ночью, я видела, как ты рассеянна.
Пока тебя не было, я читала и перечитывала леденящие неразборчивые фразы в твоем тайном дневнике – ты больше не писала в нем с тех пор, как приехал Бенжамен.
«У меня отрава в крови. – Я похороню порядочность. – Кто посмеет сказать мне слово поперек, когда я стану самой испорченной? – У меня во рту привкус праха».
Абеляр уже открыто и в полный голос хулил меня, ставя мне в вину то, что я полностью распоряжалась твоей жизнью.
«Я уверяю вас, что терпению вашей дочери скоро придет конец!»
Какой непоправимо одинокой чувствовала я себя, слушая эти несправедливые упреки и столь же пустые, сколь и нелепые наставления. Никогда он не говорил со мной так напористо.
«Вашей дочери в конце концов надоедят ваши амбиции и ваше одержимое желание помыкать ею. Вы же не даете ей дышать».
Абеляр вычеркнул из памяти причину твоего рождения, а ведь ты родилась, потому что я хотела лишь одного: чтобы ты довела до завершения прекраснейшую и праведнейшую на свете миссию.
«В одно прекрасное утро ваша дочь проснется и скажет вам: все, с меня хватит, теперь я хочу жить своей жизнью, для себя и без твоего надзора. Поверьте мне, я говорю это для вашего же блага».
Мне приснилась свирепая буря, и волны хлестали хрупкий хрустальный утес, грозя обрушить его в пучину. Но вострубили два ангела и усмирили бурю.
CIX
Я помню, словно это было сегодня, как ты работала у горнила в последний раз. Поглощенная сложными операциями, точно сокровище копила ты в себе всю красоту ученой девы.
С каким мастерством лощила ты под воздействием железа белизну веществ. И мало-помалу ты все же добилась результата: пласт, имевший теперь совершенную форму лунного диска, приобрел на поверхности лимонно-желтый цвет. Ты сказала мне, и столько же кротости было в твоих словах, сколько и осведомленности:
«Мама, у меня такое чувство, будто я заполнила без остатка всю полноту Вселенной. Смотри: вещество достигло идеальной степени сухости и прочности».
То был знак, доказывающий, что первую стадию ты завершила. Как ты осчастливила меня! Все эти ученые мужи, которых притащил Бенжамен из Англии, чтобы совратить тебя с пути истинного, даже представить себе не могли, на что ты была способна.
С какой бесконечной осмотрительностью вновь и вновь приступала ты к операциям, чтобы усилить свойства и возможности вещества. Я смотрела на тебя в ослеплении – в последний раз работала ты у горнила! В ту ночь ты подарила мне самое полное счастье.
Блаженство вошло в меня в тот вечный миг, что предшествует пресыщению, не успев даже оформиться в какое-то определенное чувство. Небывало ярко сияло оно во мраке, не отзываясь в моей живой плоти. Оно растворило меня, благодаря тебе, в моем собственном естестве.
Много лет смирение Абеляра неизменно будило во мне любовь и восхищение. Дружба, которую он питал к Шевалье, была прекрасна и снискала похвалы. Но после смерти друга он стал на сторону наших врагов, позабыв в пылу о сострадании. Он не ведал, что наша с тобой нерасторжимая связь была непременным условием твоей гармонии. Как могли бы мы жить вдвоем, плодотворно и счастливо, во веки веков!
СХ
Никому никогда не изведать, какие бесконечные муки претерпела я в последнюю неделю твоей жизни.
Бенжамен задался целью собрать всех ученых, каких он только знал, в своем номере в «Ритце». Он хотел нарушить твое спокойствие и безмятежность перед лицом бурь, переломить твое презрение к мирским удовольствиям и твой стоицизм.
С каким опозданием узнала я, что Бенжаменова профессорская братия подвергла тебя целому ряду экзаменов, столь же унизительных, сколь и никчемных. Абеляр, руководствуясь безумным и однозначно злым умыслом, вдохновенно науськивал свору. Недоброй радостью радовался он необратимым последствиям этих пагубных испытаний.
«Ваша дочь – феномен, беспрецедентный в истории. Экзаменовавшие ее ученые, близко знакомые с великими мира сего, пребывают в изумлении. Вы не можете похоронить ее заживо из одной только материнской ревности. Не можете заставить ее задыхаться в четырех стенах. Дайте ей жить своей жизнью, иначе вы совершите преступление против науки».
Они хотели сделать из тебя дрессированного попугая, стремились разрушить твою личность. Они мечтали засунуть тебя в какой-то исследовательский институт, чтобы там из тебя проросло, словно ты была лишь зерном, совсем новое существо. Гордыня их была столь непомерна, что они воображали это иное существо еще более сведущим в науках, чем ты. Единственное, что им нужно было на самом деле, – это воспользоваться твоими знаниями. Отрекись ты от замысла, чтобы последовать за ними, ты утратила бы свою жизненную силу и независимость, свой дар и свою свободу. Несказанный свет, которым ты была осиянна, доступен лишь тем, кто чист. А что они знали о тебе? Лишь оболочку оболочки.
В ту ночь мне приснилось, как старуха вчерашнего дня превратилась в девушку дня завтрашнего. Пропащие и заблудшие отовсюду шли к ней. И в конце моего сна девушка воскресила мертвых.
CXI
Когда я поняла, что в роли матери потерпела фиаско, я едва не сошла с ума. Столько сил, потраченных за столько лет, – и все грозило разом обратиться в прах.
Как часто в те дни я помышляла о самоубийстве! Тот самый револьвер, который я купила, чтобы защищать тебя, мог в одно мгновение исторгнуть меня из жизни.
Когда ты впервые открыто воспротивилась мне, я готова была броситься с крыши нашего особняка, чтобы разбиться оземь. Поражение мое было полным! Как стремительно, вскачь покинула ты свет ради тьмы, лучезарную суть ради хаоса.
Вместо того чтобы следовать, как подобает творцу, Природе в ее простоте, ты погналась за пустыми химерами! Я поняла, рухнув в пучину горя, что ты хочешь уехать в Англию и соединиться там с каким-то мерзавцем.
Неделю ты молчала, а затем объявила мне:
«Последние дни мы проводим с тобой вместе, мама. Я уезжаю, чтобы увидеть мир, и буду жить своей жизнью, как мне захочется».
Я слушала твой голос, и мне казалось, будто кто-то другой говорит со мной, не ты. В ответ я смогла лишь пролепетать какие-то бессмысленные слова. Видно, боль помутила мой рассудок, иначе я напомнила бы тебе, что семени, дабы взойти, взрасти и дать плоды, необходима почва.
«Ты заблуждаешься, мама, никто не пытается совратить меня с пути».