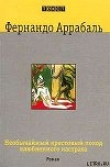Текст книги "Красная мадонна"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Едва солдат ушел, Шевалье вне себя стал на чем свет стоит распекать Абеляра:
«Ты нарочно это сделал! Испортил мне удовольствие из чистой ревности. Экая ты шельма. Не нравится тебе, что у меня такой дружок, признайся! Жалкий ты человечишко, и неблагодарный к тому же».
Абеляр закашлялся и поспешно поднес платок ко рту. Платок покраснел от крови.
«Мне осточертели эти твои знаменитые штучки, которыми ты козыряешь по любому поводу. Ах, какая мелодрама, спешите видеть, месье будет блевать кровью! Я ведь знаю, чего ты добиваешься, ну же, скажи – чтобы я чувствовал себя виноватым, а все вокруг говорили, что ты мученик. Нет уж, дудки, здесь только один человек имеет право выхаркивать свое сердце с потоками крови напоказ легковерному дурачью – это я!»
Абеляр, закрывшись броней своего горя, сдерживался изо всех сил, но не смог совладать с приступом тошноты, за которым последовало кровотечение.
LXXX
Я так и не узнала, каким образом могла попасть в газету твоя фотография, появившаяся на первой полосе. А сколько было в нелепом и сумбурном комментарии ляпсусов и неточностей! И каких унизительных для нас обеих! Не имея возможности подать достоверные факты, газетчики замешали свою стряпню на лжи. Они писали – чистый вымысел, – что ты согласилась сдать университетские экзамены и что ты поклонница Ницше, Лассаля и Каутского.
Столь же погрешив против истины, они сообщили, что ты выступишь с речью на Зимнем велодроме. Нас продолжала удручать нескончаемая череда бесцеремонных вторжений в нашу жизнь. Центр научных исследований связался с австрийцем Зигмундом Фрейдом, когда стало известно, что этот медик заинтересовался тобой.
Я наняла двух садовников и приказала им охранять дом и ни под каким видом никого не впускать. Как я боялась, что с тобой повторится печальная история, которую я и мой любимый отец пережили с Бенжаменом.
Абеляр тайком отвечал на письма, что писал ему профессор Г. Дж. Уэллс; по крупицам он выкладывал ему подробности нашей с тобой жизни. Как запросто он предал меня! Узнав, что я раскусила его, он подарил мне две римские монеты – надеялся золотом заплатить цену своего предательства.
«Я рад узнать, что вам наконец стало известно о письмах английского профессора Г. Дж. Уэллса – он писал мне несколько раз за последние недели. Должен признаться, что я ответил на все его вопросы о вашей дочери, ответил честно и корректно. Я сам хотел открыть вам этот маленький секрет. Позвольте мне сделать вам признание: все мои попытки узнать, кто вы такая на самом деле, потерпели неудачу. Они лишь доказали мою суетность. Вы для меня столь же незримы, сколь и таинственны».
Сквозь мглистую пелену своей пристрастности Абеляр все же провидел, что я намеренно скрываюсь, ибо живу в благости. Как нелегко мне было и теперь найти в ней прибежище, чтобы не почувствовать себя униженной его вероломством!
LXXXI
Как больно ранила мои глаза и мой рассудок одна претензия, записанная тобою в тайном дневнике!
«Я требую равноправия, юридического и сексуального».
Я так хотела бы иметь возможность расспросить тебя о том, что ты хотела этим сказать. Ты требовала равноправия как девочка – со взрослыми? Как человеческое существо – с Природой? О эти приступы безумия, подтачивавшие тебя в твоем одиночестве, – до чего же сокрушали они меня!
Несколько часов спустя, в подвале, ты растрогала меня, сказав голосом пай-девочки:
«Мама, зависти и несправедливости не погубить то скромное достояние, которое я накопила благодаря магистерию».
Ты изъяснялась с прямотой посвященных.
Как безошибочно выбирала ты слова! Как успешно облекала в них мысли!
«Я чту все знание, которым обладаю, как заслуженный дар природы».
И то правда, плод твоей работы у горнила был даром щедрейшим, но дарами были и пища, которую ты ела, и напитки, которые ты пила. Ты развивалась так правильно и так совершенно во всех отношениях, что каждый день преподносила мне словно чудесный сюрприз. Какая была в тебе необыкновенная мудрость! Подле меня ты выглядела радостной, то была радость глубокая и таинственная. И я вполне разделяла твое воодушевление, когда счастье достигало апогея в ладу и согласии.
Но и когда ты наблюдала украдкой за напряженными отношениями Шевалье и Абеляра, твоя несравненная безмятежность не покидала тебя.
Шевалье потребовал, чтобы Абеляр написал маслом портрет одного из его дружков – в обнаженном виде, взяв за образец «Адама» Жана Гроссара. Закончив картину, Абеляр написал на ней пылкое посвящение от Шевалье его новому другу и опять же обошелся без бурных сцен.
В ту ночь мне приснилось, что угли прогорели и печь совсем остыла, а ты тем временем пела арию на незнакомом языке.
LXXXII
Мне снилась ты, иконописная, ты увековечивала себя у высохшего дерева с обрезанными ветвями и выкорчеванными корнями. Дерево величественно парило над землей. Девочка-гладиатор подняла меч и разрубила надвое улей, не страшась роя разозленных пчел. Мед медленно разливался и тек к твоим ногам.
За несколько недель до того, как твое рождение пресекло мое нетерпеливое ожидание, я приказала сложить в форме шестиугольной пирамиды ту самую печь, в которой тебе предстояло творить такие чудеса. Две дверцы, одна против другой, давали тебе доступ в топку. Ты орудовала инструментами с быстротой и сноровкой азиата, производящего математические действия на счетах.
С какой проницательностью наблюдала ты все стадии работы через два застекленных окошка. Угарный газ ты удаляла через отдушину так проворно, что не требовалось иных доказательств твоей благости!
Как мастерски сооружала ты гнездо в горниле! Раскалив песок, ты приступала к инкубации, пользуясь металлическим сосудом. Ты была так сосредоточена во время каждой операции, что ни разу не заговорила со мной.
Когда тебе минуло тринадцать лет, ты уже была на столько голов выше меня, что из ученицы я стала твоей почитательницей. Тебе нечему было у меня учиться, потому что мне нечего было тебе преподать. Ничто не могло пробудить во мне гордости сильней, чем эти часы, когда я созерцала тебя, будучи единственной свидетельницей твоей работы.
Ты открыла тайну природы – бессмертный, все связывающий огонь. Этим священным огнем ты могла произвести любые метаморфозы вещества. Годы и годы приходилось трудиться адептам, чтобы достичь того совершенного сочетания искусности и силы, которое явила ты тринадцати лет от роду.
LXXXIII
Сколько запечатанных в конверты сплетен летело в Лондон с письмами Абеляра Бенжамену! Какой оглушительный звон, стократ усиленный химерами! Они писали друг другу каждую неделю, словно вмешательство в нашу жизнь почитали за долг. Абеляр пересказывал мне кое-какие бестактные вопросы Бенжамена. Что за тяжкий недуг – любопытство, и какой оскорбительный для нас! Я знала, что с него станется явиться в наш особняк как к себе домой.
Бенжамен был героем давней трагедии, которую, ради твоего блага, я похоронила в прошлом. Тебя, однако, это так интриговало, что однажды ночью ты принялась расспрашивать меня о нем. Играючи плела ты изящные и бессвязные речи, чем причинила мне глубокое горе, показав, к краю какой бездны подталкивает тебя твое любопытство. Как больно ранила меня эта измена чистому знанию! Снедаемая любопытством и дремлющей твоей прозорливостью, ты поддалась прихоти, сумасбродству и нескромному интересу.
Я растолковала тебе, что за пропасть отделяет тебя от Бенжамена. Я направила его на путь, который в неведении своем избрала как лучший. Но то был путь тупиковый, затейливо извилистый и не имеющий иной цели, кроме возможности выделиться.
Я не посвятила его в таинство, я не могла этого сделать, потому что сама не ведала тогда тайного смысла, непостижимого, скрытого за внешним проявлением естества. Я забрела с ним в дебри, весьма далекие от вековечной мудрости. Как мало интереса должен был бы вызвать у тебя этот незначащий эпизод моих юных лет.
В ту ночь ты приснилась мне плывущей на паруснике, высокие волны качали его, песок пустыни устилал палубу. Ты бросила руль и втыкала кости у корней ели, росшей на носу корабля.
Ты познавала себя, невзирая на одолевавшее тебя порой бесовство, все глубже день ото дня. И благодаря этому познанию ты непрестанно очищала от скверны благость, скромность и простоту – главенствующие добродетели столь высокого духа, как твой.
LXXXIV
«Я – всего лишь пешеход! – Меня окружают семьдесят три конторских крысы в свинцовых фуражках. – Я просто прохожая, подлая, глупая, упрямая, гадкая. Всем, кто будет меня спрашивать, я отвечу молчанием».
Со мной ты никогда не держала рот на замке, напротив, отвечала мне, всегда рассудительно, благоразумно и проницательно.
Все мои поступки я совершала под благотворным воздействием твоего уважения и твоей любви.
«Да, мама, ты права».
Но в «Преисподней» ты писала, полная неповиновения, обуянная гордыней:
«Скоро, очень скоро я завою волчицей. – Я буду гнуснейшим из ликантропов, опаснейшей из волчиц-оборотней».
Какой невыносимой горечью наполняли меня эти колкости! С высот морали, на которые тебе дано было подняться, ты скатывалась в болото столь постыдной распущенности. Сбитая с толку неведомыми мне знаками, не работая головой, ты испила до дна чашу позора.
«Лишь в бесчестье и насилии я буду счастлива. – Из соображений гигиены я уничтожу все, что слывет прекрасным. – Я буду спать с подонками. – Буду питаться нечистотами с помойных куч».
Трансцендентный мотив и причины этих твоих испражнений были загадкой, и столь же загадочны были резоны, побуждавшие тебя судорожно исторгать гной из твоего рассудка.
Два дуба росли в саду, посаженные в один год; первый был высокий и крепкий, второй – чахлый и корявый. Какие разные звезды неумолимо предопределили их столь несхожие судьбы! Могучее дерево символизировало жизненную силу минералов, хилое – инертность металлов.
Ты сама привила к своей столь безупречной натуре дикий побег, тем самым породив вторую личность, которая так ужасала меня, когда я читала на страницах «Преисподней» зловещие послания, брызжущие подобно слюне с дерзких уст твоего карандаша. И все же я не только по-прежнему уважала тебя, но и восхищалась тобой всею силою своего духа.
LXXXV
Сразу после твоего пятнадцатого дня рождения Шевалье исчез на две недели. Дни и ночи напролет Абеляр ждал его, снедаемый беспокойством. Закутавшись в одеяло, он две недели провел у калитки сада и у порога отчаяния. Шевалье предупредил, что уходит, но не уточнил, надолго ли, будто бы по ребяческой беспечности, а на самом деле с изощренным умыслом. А ты смотрела на это во все глаза и молчала.
«Не ждите меня. Я проведу всю ночь, а может, и больше с одним солитером, уподобившись дикому козлу. Мне надо развеяться, Абеляр отравляет сумрак и не дает мне дышать. Я не могу жить с вдовцом, окутанным свинцовой кисеей!»
Шевалье потребовал надушить его и накрасить. Заботливо и нежно Абеляр причесал его, уложив волосы волнами, смазав их брильянтином и умастив помадой. Когда красота и лоск были наведены, Шевалье заявил:
«С этим пробором справа у меня божественный вид. Мне это необходимо. Надо высоко вздымать волну и знамена».
Изъясняясь столь витиевато, он выказывал свое возбуждение и вовсе не думал оттачивать утонченность языка. Мне так печально было видеть его разодетым, завитым и напомаженным, в то время как его лицо было еще все в шрамах, оставшихся от последней потасовки. Перевязь, поддерживавшую искалеченную руку, он уже снял. Еще тяжелее было видеть, как он, точно разбитый параличом, не владеет этой рукой.
«Уж и потешусь я, чисто сороконожка с гусеницей. Я так и сказал Абеляру начистоту. На этот раз я не хочу больше темнить. Пусть знает, что мне с ним скучно, а стало быть, нечего ему с меня требовать. Хорошо еще, что он молчит, а ревность-то его мучит, так и точит изнутри».
Ты одна по-настоящему знала – только ты, больше никто из стада человеческого, – что золото отворяет запертые двери, как в твоем горниле.
LXXXVI
Никому были не ведомы наши намерения, и в ход пошла ложь о каком-то твоем вызове руководству Университета. Говорили, будто ты согласилась держать экзамены. Ты была лакомым куском для бездельников и приманкой для наглецов. Они хотели выставить тебя на всеобщее обозрение, точно говорящего попугая. Им не терпелось погубить тебя, и не было тебе уготовано иных почестей и эпитафий, кроме гвалта и сумятицы.
Люди требовали твоего присутствия в обстоятельствах самых разных и самых заразных.
Ты была нужна, по мнению множества организаторов, чтобы говорить, разглагольствовать, дебатировать, импровизировать, читать проповеди, лекции, наставления и даже возглавлять митинги. Послушать их, ты могла бы стать служкой в церкви, членом профсоюза, активисткой партии, поборницей секты и вдохновительницей войск. Я незамедлительно отправляла всю корреспонденцию на дно корзины для бумаг.
Университетский профессор логики представил на твой суд беспардонный вопросник, который, охраняя твой покой, я не стала тебе показывать. Он намеревался составить из твоих ответов книгу под названием «Сексуальный бунт молодежи». Он написал тебе вздорное и нелепое письмо; красной нитью через него проходили намеки на завуалированные преходящие проблемы, место которым на помойке.
Впервые в жизни, по чистому вдохновению, ничего не убавив и не прибавив, я написала коротенький литературный рассказ. Небо любило приключения. Однажды оно встретило Пламя и, чтобы взять его в полон, обманув бдительность мужа Пламени, пролило на него золотой дождь. Через девять месяцев Пламя произвело на свет сына, Рыбу Красного Моря. Хаос, отец Пламени, разгневавшись, запер мать с сыном в сундук и бросил в море. Моряки выудили сундук и принесли Королю. Тот не выпустил на свободу ни Пламя, ни Рыбу Красного Моря, а отправил их на Землю мудрецов, где они провели остаток своих дней, созерцая чудеса. Небо же, в наказание, Король приговорил вечно проливаться дождем.
LXXXVII
В большой печали протекли, тягостно и однообразно, две недели отсутствия Шевалье. Утешение ускользало из рук Абеляра, преисполненного скорби. За два дня до бегства друга он прислал мне акварель: на обнаженном кривом клинке были изображены четыре цветка на высоких стеблях, все разных цветов. На каждом стояла надпись готическими буквами: на черном слово «время», на белом – «благодать», на желтом – «союз» и на красном – «основание». На обороте он черкнул короткую записочку, теша ею свою надежду:
«У меня предчувствие, что я скоро выздоровею. Это нечто лежащее за пределами разума, потому что я не ощущаю никаких улучшений в моей болезни. Когда я буду здоров, мы сможем наконец видеться не только через застекленный проем в садовой ограде и побеседуем с глазу на глаз. Поверьте, я изнываю от нетерпения».
Однако во время долгого отсутствия друга мы слышали, как он кашлял чаще обычного, словно ему неоткуда было больше почерпнуть жизни. А сколько раз его носовые платки промокали от крови!
Я так часто рассматривала акварель, что мне пришла в голову сумасбродная мысль поджечь рисунок с четырьмя цветками. Я вдруг поняла заключавшийся в нем тайный смысл, так глубоко скрытый, что Абеляр сам не смог расшифровать того, что передал благодаря своим кисточкам. Он предупреждал, что если ты чересчур поспешишь и пропустишь важные стадии в осуществлении замысла, то этим безвозвратно погубишь творение.
Однажды утром Абеляр читал очередное письмо от Бенжамена – он получал их еженедельно, – прячась под одеялом, словно боялся, что даже на таком расстоянии я смогу увидеть, что в нем написано. Как неприятны были мне эти тайны!
Я терпеливо сносила обманы столь долго, сколь того требовала Природа. Я следовала с твердостью и верой всем пророчествам, предсказаниям и предзнаменованиям. Все это я делала ради тебя, свято придерживаясь нелегкой науки терпеть и молчать.
В ту ночь мне приснилась тюрьма из грязного стекла. В центре ее высилась обветшалая башня, верхушкой касавшаяся неба и битком набитая слонихами. Король и Королева подошли и хотели открыть дверь, но не сумели. Тут появилась ты – ты ехала в крошечном замке на колесах. Ты вырвала петли, и дверь тюрьмы с грохотом рухнула.
LXXXVIII
Ангельское личико сияло над женским телом – такой ты была, когда тебе исполнилось пятнадцать лет. Твои девичьи, такие выразительные черты – как хорошо скрывали они твою зрелость, взросшую и пышно расцветшую на соках древа мудрости. Ни достойная осуждения праздность, ни неуместное любопытство в данном случае не подобали.
Однажды ночью ты приснилась мне уже старухой, но с лицом девочки. С ошеломляющей легкостью катила ты камень в виде куба, который покачивался на морских волнах.
С какой глубиной мысли, укрепляя ее верой, приближалась ты к совершенству! Если бы не это, тщета сделала бы абсолютно бесполезными твои обширные познания. Как отражала ты приступы скепсиса! Ты знала, что, сомневаясь, не сможешь скрепить ничего прочного, надежного, долговечного. Мы не скроены все по одной мерке, и какие же колоссальные различия отделяли тебя от других.
В силу исчерпывающего знания поверхностной позитивистской химии ты глубже постигла величайшую тайну замысла, диаметрально противоположную материалистическим канонам. Твой здравый смысл заходил в тупик, рассудок мутился, и логика отступала, когда ты зачарованно всматривалась в загадки, заданные тебе Природой.
В подвале, словно уходя в иной мир, ты трудилась ночи напролет. Кружась в вихре своей юности, с величием и красотой, ты была столь же счастлива, сколь и блага. Дважды мне снился один и тот же сон – ты была прекраснейшим цветком из всех цветов. Лучезарная, как огонь, стояла ты на палубе корабля-призрака. Большой дельфин плыл по морской глади, сопровождая тебя.
Словам счастья было тесно в моей душе, когда я видела, какие чудеса ты творила в горниле. Блаженство неудержимо захлестывало мои мысли.
Пусть годам, даже десятилетиям суждено пройти, прежде чем ты получишь реальное и осязаемое доказательство творения, – с какой решимостью шла ты вперед и как была прекрасна! Но какие тучи сгущались над нами, грозя нас уничтожить, хоть ни малейшего подозрения не закралось еще в мою душу!
Зачем ты предала меня, пробудив все то, чему нельзя было просыпаться?
IXC
Ты часто уединялась, чтобы поиграть на пианино, прилежно впитывая забытую субстанцию музыкальных сочинений. Бенжамен был совсем не похож на тебя, он играл партитуры с листа без эстетического осмысления, благоразумно и бесславно придерживаясь рутины. В его исполнении проявлялось мастерство, в твоем же, столь своеобразном, – умиротворение и гармония.
Бенжамен всегда был таким неблагодарным! Он научился играть на пианино в угоду моему любимому отцу и мне. Я и помыслить не могла, что он будет с тем же усердием играть перед нашими врагами из консерватории. Ему было всего восемь лет, когда он потряс этих узурпаторов и они забрали его, вырвав из нашей жизни. Ему это далось легко – он привык обходиться без нас. Но ты – нет, без меня ты не смогла бы жить. Природа создала нас с тобой, как пальцы на одной руке. Я любила тебя так безмерно – и так разумно.
В одном из писем Абеляру Бенжамен посмел утверждать, что я стою препятствием на пути к твоему благополучию. Он якобы хотел тебе помочь, тогда как на самом деле оскорблял тебя и даже называл узницей, а меня – чуть ли не твоей тюремщицей. Я много сделала ради него в свое время, зная даже, что никогда не дождусь ни малейшего знака благодарности с его стороны. Где ему было при его спеси постичь со скромностью и логикой ту выгоду, которую извлекала ты. Столь далекую от его выгоды!
Бенжамен не давал нам покоя и этим указывал, сам того не сознавая, на свои дурные намерения. В двадцать семь лет он выдавал свою незрелость этой извращенной прихотью, желая непременно вступить в сношения с тобой. С большим шумом собрал он вокруг себя сонм иностранных светил, намереваясь вторгнуться в наш особняк и разрушить все, что мы создали. Он неспособен был осознать, что им движут ревность и суетность. Он так завидовал тебе! И недаром. Ведь сам он только и мог, что упиваться льстивым шушуканьем да дутой популярностью.
ХС
Какие заостренные буквы выводила ты в тайном дневнике! Ты разрывала ими нить твоих фраз – бессвязных, колючих, словно игольное острие, и полных нелепостей. Как не похож был этот почерк на твой обычный, летящий, четкий и ровный! От этих беспорядочных каракулей, которые наматывали нить твоих циничных суждений, у меня сжималось сердце. Кто писал эти мерзости – не ты, нет, невозможно, то был твой незримый двойник, притаившийся в самом постыдном уголке твоего существа.
«Труд от меня еще дальше, чем ноготь от глаза. – Мне наср… на разум, это все г…».
Семь раз повторила ты это ужасное слово – «г…».
Ни разу я не видела своими глазами, как ты тайком писала «Преисподнюю». Да и не пыталась тебя застичь.
«Я дам волю хаосу всех чувств за гранью разума. Когда придет время мне полюбить, я воспылаю безумной страстью к презреннейшему скоту. – Мой долг – обожать все, что есть на свете самого гнусного».
Какой слабой и беззащитной ты виделась мне, несмотря на твой незаурядный ум и лучезарную благость! Твой сиамский близнец выдыхал-нашептывал тебе эти слова, и как знать, возможно, этому мятежному двойнику, которого ты пригрела в сокровенных глубинах себя самой, суждено было отмереть, лишь испустив последний зловонный выдох.
«Я всегда буду строптивицей и маргиналкой. – Мне наср… на Природу и все ее творения».
Эти грубые, грязные слова ошеломляли меня своею оглушительной яростью. Ты никогда их не произносила – и вдруг они грянули со страниц твоего тайного дневника подобно пушечному выстрелу. Не Шевалье ли, думалось мне, научил им тебя из чистого озорства, не сознавая, на каком бурлящем вареве так пронзительно лопались эти пузыри?
Со мной ты всегда изъяснялась в выражениях верных, точных и простых. С твоей пылкой и отточенной речью ты облекала мысли в слова ясно, лаконично, исчерпывающе. Ты так высоко чтила и превозносила истину, что твое счастье никогда не прельстилось бы ложной славой.
XCI
Однажды утром нас всех разбудил низкий, нестройный звук автомобильного гудка. Этот пронзительный стон возвестил о возвращении Шевалье, тяжело раненного. Абеляр попросил санитаров уложить его на кровать в его комнате на третьем этаже. Сам же он перебрался на первый.
Как категорично неопределенны были с первого дня врачи и медперсонал и как нас это удручало! Шевалье лежал пластом, все его кости были переломаны, перебиты, раздроблены, смещены, на нем живого места не было от ран. Но больше с первого дня мучил его чудовищной силы удар, нанесенный в колено. Нога распухла и болела так, что он не мог шевельнуться. Сущей пыткой для него было отправлять естественные надобности.
Абеляр взял на себя все заботы и развил такую кипучую деятельность, что мы только диву давались. Без видимых усилий и усталости бегал он вверх и вниз по лестнице, на которой раньше выбивался из сил. Как он переменился! Он оживленно толковал врачам:
«Не трудитесь искать виновных, я уверен, что это он затеял драку и сам нарвался».
Говорил он громко, зная, что друг слышит его. Шевалье скрипнул зубами от злости и закрыл глаза, без слов подтверждая обвинение.
Каждое утро, с тех пор как Шевалье стал прикован ранами и болью к постели, Абеляр принимал солнечные ванны и блаженствовал, вытянув ноги. Ел он больше, чем когда-либо, и с таким аппетитом, что очень скоро окреп.
Когда на раны Шевалье были наложены швы, врачи с головы до ног заковали его в гипс. Он очень страдал, но не жаловался. Сломанные кости постепенно срастались, а раны затягивались, но опухоль на колене воспалилась и не опадала, отдаваясь острой болью во всем его истерзанном теле, словно только эта мука могла остаться памятью о нем на земле после того, как развеют его прах.
Мне приснился Абеляр, он жил с женщиной, воплощавшей золотой век в невинности Сада Наслаждений. Ее лицо было мне знакомо, и все же я так и не смогла его узнать!
XCII
Всего десять дней оставалось до твоего шестнадцатилетия, когда я получила первое анонимное письмо, такое оскорбительное! А вскоре угрозы стали приходить ежедневно, и все без подписи. Восхищение проторило извилистую дорожку к прихоти – с тобой желали познакомиться, – а кончилось тем, что оно же проложило путь к необъяснимой ненависти.
Поскольку в опасности была твоя жизнь, я купила револьвер, чтобы защитить тебя.
В силу всего этого и с целью успокоить страсти, мы наконец согласились представить тебя Профессорскому Совету Университета. Тебя подвергли экзаменам профессора, погрязшие в трясине своих критериев, нечистых и мерзких! Как обидно мне было за них! В умственном развитии они чрезвычайно отстали от тебя. Тебе присудили прорву титулов, степеней и дипломов – на следующий же день мы с тобой сожгли их, чтобы не осталось никаких следов, никаких стигматов от этой буффонады, во время которой ты привела в восхищение весь Университет.
Профессор философии предложил тебе целый ряд вопросов, столь же оскорбительных, сколь и плоских, столь же бестактных, сколь и пустых. Но ты неизменно отвечала на них с присущей тебе сдержанностью. Под тем предлогом, что он будто бы хотел знать твое мнение о трудах Хэвлока Эллиса, профессор по-хамски спрашивал тебя о проституции, плотском соитии и венерических болезнях!
Этот профессор Эллис как раз тогда прислал нам бесконечно длинное письмо, целую кипу бумаги. Он представился тебе сторонником евгеники, поддерживающим научные разработки в этой области. С какой бесцеремонностью наставлял он тебя, словно сам не понимал, что его советы были на поверку бесполезны и бесплодны. В Лиге сексуальной реформы возмутились, узнав, что мы не ответили ему; они заявили, что виновата в этом я, так как никогда не оставляю тебя одну и по этой причине ты соглашаешься со мной во всем. Как бы им хотелось, чтобы мы с тобой разошлись во мнениях и отдалились друг от друга!
Мне снилось, что к тебе обращалось Провидение в образе двуликой богини. Спереди у нее было чистое лицо юной девушки, сзади – лицо старухи, величественное и суровое. Ты набросила ей на плечи мантию философа и растоптала змею, которая извивалась у твоих ног.
XCIII
День за днем Шевалье цепенел, мало-помалу утрачивая все, что казалось прежде его силой. Опухоль на колене и муки совести парализовали его, в то время как Абеляр, словно по волшебству, выздоравливал. Сколь сокровенными и поучительными были причины, объяснявшие его исцеление!
До своего последнего бегства Шевалье, пребывая в эйфории, тщился достичь всех вершин, и рука об руку с его желанием возвыситься шла невозможность в чем-либо проявить величие. Он суетился сверх меры, и потому интрижки его безжизненно увядали.
«Вы знаете, в каком состоянии Шевалье. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь ему перенести эти муки».
С какой нежностью, с каким сердечным сочувствием взирала я на Шевалье, когда Абеляр в первый раз вывез его на каталке в сад. Как пострадало его лицо в этом кровавом и трагическом побоище! Его тело выглядело бесформенной массой, куском живого мяса. Эта жестокая схватка оставила его один на один с неумолимой судьбой. Он вынырнул из глубин тьмы и смуты, в которых жил до этих пор. Точно неживое существо, лежал он дни напролет, неподвижный и разочарованный. Как напоминал он мне моего любимого отца, когда тот медленно умирал, на все махнув рукой, предавшись отчаянию и оставив любопытство, после того как от него навсегда ушел Бенжамен.
Абеляр же обрел небывалую энергию, словно катастрофа, случившаяся с его другом, была лишь вехой на последнем этапе, отметившей завершение цикла. Это вещественное изменение погребло и развеяло пеплом кусок его прошлого – так мор и голод или природные катаклизмы оказывают влияние на Историю. Но ты – ты молча взирала на двух друзей, словно ничего не ведала о боли! И все же какой дивный свет сострадания исходил от тебя!
В ту ночь ты приснилась мне скачущей верхом, с луком в руке и стрелой в другой. Рядом с тобою мчалась химера. Это было сказочное существо с телом львицы, змеиным хвостом и тремя головами. С какой легкостью ты обогнала ее и поймала, набросив ей на шею аркан!
XCIV
Смирно сидя на табурете у горнила, ты выглядела такой хрупкой и трогательной! Ты вникала в стадии замысла так по-детски прилежно, невзирая на твои шестнадцать лет, и в то же время какой ты была зрелой и разумной!
Ты не могла объяснить тайный механизм замысла. Но как искусно и с каким изяществом предусматривала ты и выявляла причины, которые могли бы привести к краху, как боролась ты с трудностями, которые могли бы заставить тебя опустить руки. Как часто, забыв обо всем на свете, я созерцала тебя за работой, твои глаза, твои губы, твои маленькие пальчики.
Ты действовала еще осторожнее и осмотрительнее, когда появлялась на поверхности жидкого раствора первая коагуляция камня, маслянистый, едва заметный налет. С каким безошибочным чутьем рассчитывала ты высоту пламени, чтобы порвать эту тончайшую пленку бережно на куски.
С тревогой и восхищением наблюдала я ювелирную точность твоей работы. Как ловко соединяла ты куски до тех пор, пока, вращаясь все быстрее, они не превращались в плотный комок.
Все мои знания я передала тебе, но то была лишь песчинка заложенной в тебе от природы мудрости.
Я посвятила тебя в таинство со всей скромностью, подобающей той, что, хоть и будучи матерью тебе, была перед тобой младшей и знала это. От меня ты получила итог научного познания века. Но ты знала, что этот остов не несет истинную науку. Ты получила духовный свет от нашей общей матери Природы, благодаря откровению.
Как умело, с каким отточенным мастерством, с какой врожденной ловкостью претворяла ты на практике простые формулы, заключавшие в себе лабораторные премудрости, с тем чтобы синтетическим путем создавать минералы.
Эти самые первые шажки, стоившие многих бессонных ночей, частых страхов и неустанных забот, позволили тебе стремительно взмыть к вершинам мудрости.
Однажды ночью я увидела летящего голубя с Ноева ковчега с оливковой ветвью в клюве. Пролетая надо мной, он уронил белую слезу. Я выпила ее – с великим наслаждением! То была на самом деле капля бессмертного молока птиц. И я почувствовала себя такой счастливой благодаря этому столь чистому предзнаменованию!
XCV
Невзирая ни на что, я должна была бы ответить на письма Бенжамена и объяснить ему со спокойной душой, не терзаясь и проявив твердость, что мы в нем никоим образом не нуждаемся. Слишком поздно я осознала свою ошибку. Он всегда был так упрям! Сколько раз еще в детстве, лишь бы настоять на своем, закатывал он истерики.