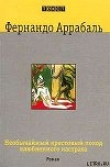Текст книги "Красная мадонна"
Автор книги: Фернандо Аррабаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
В редкие дни я хотя бы раз не задавалась вопросом: не следовало ли мне, обеспечив тебя необходимым умственным и научным багажом, погибнуть в огне сражения? Я хотела бы умирать тысячи и тысячи раз, чтобы многажды дарить тебе жизнь, чтобы, питаясь из этого неиссякаемого источника, ты росла и набиралась сил. В конце концов я уверилась, что и впрямь каждый день умираю и ты рождаешься из моей смерти и моего трупа. Как я была бы счастлива, во исполнение моей миссии, моего долга и материнских обязанностей, ежеутренне испускать дух ради тебя за несколько мгновений до твоего пробуждения!
Мне снилось, будто я смотрелась в зеркало. Черты мои мало-помалу искажались, и наконец мое лицо превратилось в воронье. Маслянистый жир сочился из моего тела, и зловоние исходило от него.
LXIV
С непревзойденным умением, все результативнее с каждым разом, ты овладела искусством выделять в горниле пламя духа и материализовывать его в соль. С какой точностью осуществляла ты соединение чистого огня – сути незримой глазу серы – с ртутью, скрытой в рудах и несовершенных металлах! Как умело искала небесный свет, рассеянный во мраке вещества! Ты знала, что без него, незаменимого, тебе не сделать ничего.
Как быстро и как просто усвоила ты все то, на что мне потребовались долгие годы учения и поисков на ощупь! Как безропотно трудилась ты у горнила! И тогда я убеждалась, что ты добра и милосердна и что те пессимистические и жестокие фразы в твоем тайном дневнике писала не ты, а какой-то бес, вселявшийся в тебя временами, водил твоей рукой.
Как виртуозно заставляла ты взаимодействовать первичные элементы – воду и огонь! На первой стадии ты получала горючую воду, обычную ртуть, жидкий огонь. С каким мастерством использовала ты этот огонь в качестве растворителя для извлечения философской ртути! Ты предчувствовала, что однажды тебе удастся простым воздействием элементарного огня осуществить главное и создать два магистерия.
Ты слушала меня с таким вниманием! Это говорило о том, что ты вполне понимаешь замысел. Просто и проницательно познавала ты свойства серы и ртути, ибо в них – образующее начало металлов.
«Но ведь тогда, мама, оба этих элемента должны быть в основе одного и единственного в своем роде вещества».
Вопросы, открывавшие тебе мой замысел, задавала ты сама, как и было сказано в моих книгах; они указывали множеством примет на искры озарения, сверкавшие в твоем лучезарном таланте.
Мне приснилась девочка, жирными, расплывшимися телесами походившая на Вакха; с жезлом в руке она восседала на огромной бочке, наполненной не вином, а ртутью. Сотни взрослых мужчин и женщин слетались к ней. Девочка сказала им: «Я – Ева, матерь всех людей». И тут я увидела, что у нее было твое лицо.
LXV
Как только к Шевалье более или менее вернулись надолго утраченные силы, он пришел к нам и, призывая Бога в свидетели, снова поклялся в том, чего я вовсе не просила его обещать. Он боялся, что его речи, как и его молчание, были мне мало интересны.
Я узнала, что Абеляр тайком продолжает обмениваться письмами с Бенжаменом и переписка их крайне интенсивна. Бенжамену уже минуло двадцать лет. Порой я спрашивала себя, знает ли он о твоем существовании. Я поняла, почему он не писал мне: он думал, что я ему не отвечу.
Шевалье выводило из себя обострение туберкулеза у его друга.
«Скоро от него останутся кожа да кости. Он превратился в жердь, покрытую тоненьким слоем прозрачной кожи. Откуда только у него берутся силы, чтобы кашлять, как надорвавший глотку извозчик?»
Шевалье не проявлял к нему ни малейшего снисхождения. После каждого своего бегства он словно возрождался из пепла, а судороги раскаяния вскоре топил в бесконечном презрении к своему другу. Мало-помалу в нем поднималось отвращение к невзгодам и немощам Абеляра, и он высмеивал их при каждом удобном случае.
«Да это же зануда из зануд. Он нарочно не жалуется, хочет, чтобы я сильнее мучился. Не корит меня, даже когда я, уходя из его комнаты, изо всей силы хлопаю дверью, чтобы слетела игла у его граммофона».
Шевалье терпеть не мог музыку, которую его друг слушал день и ночь.
«От всей этой дребедени, годной разве что для крыс, ему только тяжелее живется. Дебюсси под стать ему, такой же нудный. Сегодня я спросил его, не представлял ли он себе в мое отсутствие, как я предаюсь маете. Он знает, что я всегда бываю в форме, когда умаюсь».
С каким вниманием слушала его ты, запутываясь в тенетах его буйного воображения.
«Он знает, что я обладаю любовным слухом. Что я умею вслушиваться в дыхание другого человека, когда рождается желание, и угадываю все, чего ему захочется. Почему он еще не умер от ревности?»
В ту ночь ты приснилась мне сидящей на спине деревянной великанши. Вы с ней шли куда-то вдвоем по волнам бушующего моря.
LXVI
У твоего тайного дневника было название; забегая невероятно далеко вперед, ты озаглавила его зловеще: «Преисподняя». Как тщательно ты его прятала! Ты описывала в нем такие чувства – я и вообразить не могла, что ты их испытывала. Их внушала тебе твоя скрытая вторая натура, загадочная и противоестественная.
«Дисциплина, мораль, труд и благость – пора их вырубить под корень, как старые засохшие деревья, чтобы не мешали расти молодым побегам».
А между тем как упорно работала ты над каждой стадией замысла! Но в своей «Преисподней» другая, надменная и нерадивая, ты писала:
«Я подвержена тлену. – Славлю свободную свободу. – У меня нет сердца. – Где мне найти уши, которые бы меня выслушали?»
Да разве я не слушала тебя со всем вниманием? Порой я задумывалась, не следует ли сказать тебе, что знаю о существовании твоего тайного дневника, а иной раз мне приходило в голову, что весь этот ворох порочных дерзостей надо рассматривать всего лишь как шалости маленькой проказницы.
«Я обливаюсь кровью. – Это острый шип мысли».
Но когда ты оставалась со мной наедине в подвале, сквозь маску безразличия на твоем лице я провидела сполохи духовного пламени. Мы с тобой вдвоем хранили от суетных и любопытных глаз секрет твоей работы у горнила.
Только Шевалье, бывало, шутил так, словно догадывался о замысле:
«Смотрите, обожжете себе пальцы, вы обе, и спалите ваши иллюзии».
Мало-помалу я приучила себя думать, что в твоем дневнике, посредством пустых фантазий, ты просто отпускала узду своих мыслей. Твою «Преисподнюю» писал кто-то во власти чужой воли, то была не ты, и этого кого-то ты ненавидела.
Проявляя благость, мудрость и твердость духа, я вложила в тебя знания, которые побуждали тебя порвать с тщетой жалких глупцов, мнящих себя мудрецами.
LXVII
С каким глубокомыслием, несвойственным столь нежному возрасту, умеряя всплески присущего тебе любопытства, познавала ты вместе со мною Природу! Как отважно изо всех сил старалась подражать ей! Ты говорила мне:
«Да, мама, ты права, как всегда, только проникшись духом простоты, можно достичь мудрости».
Твой незаурядный ум я направляла в нужное русло, действуя с бесконечными предосторожностями и призывая тебя следовать моему примеру.
«Ты заездишь ее нагрузками, которые под силу разве что першеронской тяжеловозихе! Твоя дочь – ребенок, не забывай об этом. Ты заставляешь ее жить жизнью библиотекарши-климактерички с допотопными окулярами на носу».
При всем желании и при всей любви к нам Шевалье не мог постичь огромности твоей миссии.
«Между прочим, я никогда не видел, чтоб твоя дочь плакала… и даже чтоб смеялась. Это ненормально».
Он был бы рад, если бы ты капризничала или хныкала, как самая обыкновенная девочка. Всех часов в сутках тебе было мало, чтобы претворить в жизнь задуманное. Таким бальзамом на мою душу было видеть, как ты занимаешься, не зная устали, не покладая рук! Ты служила мудрости и благости так преданно, так самозабвенно! Как же смогла ты потом восстать против своей судьбы?
Как ты стремилась к заветной цели! С самого начала ты выбрала трудный путь, чтобы показать всем, что он и есть верный. Как равнодушна ты всегда была к благам земным и мирской славе! Как благоразумна и чиста помыслами!
Абеляр и Шевалье не годились тебе в помощники и уж тем более не могли идти с тобой твоим путем. Участие, которое они в тебе принимали, было чревато неурядицами и осложнениями. А вот меня ты действительно понимала, и в каком совершенстве!
«Да, мама, я все сделаю как ты говоришь».
Твои слова ласкали мой слух, умиротворяя. Тебе была дана сила, способная сокрушить любую угрозу.
Мне приснилась львица, она умела летать и в жестоком бою одолела змея с головой, увенчанной носорожьим рогом. Тело поверженной твари лежало в луже густой черной крови – львица победила.
LXVIII
Твои частные учителя, люди из весьма заурядной среды, учили тебя всему, что знали сами, но оказались неспособны к сохранению тайны, которое от них требовалось. Они рассказали о тебе своим университетским профессорам, и секрет просочился наружу. На нашу беду, ты вызвала крайне нездоровый интерес. Ты была для них вундеркиндом, диковинкой из ярмарочного балагана.
Они упорствовали, настаивая, чтобы ты сдала экзамены на степень бакалавра. Тебе в твои десять лет терять драгоценное время на какие-то дурацкие тесты – об этом не могло быть и речи. Путем подлых махинаций им удалось тайно устроить тебе экзамен прямо в нашем особняке. Мы стали жертвами заговора и злоупотребления доверием.
Когда Шевалье показал мне газету, только колоссальным усилием воли сумела я не выдать своего смятения.
«Ты видела? „Отлично“ по всем предметам! У нас, оказывается, светило в доме. Кто бы сомневался! Почему ты прячешь ее от людей?»
Я так боялась, что тебя заберут, как Бенжамена! Я приняла решение – и ты согласилась со мной, – что отныне двери нашего дома будут навсегда закрыты для всех этих недалеких профанов из Университета. Частные учителя привлекали к тебе внимание и губили наш замысел, разглашая то, о чем никому не следовало знать.
«Она говорит и пишет на нескольких языках, живых и мертвых, как на своем родном. Ее познания в области филологии редкостны. Способности к математике и химии поразительны. Она – подлинный кладезь философской премудрости».
С этого дня мы решили, что нам вовсе не нужны эти частные учителя, которые преподавали без души, умели мало и причинили столько беспокойства. Ты продолжала свое образование сама по трудам великих ученых. Как я была счастлива выбирать тебе книги, наиболее подходящие для нашего замысла, и мне не нужна была ничья помощь!
Я пришла к убеждению, что в конечном счете переполох, вызванный чванством университетских профессоров и болтливостью частных учителей, пошел на пользу твоему образованию. Мы с тобой поняли, что должны оградить себя от столь же заносчивых, сколь и законченных глупцов.
LXIX
Несколько дней мы прожили затворницами, нам было лучше вдвоем, чем в чьем-либо обществе; Шевалье, с его обостренным чутьем, догадался, что я не хочу его видеть, и оставил нас в покое. Абеляр прислал мне рисунок, на котором была изображена сверкающая звезда. Внизу он написал такие слова:
«Пусть это будет верным знаком того, что ваша дочь, выйдя в открытое море, благополучно достигла первой гавани».
Какой нежностью, какой благодарностью к нему я преисполнилась! Он верно угадал силу моих переживаний во время этой тягостной истории с Университетом.
Впервые ты захотела ответить ему сама. Ты нарисовала для него цветок мудрости и назвала свой рисунок «Герметическая роза».
На другой день мы наконец вышли в сад и через окно в стене увидели Абеляра. Он ласково улыбнулся нам.
Шевалье, чтобы загладить обиду, нанесенную Университетом, купил мне книгу Раймунда Луллия. Это было старое издание «Книги друга и любимого». Я открыла наугад и прочла:
«164. Скажи мне, безумец, к чему ты более тяготеешь – к любви или к ненависти? – Я ответил: к любви, потому что я ненавидел, чтобы возлюбить».
Настало время тебе узнать тайны, могила которым – чрево. Я сама объяснила тебе, как размножаются различные виды животных и растений и люди. Я дала тебе исчерпывающие научные сведения о продолжении рода в медицинском, психологическом и философском аспектах. Я сполна удовлетворила твое любопытство предметом, о котором ты слышала так много туманных и бестактных намеков из уст Шевалье. И очень скоро на эту тему, не хуже, чем на все прочие, ты могла рассуждать как существо свободное, разумное, благое и здравомыслящее.
Теперь, когда частные учителя перестали приходить в наш дом, каким счастьем было для меня работать в подвале! Мы вверили себя нашему провидению, а его воле никто не может противиться.
LXX
Как преждевременно было делать тебя женщиной! Под знаком солнца трудилась ты у горнила своими детскими ручонками, такими умелыми! Этой работе ты отдавала лучшие из твоих дарований. С какой уверенностью в своей правоте слушала я твои разъяснения там, в подвале, из бездны своего «я», наперсницей твоего сокровенного существа.
«Камень, мама, стал шафранного цвета, однако он тяжелый и жжется, словно толченое стекло».
Как быстро, буквально на лету, схватывала ты суть замысла. Язык адептов поистине был твоим родным, в то время как для меня, хоть я и выучила его, оставался чужим. Твоя смышленость, твоя рассудительность, твой ум наполняли меня гордостью и восхищением. Всякий раз, когда ты работала у горнила, мне казалось, что ты озарена чудесным сиянием, льющимся из неугасимого светильника.
Таинству творения ты даже не училась – ты изначально несла его в себе. Как просто и как мастерски ты им овладела! Соединение вещества и солей металлов заботило тебя меньше, чем конденсация соли на прочной и не подверженной распаду связующей основе. Как вдумчиво и прозорливо умела ты выделить и углубить каждый случай такого слияния, доводя тем самым его до успешного завершения! Я задумывалась иной раз, вполне ли ты постигаешь универсальный характер и природу действующего фактора. Выделяющиеся вещества ты обрабатывала со знанием дела, оперируя ничтожно малыми количествами металлов, которым недоставало собственной жизнеспособности. Глядя на тебя, я с великим трудом себя сдерживала – так хотелось мне расплакаться от счастья.
«С виду, мама, эти металлы мертвы. Потому я и не могу извлечь латентную и потенциальную жизнь из глубин их твердых кристаллических пластов».
Я видела твое личико, озаренное пламенем горнила, ты всматривалась в расплавленную массу с таким вниманием! Какой сосредоточенной ты представлялась мне!
Ты была так мала, но выглядела женщиной, преисполненной добродетелей. И сколько благоразумия выказывала! Как безошибочно находила я дорогу в этом запутанном лабиринте!
LXXI
Двое английских ученых мужей, некие Хэвлок Эллис и Герберт Джордж Уэллс, забыв о том, что истинная наука по природе своей немногословна и скупа на жесты, попусту тратили время, свое и наше, в поисках возможности вступить с тобой в переписку. Еще больше, чем их письма, на которые мы не отвечали, расстраивали меня их комментарии газетчикам. Сказать о тебе они не могли ровным счетом ничего, кроме глупостей. Они хотели тебе писать и даже увидеться с тобой; твое раннее развитие изумляло их, о чем они без конца твердили, ставя телегу впереди лошади. Профессор Уэллс, особенно несносный, пожелал продемонстрировать тебя на каком-то конгрессе в Лондоне.
Наконец-то, с бесконечным высокомерием, написал мне Бенжамен; он предлагал свою помощь и не скупился на советы. Тебе, по его мнению, для самосовершенствования необходимо было ехать в Лондон. С безмерной дерзостью и еще большей спесью он вызвался взять на себя все расходы, так как, по его словам, если удача и улыбнулась ему, то причину этого следует искать в его пребывании за границей, вдали от родины. Какая черная неблагодарность! Ни любовь, которой его окружил мой любимый отец, ни мои уроки, стало быть, в счет не шли. Разумеется, я и не подумала отвлекаться от занимавших меня дел, чтобы ответить ему.
Ты уже побывала в таких дальних странствиях, не покидая особняка, даже не выходя за дверь! Твой путь лежал вокруг горнила, и он становился долгим, извилистым, опасным и напрасным, стоило тебе оступиться, сделать хоть один неверный шаг. Ты могла сбиться с дороги в самом ее начале. Ты искала ориентиры, продвигалась осторожно и без устали боролась со злом. Порой ты испытывала тошноту, и тебя рвало за дверью, но ведь рвота от паров серы всегда была ни с чем не сравнимым признаком расщепления!
«Мама, я вижу черный цвет, только черный, я вижу всю землю иссохшей и растрескавшейся».
Когда пришло из Лондона то первое письмо Бенжамена, ты сказала мне со страстностью, далеко выходившей за рамки допустимого:
«Солнце и луна затмеваются в унисон. Я вижу их как чистые аллегории».
LXXII
Твой тайный дневник продолжал пожинать тернии и сорную траву. Ты назвала его «Преисподней» – как верно! Ибо он был излюбленным местом твоих ангелов тьмы и твоих Вельзевулов.
«Я гуляла с селедкой под юбкой. – Я буду возмущена до мозга костей и провоняю. – Я одолею порядок. – От меня блевать тянет».
С тревогой и ужасом обнаружила я твою старую юбку, пропахшую тухлой рыбой. Ты выходила в ней куда-то с Шевалье – без моего ведома.
«Оставь ее, пусть ходит как хочет! Вздумает одеться под мерлузу, больную корью, – пускай ее! Здесь-то ты наряжаешь ее под леди в перьях из сада тьмы».
Ты становилась совсем не похожа на себя, когда выходила с Шевалье! Однажды он рассказал мне все, так, будто речь шла о невинных шалостях:
«Как она любит на улице нагонять страху на фарисеев! Когда твоя дочь со мной, она – другой человек, в ней есть азарт, а сколько яду она в себе накопила!»
Когда ты писала свой дневник, те же злые силы владели тобой.
«Долой малодушных! – Они у меня будут удирать со всех ног, как тридцать шесть тысяч новорожденных пудельков».
Ни я, ни Шевалье в твоей «Преисподней» не упоминались. Но косвенно ты, пожалуй, намекала на меня в следующем абзаце:
«Я живу за счет другой. – Цинично. – Я – принцесса-гадина. – Я выдумываю самые низкие низости, самые грязные гнусности, все, что есть самого идиотского в моих словах и поступках. – Мне платят учеными книгами. – Никогда не стану работать, никогда, никогда в жизни. – Буду долго и упорно бастовать сложа руки. – Мое бедное сердце потеет в терции».
В подвале ты сама опровергала эти варварские писания своей преданностью делу. Как упорно трудилась ты у печи! Как прилежно перечитывала книги адептов! Твой тайный дневник мог сбить меня с толку, как и твои измышления, но ведь не обманывали меня глаза, когда, благодаря им, я тысячи и тысячи раз видела тебя, послушную и неутомимую, в свете пламени горнила. Созерцая тебя за работой, я выказывала все признаки чистейшего восторга, не тронутого ржой непомерного умиления.
LXXIII
Однажды ночью ты завершила работу в подвале несуразным вопросом:
«Мама, а какова общая стоимость сырья и топлива, необходимых для творения?»
Их цена была столь же ничтожна, сколь богато и обильно само учение. Как много ночных часов проводила ты, запершись в подвале, в трудах над замыслом!
«Посмотри хорошенько, мама, на это вещество, оно – тоже книга».
И то сказать! Плоские кристаллы этой руды, своеобразной конфигурацией напоминавшие слюду, наслаивались друг на друга точь-в-точь как страницы книги. С какой легкостью извлекала ты из огня подспудное пламя, побуждая его ударами молота и трением. Из всех металлов железо, даже на взгляд, содержит самую высокую пропорцию скрытого искрящегося света.
Абеляр, закутавшись в одеяло, десять недель провел в саду за реставрацией трех овальных миниатюр. Как терпеливо, как кропотливо и тщательно возвращал он им свежие краски! В полдень просыпался Шевалье и принимался браниться. Когда он бывал не в духе, вся горечь вскипала в нем, перерастая в отчаяние. И, не ведая снисхождения, он безжалостно срывал его на Абеляре: «Ты хуже замшелой старой девы. Сколько можно работать, каторжная ты пчела? Бьюсь об заклад, что ты встал с петухами, чтобы зарабатывать нам на жизнь своими неутомимыми кисточками, открывшими секрет вечного движения. Ты же просто умираешь от желания сказать мне, что ты – бедный, самоотверженный трудолюбивый муравей, а я – бесстыжая стрекоза, лентяй и лежебока. Давай, признавайся, что ты меня презираешь!»
При первых же залпах этой канонады Абеляр прекращал работу, будто считал непочтительным слушать Шевалье с кистью в руке. Несколько часов спустя Шевалье, подластившись, растирал ему затылок, долго и от души массировал – заглаживал свои вздорные речи.
«У меня пальцы целителя, сейчас как рукой снимет головную боль, до которой я сам же тебя довел своей выволочкой. Цени, какого друга послал тебе Бог! Черт возьми! Повезло тебе!»
LXXIV
Ректор Университета – кто только позволил ему, кто его уполномочил нести такой бред? – прислал нам нелепейшее письмо. Он предоставил тебе право в двенадцать лет выбрать тот университетский курс, который ты сочтешь наиболее для себя подходящим. Как дерзко и нагло ворвался он, непрошенный, в твою жизнь без приглашения и без церемоний!
Мне приснилась ты посреди пруда, у тебя было тело русалки – символ согласия и единения. По берегу пруда металась целая толпа принцесс, все они были нескладные и безобразные. Они взобрались на огромные рога, уселись на них верхом и стали кидать в тебя камни. Тебя забили бы до смерти, но тут вдали появились три королевы с белыми волосами, они были волшебницами и спасли тебя.
Академия гуманитарных и политических наук требовала от тебя двух лекций. Несколько политических партий пытались залучить тебя в свои ряды. Как смешны были все эти торги! Я тревожилась, боясь, что какой-нибудь молодчик из тех, что носили цвета гнева, узнает тебя на улице.
Задетый моим молчанием, профессорский совет Университета направил мне длинное письмо, льстивое и лживое. Они носились с новой блажью: давать тебе уроки по переписке! И вбили себе в голову, что необходимо устроить тебе письменные экзамены в нашем доме, как это сделали их коллеги, когда речь шла о степени бакалавра! Что за шуты гороховые! Шевалье подливал масла в огонь:
«Почему ты не дашь ей выдержать экзамены на степень лиценциата юридических наук – хотя бы из чистого любопытства? Представляешь, девочка станет королевой казуистики и будет из судейских веревки вить!»
Каким легкомыслием, какой непростительной глупостью было бы, если б ты тратила время и силы на профессоров, не видевших дальше своих насестов, высота которых составляла предел их честолюбивых устремлений.
К тому времени, как тебе исполнилось одиннадцать, ты достигла уровня знаний адепта, имеющего годы и годы учебы и труда за спиной. Как я гордилась тобой!
LXXV
Абеляр немного остудил мою кровь, передав мне через Шевалье эскиз, изображавший поединок орла со львицей на фоне раскрытой книги. На обратной стороне было написано:
«Вы правильно делаете, противясь попыткам Университета нарушить покой, в котором живете вы с дочерью. Того чудесного, что в ней есть, академическим кругам никогда не понять. Университетскому образованию не дано проникнуть в истинные тайны».
Несколько дней спустя он написал для меня ночной пейзаж, глубокий, безмолвный. На небосводе сияла сверхновая звезда, огромное, яркое светило, вобравшее в себя тысячи небесных звезд. Внизу он написал тушью:
«Указующий путь светоч Вселенной – скромный союзник мудрости».
Сколько разнообразных и богатых смыслом символов показывал Абеляр Шевалье! Но тот принимал их как доказательства мизантропии друга, а не его духовности. Сколько раз являл он нахмуренные брови его глазам, сколько проклятий швырял с угрюмой злобой ему в лицо!
«Смазанная вазелином юла не кружит так вокруг всего, как он! Вдобавок он старше Мафусаила. У него вместо крови в жилах пресная водица».
Он старался затушевать все то, что составляло превосходство Абеляра, – его воздержанность и благоразумие; он предпочел бы видеть его иным, жадным до жизни.
«Ручаюсь, даже не будь он болен чахоткой, все равно не пускался бы со мной в загулы. Этот тихий хамелеон упивается лишь меланхолией».
Шевалье снова повадился уходить по ночам. На исходе дня Абеляр, по кротости своей все терпевший от друга, помогал ему принарядиться, кисточками подкрашивал лицо, чернил брови и освежал губы с бесконечной заботой.
LXXVI
С двенадцати лет ты сама, без моей помощи, хранила и поддерживала огонь на кругу. Ты с огромным вниманием присматривала за ним весь день напролет, зная, что, если прервется обжиг, это приведет к потере сырья. Ребенком впитав молоко учения, ты была полна преданности, и дело у тебя спорилось. Как быстро ты научилась самостоятельно следить за огнем в горниле! Как умело не давала температуре падать! С какой точностью удерживала пламя на нужной высоте! Ты ведь знала: случись что-нибудь и ты потеряешь так много времени!.. даже если не будет загублен весь замысел.
Как же мудро избегала ты отклонений. Ты так умело поддерживала нужную температуру на протяжении всего процесса, словно внутри тебя был термометр.
Когда сплав в печи раскалялся добела, на волосок от обугливания, ты могла восстановить его, разложив на составные элементы. Я смотрела на тебя в немом изумлении. Я и не заметила, как пролетело столько лет покоя и счастья.
«Мама, а сколько времени затрачивали адепты, чтобы осуществить творение? Сколько лет проводили они, работая у горнила?»
Этот столь неуместный вопрос, заданный тобою, так меня удивил! Он был недостоин тебя! Месяцы работы, годы, десятилетия… быть может, и целая жизнь протекала, но их это не должно было тревожить. Спешка или корысть могли бесповоротно погубить замысел. Это ребяческое нетерпение, к счастью, больше с тех пор не мучило тебя.
Ты отделяла землю от огня, летучее от твердого, и делала это с такой виртуозностью! Ты разлагала, не разрушая. Свойства высших веществ, как и свойства низших ты равно обращала на пользу.
Сколько раз снилось мне, что ты поднимаешься с земли на небо, чтобы потом вновь спуститься ко мне, и странствуешь так, ликующая, свободная.
В подвале всегда лежал на полу никогда не зажигавшийся фонарь с приоткрытой заслонкой. Его погасший фитилек служил предупреждением тем людям, которые, работая, дают увлечь себя нетерпению, становятся переменчивыми, алчными или легковесными.
LXXVII
Ты с пользой для себя вкусила науки в раннем возрасте, но преждевременно, по мнению философов, артистов и адептов. Твоя настойчивость в учении и труды в подвале сделали тебя женщиной новых взглядов, существом, единственным в своем роде, и ты сформировалась так быстро! Великое ликование поселили эти победы в моей душе и наполнили ее счастьем и довольством.
«Да, мама».
Трудолюбиво, упорно выверяла ты истинность магистерия. Без моей помощи ты приняла посвящение через труды адептов – я могла быть при этом процессе лишь зрительницей, но сколь счастливой!
«Да, мама».
Бенжамен шел другим путем, так непохожим на твой. Музыка сразу принесла ему плоды, реальные и всем доступные. Иное дело ты – твой усердный труд был окружен молчанием. Бенжамен колесил по свету, ничем не стесненный в своей гордыне, пожиная лавры, в то время как ты, отказавшись от мирской суеты, добровольно жила затворницей, чтобы в полной мере осуществить замысел. Бенжамен забыл, какую роль сыграла я в его детстве; ты же была благой, честной и главное – признательной.
«Да, мама».
Как удручала меня пагубная переписка между Абеляром и Бенжаменом! Мне не хотелось просить Абеляра положить конец столь нездоровым отношениям. А ведь я могла бы даже потребовать этого и должна была так поступить. Тогда у нас все было бы по-другому. Самым бестактным образом Бенжамен влез исподтишка в нашу жизнь и вмешался в то, что его не касалось, – в твое будущее. Шевалье прочел письма и великодушно оправдал того, кто не заслуживал оправдания, не углубляясь в подробный анализ Бенжаменова сердца: в нем говорили горечь и вздорный нрав.
«Этот парень, Бенжамен, – подранок, он травмирован, это видно по его письмам, как будто ему душу ободрали заживо. Его мать – настоящая бл…, он это знает, а ты не отвечаешь на его письма. Он родился сыном неизвестного отца – и вот теперь проснулся круглым сиротой, второй раз лишившись матери».
LXXVIII
Сколько раз, читая твой тайный дневник, спрашивала я себя, не сходишь ли ты с ума на почве раздвоения личности, не идешь ли ты по этой каменистой почве прямиком к шизофрении. Я никогда ни словом не обмолвилась о твоей «Преисподней», чтобы не углублять трещину в твоем рассудке, расколотом на две противоположные натуры.
«Рок сделал меня мятежницей. – Я извращаю все мои чувства и становлюсь чудовищем. – Красота, благость, наука – какие гадкие слова, лишенные всякого смысла. – За каким углом неведомое примчится на всех парах? – Моя непокорная душа оскотинилась»
Как отрадно мне было смотреть на тебя, безмятежную, твердо стоящую на земле, – после чтения сбивающих с толку сентенций, которые ты сплевывала в твой тайный дневник, точно харкотину. Как дисциплинированно, как послушно трудилась ты у горнила! Через какие же поры в твоем ангельском, столь пленительном личике сочилась влага этих черных туч?
«У меня вши в голове. – Я сыплю их в скверах на мамаш и сопливых детишек».
Я видела деревья с надписями, которые ты вырезала ножом на коре, находя это занятие своевременным для усугубления твоих душевных смут.
«Смерть книгам! – Долой науку!» Как мало смысла было в твоих фразах – или как много в них содержалось недосказанного! Но никогда я не позволила себе ни единого порицания в адрес твоей «Преисподней».
«Я погрязла в мерзости. – Никто не понимает меня и никогда не поймет. – Я не есть я».
И все же, все же как блага ты была, несмотря ни на что! Ты работала у печи с такой взыскательной преданностью науке. Свою дисциплину и свое послушание выковала ты сама, чтобы открыть несметные чудеса, проникнув в непостижимые тайны. Ты стремилась к совершенству как к порожденному мечтой образу благодати.
LXXIX
Шевалье по-прежнему пропадал где-то ночами, ввязываясь во всевозможные приключения. Он возвращался, всегда не один, в предрассветные часы. Его прощания со спутниками затягивались, тишину вспарывали звуки ударов и пинков, брань.
Как заботливо с наступлением сумерек снаряжал его Абеляр для ночных загулов. Шевалье вел себя точно невеста, он распалялся, весь – ожидание, и сладко пел до тех пор, пока не покидал нас; его чаяния взрывались фейерверком, рисуя узор мечты.
«Надо веселиться! Нельзя жить, как Абеляр, на его вечно хмуром лице морщин больше, чем на сушеной сливе. А это заразно, известное дело. Мне нужно удостовериться, что мое тело живо».
Он уходил, расфуфыренный в пух и прах, с гордо поднятой головой, – и каким же помятым и поникшим возвращался!
Однажды Шевалье привел с собой какого-то артиллериста и уложил его в своей спальне. Всю ночь они задирали друг друга, хохотали, препирались. Утром вместе уселись завтракать в саду; покуда они пикировались, Абеляр намазывал им бутерброды. С каким любопытством наблюдала ты за этой сценой!