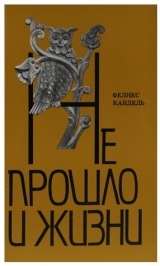
Текст книги "Не прошло и жизни"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Ща я эту гармошку‚ – сказал Петька, небритая харя‚ – гвоздем проткну.
А бабка глядела из кадушки тихо-благостно‚ бабка не переживала понапрасну, все переживалки удар отбил:
– Уважает кура петуха. За то‚ что петушок не делает греха. Не курит‚ петушок‚ спиртное он не пьет‚ и кажный день поет...
Бабка забеспокоилась за день до удара‚ будто чего учуяла. Бабка наскребла мелочишки по карманам‚ потащилась на почту сдавать телеграмму: "Клава‚ воротись давай Христа ради. Мне невмоготу". Христа не пропустил заведующий почтой‚ собственноручно переписал текст: "Клава‚ воротись давай Маркса-Энгельса ради". Назавтра пришел с путины ответ: "Маманя‚ заберите меня отсюдова коллективного руководства ради. Не то рожу от кого ни есть". Тут бабку и стукнуло‚ будто костяшкой по темечку. Очухалась – сидит в кадушке посреди пустой комнаты‚ а близнятки пыхтят дружно‚ последний шкаф из дома волокут – на бутылку менять.
– Я ба‚ – сказала неслышно‚ – русскую нонче сплясала... Я ба‚ – сказала‚ – с охоткой... Девица распрекрасная да молодец преизрядный...
А королева – крашеная пионервожатая – тут как тут. У нее опыт‚ у королевы‚ от работы с детьми: всякий шумок ухватить‚ о всяком доложить.
– По заявкам‚ – скомандовала. – Трудящихся. Рус-скую!
Гармонист приладился поудобнее‚ глаз зажмурил лениво‚ мехи растянул небрежно. Вышли в круг востроносые солистки‚ вынули кружевные платочки‚ деловито застучали каблуками. Пыла мало‚ жара мало‚ толка мало: топот один от них‚ пыль одна в нос. Бабка в кадушке дрыгнула чуток ногой‚ на большее сил не стало. Ноги гнилы‚ так и танцы немилы.
– Это ж рази русская? – сказала утомленно. – Это ж американская-англичанская... Из другой квашни тесто.
Сунулся из ниоткуда завтрашний старик‚ будто проклюнулся в воздухе‚ филином закрутил головой:
– Дайте‚ что ли‚ побаловаться. Стариной тряхнуть. Дайте и мне!
Гармонист заартачился было‚ губу надул от обиды‚ но тот ткнулся к нему, нос к носу‚ приоткрыл на глазу черную повязку‚ и этот послушно отдал гармонь‚ пододвинулся‚ уступил главное место. Что он увидел там‚ под повязкой‚ запрятанное от других? Дуло? Кулак? Гнойную язву? Истинное‚ быть может‚ выражение? А этот‚ черт одноглазый‚ уже согнулся хищным крючком на скамейке‚ ухнул‚ ахнул‚ глазом сверкнул на народ и – с ходу‚ в момент – переломил гармонь хребтом о колено.
Вскрикнула.
Вздрогнула.
Забилась на чужих коленях.
Затрепетала в ловких руках.
Выгнулась и опала в пронзительной радости.
И парализованная бабка ведьмой скакнула из кадушки‚ в самую в середину круга.
Дробью. Перестуком. Хитрыми коленцами.
– Роспись‚ – завопила‚ – приданого молодцу‚ – завопила‚ – удалому! Слушай‚ жених‚ не вертись‚ что написано – не сердись!
Скачет бабка по кругу‚ ногу к небесам задирает‚ подолом по сторонам трясет‚ дыркой на чулке сверкает‚ да ручкой отмахивает‚ да плечиком подергивает‚ да каблучком оттоптывает: рот разинут, одни корешки торчат.
– Серьги золотые! Из меди литые! Три лисьи овчинки‚ да на сто рублей починки!
А гармонист‚ черт одноглазый‚ над гармонью тешится‚ соколом ее терзает‚ кровь горячую расплескивает‚ берет и бросает‚ нежит и отвергает‚ милует и насильничает: девушки от одноглазого без ума‚ девушкам его подавай‚ мужчину стотящего‚ – вынь да положь! А ветреник Якушев в цене упал. Ветреник Якушев завял без спроса. Якушев девушек ревнует.
– Перина из ежова пуха‚ – для куража кричит одноглазый‚ – колочена в три обуха! Деньгами голик да веник‚ да на сто блох денег! Ножик‚ вилка‚ чашка да кошка Машка!
А бабку не переборешь:
– Новомодная‚ – кричит‚ – мантелия из гнилой‚ – кричит‚ – материи! Кровать об трех ногах да полено в головах! Три котла‚ и те сгорели дотла!
И пошла плясня!
Всплясывает бабка руками‚ выплясывает ногами‚ отплясывает по кругу‚ исплясывает каблуки‚ доплясывается до упаду по плясальному месту.
Плясать – врага топтать.
– Ты у меня щас‚ – говорит Колька по-доброму‚ – в кадушке насидисся. Это я те обещаю.
– Ты у меня щас‚ – говорит Петька по-мирному‚ – в кадушке напляшисся. Это я те сделаю.
И гордо оглядели народ: знай наших!
А бабка утицей прошлась вкруг кадушки‚ надавала обоим подзатыльников: снова она командирша! Скоро близнятки вырастут‚ работать пойдут‚ а она зато на путину завербуется. Рыбу ловить на море‚ рыбаков на суше! Не всё ж и она бабкой была‚ корешками мякушку жамкала. Это она росла у батяни с маманей‚ дочка единокровная. Это ее‚ доню‚ холили-тешили‚ это ей спать допоздна давали‚ это за ней‚ донюшкой‚ приданого напасли – двадцать семь шерстяных платьев. Двадцать семь – это тебе не пальцем деланная! Ее почитал муж за беспримерное богатство. Ее ценила мужнина родня. Ее хвалили соседки-завистницы. Она уважала себя. Жили на заставе‚ в заводском поселке‚ в собственном флигеле: сундук стоял в горнице‚ в красном углу‚ кованый сундук с приданым. По воскресеньям сходилась родня‚ чаи гоняли с вареньем‚ с непременной рюмочкой‚ громоздили на стол сковороду с семечками пошире пня‚ азартно играли в "дурака" трепаными картами‚ лузгу городили до крыши. Бабка сидела на сундуке в шерстяном платье‚ гордо оглядывала родню‚ домовитый нафталинный дух плавал по горнице: остальные двадцать шесть надежно хранились в сундуке‚ под ней. В погожие деньки развешивала их на солнце‚ сама караулила возле‚ мужу не доверяла. Сходились соседки‚ щупали ткань‚ с пониманием поджимали губы: хороший материал‚ не теперешний‚ сноса ему не будет‚ да и покроя отменного‚ почище вашего‚ нынешнего‚ дурацкого. "Черт придумал моду и в воду‚ а люди бесятся". Горели – сундук из огня выхватили. Голодали – приданое не тронули. Грабили их – вдвоем‚ с топорами‚ отбили богатство‚ двадцать семь шерстяных платьев. Потом подошла война‚ мужа унесло без возврата в общую прорву‚ а за ним‚ по одному двадцать семь шерстяных платьев знаменитого приданого‚ что меняла по рыночным дням на прокорм дочери. Чтобы вырастить ее‚ доню-донюшку единокровную. Которую холили-тешили‚ спать допоздна давали‚ для которой не уберегли приданое‚ двадцать семь шерстяных платьев‚ и которая – не с того ли? – шаландается нынче по путине‚ крабов пластает‚ еще родит от кого ни есть. "Маманя‚ заберите меня отсюдова коллективного руководства ради!"
А ветреник Якушев‚ вечный жених‚ уже подбирался к бабке поближе‚ виляя от интереса позвоночником‚ знатоком оценивая подробности‚ колечком подворачивая руку для скорого завлекания-соблазна.
А крашеная королева‚ выдра золотозубая‚ уже приглядывалась к старикам‚ что чужаками притулились в сторонке‚ пододвигалась неприметным шажком на исходную позицию‚ вострила чуткие ушки для уловления-запоминания-докладывания.
А гармонист‚ черт одноглазый‚ уже учуял неведомую опасность‚ подступление вражьей силы‚ смрадный‚ дразнящий запашок‚ подлый‚ обидный шепоток‚ острый‚ цеплючий коготок‚ топь‚ осыпь‚ омут‚ гнилую доску через яму с натыканными впрок кольями.
И с маху запахнул гармонь.
Оборвал танец.
Прекратил буйное‚ неконтролируемое веселье.
Выдержал задумчивую паузу.
Прошелся по клавишам‚ будто в сомнении.
Перебрал – как пощекотал – до одной.
Неприметно перешел на вальс‚ на медленный вальс‚ задумчивый вальс‚ томный‚ нежный‚ завлекательный.
И замутились головы у старушек‚ затуманились глаза у бабочек‚ руки потянулись к талиям‚ а талии к рукам‚ и поплыли по затоптанному кругу пара за парой‚ пара за парой‚ скрыли от бдительной выдры стариков-чужаков‚ скрыли гармониста да самих себя.
Ах‚ вальс‚ фокусник-вальс! Как нам прожить без тебя? Как нам дожить без тебя? Как обручиться с тобою на все времена?
Интеллигентные старушки с опавшими‚ будто беззубыми‚ ридикюлями‚ в ботиках с кнопочками‚ в жакетах с накладными плечиками‚ с утянутыми в жидкий пучок редкими волосиками под потертыми фетровыми шляпками: головы набок‚ веки опущены‚ спины прогнуты‚ локти оттопырены. Призы получали в военных училищах‚ первые призы за вальсы на выпускных лейтенантских вечерах‚ перед отправкой на фронт. "И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука..." Вечер за вечером‚ выпуск за выпуском: кто уходил – не возвращался‚ кого привозили – не танцевал.
Хроменькая бабушка с конфузливым взором и рыхлая‚ в одышке и кашле‚ старуха в черном‚ несминаемом‚ неснимаемом плаще со времен торжества идей‚ с неразлучной хозяйственной сумкой‚ которую привыкла таскать в вечной надежде на удачу.
Сухонькая мышка-вострушка с тиком поперек щеки и баба могучая‚ баба неохватная‚ в силе еще и в теле‚ что отмахивает под музыку тощей товаркой: только ноги летят по воздуху.
Старики-молодожены на медовом месяце‚ влюбленные и очарованные‚ кружатся в упоении‚ нежатся в томлении‚ наслаждаются музыкой‚ движением‚ близостью‚ прикосновением. Волосы спутаны‚ взоры горят‚ ноги летят: жизнь продолжается‚ граждане старики‚ жизнь продолжается!
Рука к руке.
Щека к щеке.
А бабка умильная приткнулась на скамейке под бочок к гармонисту‚ ручкой отмахивает томно‚ ножкой дрыгает капризно, знатоком на неучей:
– Вот я вам скажу. Вот я вам поведаю. И не поверите‚ не угадаете‚ не разбери-поймете. Дело было в войну‚ в беду‚ в самую что ни есть голодуху-невезуху. Бегу под вечер по морозцу‚ пару щеп волоку для дома: дочка у меня хворая‚ цельный день под тулупом лежит‚ чаю дожидается. Прибегу – кипяточком напою‚ без заварки-сахара: всё легше. Пробегаю проулком‚ темень египетская‚ а из подворотни басом: "Девка‚ сахарку хошь?" Я обомлела‚ ноги к снегу пристыли. "Сахарку?" – "Сахарку". – "Хочу‚ – говорю. – Оченно даже хочу. А за сколько?" Гляжу – лезет ко мне здоровое‚ кусковое‚ и голос неизвестно чей: "Бери так. Забесплатно. Дочка у тебя хворая‚ ей чайку сладкого". Смотрю: статуй белый! С ушами-бровями-ноздрями. Этот‚ как его‚ фамилий ненашенских‚ которого на плакатах пишут‚ на плечах носят‚ на стенках приколачивают. "Что ж ты‚ – говорю‚ – над бедой изгиляешься! Да у меня дочь хворая. У меня дом стылый. У меня муж стреляный..." – "Дура! Да я про тебя всё знаю‚ побольше твоего. Бери‚ пока не передумал. Он же на сахарном заводе сделан. Для выставки ихних достижений. Головастый‚ лобастый‚ в бороде – на зиму хватит‚ ежели по кусочку. Щипцы у тебя есть?" А я в сомнении: "Щипцы-то есть. А проверить его можно?" – "Можно. Лизни давай‚ куда хошь". – "Боязно‚ – говорю. – А ежели кто увидит?" – "Кому тебя видеть? Проулок пустой". – "А ты?" – "А меня‚ вроде‚ и нету". Зажмурилась я от страха‚ лизнула его в неизвестное место – слаа-адкай! "Ладно‚ – говорю. – Беру. Вот тебе за то две щепы". – "Не нужны мне твои дрова. Так‚ – говорит‚ – тепло. Волосьями обернусь и ладно". – "Да кто ж ты такой? Уж не ангел ли? Объявись хоть‚ покажись на миг: знать‚ за кого свечку ставить". А он: "Вам покажись, сразу срок схлопочешь. За надругательство над гением. Там не посмотрят: ангел – не ангел... Будь здорова‚ девка. Беги домой‚ дочку чаем пои". Сшуршал и нету. Волоку его домой‚ этого‚ фамилия ненашенская‚ жилы тяну‚ пуп надсаживаю‚ а соседка из двери: "Ты игде его сперла?" – "Наградили‚ – вру. – За ударную работу для фронта." А она от зависти: "Так тебе‚ поганке‚ и надо! Мужика у тебя нету‚ живи теперь с им. А ежели что случится‚ я первая донесу". Втащила его в комнату‚ чаю по-быстрому вскипятила: счас‚ думаю‚ ухо отколю и в кружку. А рука на него не подымается: как жа это‚ соображаю‚ ухо отбивать у статуя‚ который столько сделал для трудящегося народа‚ который недоедал-недосыпал для нашего для общего для дела? Да и соседка донесет на безухого. Сидим с дочкой‚ пустой кипяток хлебаем: гора сахара в комнате‚ а не подступись. "Маманя‚ – говорит дочка. – Давайте его лизать‚ маманя. Лизнул – и глоток. Лизнул – и другой". – "Давай‚ донюшка. Давай‚ моя умница. Только по-тихому‚ без чмоканья‚ чтоб змея не учуяла..." Сели мы возле него‚ стали кипяточком наливаться: сладкий сахарок‚ крепкий камушек‚ – надолго теперь хватит. Месяц лижем‚ другой пошел: голова малость убавляется‚ щекой тощает‚ на лицо меняется. Лезет из статуя другой мужик‚ проступает наружу, фамилий ненашенских‚ который много сделал для трудящегося народа‚ недоедал-недосыпал для общего для интереса‚ борода у которого помельче да усы пореже. Тут соседка – нос в комнату: "Ишь‚ – говорит‚ – другого ей выдали. С этим теперь жить станешь? Завели порядочки: одним всё‚ а другим ничего. У других постеля холодная. Другим и подержаться не за кого. Где‚ – кричит‚ – прежний? Куда подевала? Я его себе возьму!.." А я ей: "Какой такой прежний? Кого выдали‚ тот и стоит. Это у тебя‚ дуры‚ помутнение в памяти‚ вождей наших не отличаешь. За это можно и ответить". Тут она – шырк из комнаты. В страхе великом. А мы с дочкой дальше его лижем. Что ни вечер: чаек-сахарок. Что ни другой: сладкий камушек. Лезет‚ гляжу‚ третий наружу‚ проступает яснее‚ забивает чертами прежнего‚ – этот‚ как его‚ из нашенских‚ который недоедал-недосыпал пуще других для трудящегося для народа: бороденка редкая‚ усишки скудные‚ плешь на полголовы. "Ишь‚ – говорит соседка‚ а глаз у ней пуганый‚ – опять мужика поменяла. И чего это они к тебе липнут? Кожа да рожа – ухватиться не за что. Ты мне Ваньку не валяй‚ отвечай сразу: куды старых подевала?" – "Каких-таких старых? Они у нас вечно новые. Вечно они у нас молодые-живые-горячие. Пора бы уж знать‚ дура несознательная. За это можно и схлопотать". Тут она шырк – и в комнату. Щёлк – и на замок. И затихла на месяц. А мы снова за чаек-сахарок. Мы за сладкий камушек. Лезет из куска этот‚ без бороды вовсе‚ в одних усах‚ фамилию вспомнить боязно‚ из-за которого недосыпали‚ из-за которого недоедали для собственной для пользы‚ лезет настырно‚ будто локтями пихается‚ руками толкается‚ ногами пинки раздает. Соседка моя обомлела! "Ты‚ – говорит‚ – кто?" Со страхом-почтением. "Ты‚ – говорит‚ – прынцесса? Графиня-княгиня‚ евойная секретарша? Можно‚ я тебе полы вымою? За так за просто?" – "Мой‚ – говорю‚ – у себя. Долго мой‚ старательно‚ до самого лета. Вот тебе строгий наказ". Она и пошла за ведрами. Сидим мы с дочкой возле усатого‚ чаи с сахаром гоняем‚ сладостью наливаемся‚ глядь – лезет этот‚ калган с пупырышками: то ли нос с глазами‚ то ли прыщ с бородавками. "Маманя‚ – шепчет дочка. – Давайте его‚ маманя‚ в шкаф уберем. От греха подальше". – "Давай‚ доченька. Подсобляй‚ умница..."
И замолкла.
– Слышь‚ – сказали с бульваров‚ – теперь-то чего? Усатого давно нет. Вынимай его из шкафа‚ калган этот‚ лижи давай‚ нас на чаек зови.
– Да уж и то... Разве удержишься? На сладкое старуху тянет. Калган слизала‚ бровастого слизала‚ этого нонче долизываю – с лица никакой‚ за ним ишшо лезет...
Свесился с ближайшего спутника серый человек в скафандре‚ пугнул беспощадно:
– Бабка‚ не лижи дальше: врагом станешь. Бабка‚ много будешь лизать, скоро состаришься.
– Да я уж привыкла‚ – залебезила. – С войны с самой. Чаек-сахарок. Сладкий камушек...
– Повторяю: голова из сахара изымается из частного пользования и засекречивается. Теперь ее будут лизать в соответствующих органах. Для определения и пресечения возможных конкурентов.
И улетел по траектории.
– Бабка‚ – попросили шепотом. – Уважь‚ милая. Не тяни за душу‚ красавица. Кого ждать-опасаться? Кого лизать-подлаживаться?
– Так я вам и сказала! Знать не знаю‚ ведать не ведаю. Засекретили бабку вместе с близнятками.
И снова впряглась в кадушку.
– Я знаю‚ – сказал одноглазый. – Я всё знаю. Пора уходить‚ граждане.
Он поднимался вверх по бульвару с гармонью на груди: стройный‚ сухой‚ подтянутый.
Он уплывал‚ будто скользил‚ вдоль теплых‚ обласканных стволов‚ безостановочно и неизбежно: не закричать и не удержать.
Он исчезал‚ как исчезает туман‚ уплывает облако‚ утекает вода‚ убывает свет на закате: медленно и необратимо.
Следом плыл вальс‚ нежный и задумчивый‚ причудливый и капризный‚ что окутывал‚ опутывал‚ неприметно уводил за собой.
Ах‚ вальс‚ фокусник-вальс‚ путаник-вальс: каждому пророчишь‚ каждого морочишь‚ каждому нашептываешь свое.
Два старика‚ вчерашний с сегодняшним: первой зачарованной парой за крысоловом с гармошкой...
Интеллигентные старушки с ридикюлями: к сгинувшим лейтенантам далеких годов...
Пара востроносых солисток с вытянутыми от усердия шеями: на вечный‚ неслышный призыв...
Тонконожки в подростковых туфельках: у каждой впереди по кавалеру‚ по жениху впереди у каждой...
Старики-молодожены‚ пылкие и нежные: к новым наслаждениям нескончаемой жизни...
Все тут‚ заодно‚ в легком кружении‚ в тихом томлении‚ рука к руке‚ щека к щеке‚ слабые‚ завороженные‚ беспомощные.
Всех уравнял вальс.
Всех примирил вальс.
Всех зашаманил – всех заарканил.
Продавщицы на пенсии. Штукатуры на инвалидности. Интеллигентки‚ опростившиеся на старости. Бывшие секретарши. Бывшие бухгалтерши. Бывшие подсобницы восьмижильные. Бывшие парторги‚ профорги‚ кладовщицы‚ швеи-мастерицы‚ вагонные проводницы...
И один только Якушев‚ хитрый ярославец‚ стотящий еще мужчина‚ остался посреди затоптанного круга.
Постоял – подумал‚ постоял – прикинул и побежал трусцой в свою сторону‚ качать без устали сердечную мышцу.
Бежал расслаблено‚ дышал без усилий‚ повторял истово‚ через вдох:
– Здоровье дороже... Здоровье дороже... Здоровье! Оно – до-ро-же!..
СРЕТЕНСКИЙ – ЧИСТОПРУДНЫЙ – ПОКРОВСКИЙ – ЯУЗСКИЙ
1
...а он всё аукал и аукал на бульваре‚ заблудившийся вчерашний старик‚ хрипло‚ устало‚ безнадежно‚ и петлял‚ выискивая‚ и пыхтел‚ вынюхивая‚ и моргал‚ высматривая‚ но темень укрыла с головой‚ мрак бездонно кромешный: терпкие запахи‚ опасные шорохи‚ пасти ощерившихся капканов‚ колкие‚ цеплючие занозы неструганых пространств.
Где оно теперь – извилисто-синее? В какой стороне – брызгами голубое? Как его отыскать – сочно-зеленое?
Мир затаился вокруг прыгучим когтистым кольцом. Мир подползал на брюхе‚ шевеля от вожделения кончиком роскошного хвоста. Мир выглядывал через ноготки зрачков верное место для удара: нежное горло‚ неприкрытое брюхо‚ ломкий‚ беззащитный хребет. И поддувало ощутимо ледяной‚ игольчатой струйкой из-под неподоткнутого одеяла.
А он всё аукал и аукал‚ упрямый старик: кто откликнется на зов? – и чья-то ладонь – жалким‚ скрюченным ковшиком – сунулась из мрака с пристывшим на ней пятаком-сироткой.
– Ау‚ – позвал он. – Ау-у...
И положил в ковшик еще пятак.
– Нет слов‚ – сказали в ответ. – Премного‚ – сказали‚ – обязан. Обеспечили по гроб жизни.
А откуда сказали, неясно.
– Кто ты? – спросил с опаской. – Выйди. Покажись хоть на время.
– Да я бы! Да неужто нет? С превеликим с нашим... – И грустно: – Показывать нечего. Нет меня совсем. Одна ладонь осталась‚ да еще пятак. – Поправились: – Два пятака.
– Как же так? Почему так? А где остальное?.. У человека должно быть остальное‚ просто обязано!
– Со мною боролись. Меня ограничивали. Лишали – обкладывали – ликвидировали. Неуклонно сводили на нет. А я в ответ ежился‚ горбился‚ ужимался до малости. Осталась одна ладонь‚ сущность моя.
– Но ты... есть? Ты живой где-нибудь?
– Я есть‚ – сказали просто. – Тела нет‚ но я есть. Привычки остались. Желания. Надежды. И страсти‚ – шепнули‚ – кой-когда... Иной раз думаю: а где это я помещаюсь? И тут же вопрос: а чем это я думаю?
– Ха... – засмеялся старик. – Это меня утешает. Вселяет некие надежды. Меня не будет уже совсем‚ так‚ пятачок кой-какой‚ а желания останутся‚ и привычки‚ и страсти – хе-хе – кой-когда... Что еще человеку надо?
– Кто вы? – спросили прямо. – Какая-такая ваша сущность? Отвечайте немедленно.
– Картограф. Картограф по призванию. Привязываем пространства по желанию заказчика.
– Так‚ – сказали ненавистно. – Сущность твоя пакостная. Призвание твое ублюдочное. Ничего от тебя не останется‚ даже пятака затертого‚ как от привязанных тобой пространств.
А откуда сказали‚ снова неясно.
– А ты-то... – обиделся старик. – Чем ты нас лучше? Какое-такое у тебя преимущество?
– Я нищий‚ – сказали гордо. – А нищие будут всегда‚ когда никого не станет‚ на то они и нищие. Последняя на земле профессия: стоять с протянутой ладонью посреди остатков от вашего безобразия.
– Тогда... – вскричал старик. – Я тоже буду нищим! Тоже! Я пойду с тобой‚ рядом‚ в две ладони... Ты меня берешь‚ ведь правда? Ты же меня берешь!
– Место тебе не тут. Место тебе не со мной. Там‚ далеко на востоке‚ в заповеднике нетронутых земель, твое место. Идем‚ я тебя выведу.
И ладонью ухватились за ладонь.
Он шел послушно следом‚ крохотным провинившимся ребенком за рассерженным родителем‚ часто перебирал ногами‚ чтобы не отстать‚ и вот уже под подошвой битые неровности потайной тропы‚ и неясная звезда в прогале ветвей‚ и горький привкус неизбежного прощания.
– Всё. Дальше ты сам.
Ладонь утекала из ладони тонкой‚ просеистой струйкой‚ и только пятак оставался в руке‚ теплый и чуточку влажный.
– Вот. Это тебе. Если не хватит сил‚ вернешься назад на троллейбусе.
И ладони не стало.
– Я дойду‚ – пообещал торжественно. – Вот увидишь‚ теперь я дойду. Ноги в кровь‚ каблуки вдрызг.
И отбросил в сторону ненужный пятак.
– Ой‚ – сказали из куста ломким голоском‚ – ты чего кидаешься? Папа‚ он тут. Мы выследили его‚ папа!
– Ах‚ вы‚ мои умницы‚ – растрогался вдалеке Волчара. – Смена моя подрастающая! Вот уж я вам благодарность‚ вот уж в личное дело‚ приказом по роте вот уж вам!
Ткнулась в бок короткоствольная железяка‚ жарко дохнуло по-над самым ухом:
– Хватит уже убегать‚ черт! Ты на кого работаешь‚ старый хулиган?
А старик с достоинством:
– На нас работаю‚ только на нас. Будет уже‚ наработались на других. Нам с вами один путь‚ до конца.
Два старика ходко уходили по тропе‚ невидные и неслышные‚ ныряя в туннели ветвей‚ перескакивая через шишковатые корни‚ – ветка не хрустнет‚ камушек не прошуршит‚ – и тот‚ сзади‚ подталкивал в спину‚ обидчиво и бурчливо‚ а этот‚ спереди‚ привычно наносил на карту окрестные ориентиры. Корягу на тропе. Выбоину. Кривой‚ расщепленный ствол.
– Папа‚ – с отдаления‚ – что теперь будет? Мы упустили его‚ папочка.
– Двойка‚ – сурово сказал Волчара. – Наряд вне очереди.
И самый маленький зарыдал в глубоком отчаянии.
– Ах‚ как жестоко‚ – заметили с бульваров. – Как непедагогично! Вы их лишаете счастливого детства.
– Я отец. Я им добра желаю. Научатся следить – это всегда кусок хлеба.
И зашагал следом за стариками на безотказных гусеничных ногах.
У входа на Сретенский бульвар‚ на первой его скамейке гнулся в три погибели старый‚ слинявший‚ как застиранный до бледной серости‚ негр-великан. Зябко потирал костлявые пальцы‚ морщил устало вылупленные глаза‚ и вывернутая губа брезгливо задиралась кверху‚ будто сунули ему под нос кусочек пахучей мерзости.
– Парамак‚ – говорил раздраженно. – Киюк тебе в глотку. Зутак‚ вашу мать!
– Ах‚ – восхищались бульвары. – Темный ведь‚ отсталый ведь‚ из стран недоразвитых‚ из мест недоделанных! Еще по-русски не обучился как следует‚ а матом так и садит!
Вчерашний старик подступал‚ не дыша‚ руки тянул – не спугнуть:
– Здравствуйте... Вы меня узнаёте?
Негр перекатил желтоватые‚ никотиновые белки в ненужную сторону‚ ожесточенно продрал остатки плешивой шевелюры‚ ухом повел на звук:
– Киюк! Гараб-тараб. А пошел бы ты в прексиглазу!
Старик прослезился вдруг конфузливо и обильно:
– А я вас искал потом. Ходил туда‚ на клумбу. Опрашивал многих. Наводил справки в адресном столе. Такое не забывается.
Присел на краешек скамейки‚ чуть придвинулся‚ вздохнул счастливо. Как унять вечный зуд‚ утишить комариное беспокойство‚ расслабиться и передохнуть? Повздыхать. Повздыхать за компанию. Хоть с самим дьяволом.
– Что вы сидите? – спросил для начала. – У вас перекур? Перебои с грешниками?
– Перебои? – крикнул негр и яростно уставился ухом. – Фига! Грешник идет косяком. Как на нерест. Наглый‚ жирный‚ безнаказанный. Отбоя нету!
– Так в чем же дело? – И догадавшись: – Вы на пенсии? Да-да‚ вы на пенсии!
Сам черт досиживает на скамейке последние дни свои. Сам дьявол притянут к бульвару тоской неутоленного слияния. Сам сатана‚ не кто-нибудь! – это его умилило.
– Пенсия? – тот даже посинел от злости. – Где она‚ ваша пенсия? Сорок лет адовой работы и коленкой под хвост!
Завращал вылупленными белками. Ноздри раздул в ярости. Матюгнулся виртуозно.
– Ах‚ – застонали вокруг. – Это надо же! Какая речь! Какой словарный запас! Учеников не берете?
– Кто же теперь за вас? – спросил старик‚ переждав восторги. – Молодые?
– Молодые. С идеями. Только пузыри пускают. Чтоб их на том свете в смоле утопили!
– На том? – переспросил. – На том это на каком?
Негр уставился на него‚ как на сумасшедшего:
– У нас один тот. Он же этот. Порядочки‚ прости Господи!
Он взволновался сверх меры‚ вчерашний старик‚ похватал за руки‚ позаглядывал в глаза:
– Скажите... Напоследок! Сколько лет прошло с той клумбы‚ а я в неведении. Это ад? С тех пор я в аду‚ не так ли?
– Киюк‚ – запечалился тот. – Какая тебе разница?
– Ну как же! Если это ад‚ многое становится объяснимым. Если это ад‚ со многим можно смириться. Наказанием за прошлые грехи. Но если это жизнь‚ что тогда? И за что тогда?!
– Это ад‚ – успокоил негр. – Поверь мне: это ад. Другого не будет.
Тут вдоль бульвара‚ поперек движения вечная свадьба на автомобилях: размножайся – не хочу. Куклы на радиаторах‚ ленты на крышах‚ фотографы на капотах‚ музыканты в багажниках‚ костюмы напрокат. Пронеслись вихрем‚ навеселе‚ из дворца бракосочетаний: жених фабричный‚ невеста заводская‚ родители деревенские‚ оркестр наяривает фрейлехс.
Были они – и нет.
Негр проводил ухом развеселую процессию‚ встал на ноги во весь свой исполинский рост‚ головой ушел во мрак.
– Люди‚ – сказал оттуда. – Я старый негр‚ люди. Я много тут пожил. У меня были три жены. Была армянка‚ была украинка‚ была жена из Кабардино-Балкарии. Кто я? – спросите меня‚ люди. Я кто?
– Ты кто? – спросил вчерашний старик: вопрос готов издавна.
– Я всякий‚ люди. Я разный. Когда плохо армянам‚ я армянин. Когда плохо украинцам‚ я украинец. Когда плохо кабардино-балкарцам‚ я кабардино-балкарец. Понятно?
– Понятно‚ – охотно сказали со скамеек. – Чего ж тут непонятного? Это надо же: сколько баб перепортил! Негры – они могут.
Сегодняшний старик поджидал их на Сретенском бульваре‚ через сотню каких-то шагов. Он сидел на газоне‚ удобно привалившись к дереву‚ и рядом с ним‚ спиной к тому же стволу‚ приткнулся Тихий А.И.‚ следователь по особо нужным делам‚ покойно шевелил разутыми ступнями.
Была тишина. Минута задумчивых размышлений. Краткий перерыв в утомительных служебных обязанностях.
– Лысею‚ – сообщил Тихий А.И. и сокрушился заметно. – От этих забот начал лысеть с усов. Когда ем‚ усы в суп падают.
Сретенский был спланирован‚ вымерен‚ выверен. Сретенский был подстрижен‚ прополот‚ ухожен. Словно и не бульвар вовсе‚ но идеальный его макет в мастерской архитектора. Одни старики нарушали его гармонию‚ вносили раздражающую отсебятину‚ но с этим надо было смириться. Хотя бы на время.
– Почему я тоскую посреди ухоженных пространств? – говорил Тихий А.И. – Посреди цветников‚ клумб‚ газонов-вазонов? Почему?..
Настроение было у него лирическое‚ философски неслужебное‚ но никто не ответил: не хотели связываться.
– Почему я тоскую по разливанным зарослям бурьяна? По лопухам-крапиве? По придорожной жухлой траве по пояс?..
И опять никто не ответил: не хотели впутываться.
– Батя мой в керосиновой лавке сидел. На пустыре. Посреди колючек. Разливал через воронку в бутыли и бидоны. А запах вокруг такой крепкий‚ такой устойчивый: детство пропахло керосином. Батя говорил: "Сиди тут. Со мной. Чем тебе плохо?" Батя учил: "Не лей керосин в воду. Это заметно. Лей воду в керосин. Это выгодно". Дурак – не послушал. – И заныл в голос: – Грустно мне... Зябко и одиноко...
– Может‚ к Богу тебе пристать? – посоветовал сегодняшний старик. – Вдвоем не так зябко.
– Будем брать‚ – бормотнул по привычке. – Бога – не Бога: всех будем брать. Тепленьких‚ ночью‚ в байковой пижамке. – И поперхнувшись: – А как к Нему пристанешь? Он во-он где! По повестке не вызовешь. С обыском не явишься. Дистанция...
– А нам‚ – сообщил Волчара‚ – Библию перед строем читали. Всей роте зараз. Чтобы врага знать по имени. Авраам родил Ицхака‚ Ицхак родил Якова. Никто не запомнил‚ один я. У меня электронная машина в ягодицах‚ зад на транзисторах. Вот доложу куда надо да про что не надо!
– Кто ж тебе поверит? – усомнились с бульваров. – Какая ему корысть?
– Поверят-поверят‚ – грустно пообещал Тихий А.И. – Вы первые и поверите. Оформлю‚ запротоколирую‚ через суд проведу: вы и поверите.
И застонал в голос:
– Господи‚ одиноко мне! Одино-око!.. Живешь‚ будто ждешь чего-то. Ждешь‚ ждешь‚ ждешь‚ – уж не смерти ли?..
И пригорюнился‚ запечалился‚ рассопливился: хоть нос ему вытирай.
Уж давно он не видел нормального человека: только по повестке‚ свидетель-обвиняемый. Давно не бывал в гостях‚ просто так: только по службе‚ с ордером на обыск. Давно не разговаривал задушевно‚ без протокола. Жизнь слилась для него в нескончаемую вереницу особо нужных дел. Время отмерялось началом и концом следствия. Люди виделись уже не сами по себе‚ но в запутанном клубке чистосердечных признаний‚ которые требовалось уложить в стройное доказательство к заранее выбранной статье обвинения. Хотелось ему порой посидеть с приятелем‚ хлебнуть пивка с воблой‚ поболтать о несущественном‚ но не было на то сил-времени‚ не было воблы‚ да и приятели‚ похоже‚ уже опасались его завуалированного дознания. Хотелось познакомиться с нежной девушкой‚ привести в холостяцкую берлогу‚ напоить чаем с болгарским конфитюром‚ ласково увлечь на простынку‚ но не было вокруг него девушек, одни мымры-секретарши‚ да засушенные прокурорши: сболтнешь во сне‚ а она запротоколирует. Дошло до того‚ что выдумал себе бестелесного друга‚ наделил его совершенными качествами – не в меру доброты‚ не в меру отзывчивости‚ и по вечерам они садились перед телевизором‚ откупоривали бутылочку "Столичной"‚ вели задушевные разговоры под маринованный огурчик. Всё бы ничего‚ и лучшего ему не надо‚ да оказался вольнодумцем друг бестелесный‚ такое начинал болтать с пятой рюмки, хоть дело на него заводи. Про начальство с порядками‚ да в полный голос‚ да матерно‚ да по имени-должности‚ а у него соседи по сторонам‚ у него микрофоны не исключены: пришлось друга изолировать. И опять живет одиноко‚ без ласки-сочувствия. Ездит с получки в загородный ресторан‚ подальше от внимательных глаз‚ надирается за боковым столиком‚ платит лабухам четвертной‚ чтобы дали спеть под оркестр. Когда посетители уходят‚ и официанты сдвигают уже столы‚ выходит нетвердым шагом на эстраду и поет громко и фальшиво‚ под аккомпанемент ансамбля‚ в прокуренном и заблеванном зале: "Годы детства уходят от нас..." И лабухи стонут от наслаждения.
Два старика шагнули с тропы: железяка наизготовку.
– Только честно‚ – печально сказал Тихий А.И. – Честно‚ идет? Есть у тебя ощущение‚ что ты нам нужен?







