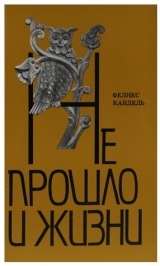
Текст книги "Не прошло и жизни"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Подошла его очередь.
– Я‚ – говорит‚ – от Виктор Никитича.
А Виктор Никитич сосед у него. Витька Пупок. Пьянь и дебошир. Вор и хулиган. Со всякой получки в вытрезвитель. Со всякой драки в камеру.
– Как? – спрашивает рожа через щелочку.
– Я от Виктор Никитича.
Дверь распахнулась‚ его в кабинет. Одного его из всей очереди. А там штаб! Телефоны звонят‚ директор командует‚ донесения выслушивает‚ записки рассылает: будто руководит вооруженным восстанием.
Этот‚ у двери‚ докладывает:
– От Виктор Никитича!
И всё стихло. Даже телефоны отрубились.
– Они уже присылали‚ – ласково говорит директор. – Им уже выдано.
– Выдано‚ – соглашается старый еврей. Чего ему не соглашаться? Против правды не попрешь.
– Им еще нужно? – спрашивает директор.
– Еще‚ – говорит старый еврей. Кому оно нынче не нужно?
– А вы кто им будете?
– А буду я им папа.
Тут у них рожи перекошенные.
Тут у них глаза сумасшедшие.
Папа! Еврей! Почти что жид!.. И у кого? У Виктор Никитича!.. Всем‚ конечно‚ известно‚ что Пупкин – еврей‚ что у Папкина – жена еврейка‚ что Пипкина‚ подкидыша‚ выкармливали евреи..‚ но у Виктора чтоб‚ у Никитича‚ у столпа‚ можно сказать‚ отечества‚ у надежды‚ как говорится‚ нации‚ у опоры-фундамента‚ у света нашего в окошке... Караул‚ граждане!
Выдали ему два талончика‚ жирная рожа самолично повела в кладовую:
– Свеженькое‚ не извольте сумлеваться. Сами такое едим.
– А три пакета нельзя? – спрашивает старый еврей‚ подумав еще о глухонькой бабушке Хае и дряхленьком дедушке Шлёме.
– Извините‚ – огорчается рожа‚ – но три никак невозможно. У нас все‚ кто от Виктор Никитича‚ получают по два пакета. У нас все‚ кто от Виктор Никитича‚ равны между собой.
– Так-то оно так‚ – соглашается старый еврей‚ – но я‚ между прочим‚ еще и от Егор Петровича.
А Егор Петрович враг его на бульваре. Егор Петрович саблей рубал пейсатых в гражданскую-империалистическую. Егор Петрович ножны на боку носит‚ а на них черточки-зарубки на всю длину‚ послужной его счет‚ о котором Егор Петрович особо не распространяется‚ только зарубки поглаживает да глаз щурит. Хоть на что сгодится теперь‚ этот Егор Петрович.
– Как?.. – переспрашивает рожа и зеленеет с перепуга.
– Как слышали.
– А вы кто им будете?..
– А буду я им дядя.
Сам директор в кладовку скакнул. У директора челюсть дрожит. Пот в три ручья. Дядя! Почти что жид! Невозможно!... Ну‚ у Пупкина – ладно‚ и у Папкина – ладно‚ и от Пипкина чего ждать – его евреи выкормили‚ и Виктор Никитич – так уж тому и быть… но у Егора чтоб‚ у свет Петровича... Земля содрогается. Вера испаряется. Небо рушится.
– Вот... – бормочет директор. – Вот вам еще пакетик. Диэтическое – от себя отрываю...
– А четыре пакета нельзя? – спрашивает старый еврей‚ подумав заодно о бедненькой тете Циле с несчастненьким дядей Хаимом.
– Простите... – извиняется директор и хребет гнет. – У нас все‚ кто от Егор Петровича‚ равны между собой. Всем по три пакета.
– Это‚ конечно‚ справедливо‚ – говорит старый еврей‚ – но я-то еще и от Иван Данилыча.
А Иван Данилыч покойный его начальник. Гнида‚ прямо скажем‚ отменная. Гадина‚ доложим‚ уникальная. Ублюдок первостатейный. О покойниках нельзя говорить плохо‚ а то бы он назвал его настоящим именем.
Тут директор буреет от ужаса и выдавливает по складам:
– А вы кто... им бу-де-те?..
– А буду я им брат.
Шлёп! – телом об пол. Бум! – затылком о плиты. Лежит – шепчет:
– Еще... Еще вам пакетик... Не извольте нагибаться...
– А пять пакетов нельзя? – спрашивает старый еврей‚ вспомнив за компанию болезненного брата Пиню и парализованную жену его Розу.
– Нельзя. – шепчет директор с пола. – У нас все‚ кто от Иван Данилыча‚ равны между собой.
– С этим я‚ безусловно‚ согласен. Но я-то ведь и от...
– Нет... – кричит директор. – Пощадите! – И ногами вперед уползает под ящики с консервированным компотом. – Оставьте хоть одного! Нетронутым! Незапятнанным! Наааашим!
И уже из-под компота:
– Пакеты ему! Грузчиков ему! Машину ему до дома! У нас все‚ кто от... По пять порций!
– Не надо‚ – говорит старый еврей. – Я сам дойду. Не надо мне вашей машины.
И пошел по Новому Арбату с пятью пакетами. Два себе. Один бабушке Хае. Еще один тете Циле. Еще брату Пине. Всех отоварил к празднику.
И кругленький Кац замолчал.
– Теперь-то оно‚ конечно‚ – сказал на это Вася. – Теперь у нас время такое‚ разгул гуманизма‚ глава государства на подлете. Вот бы пораньше или чуток попозже: извини-подвинься.
И бездна отпахнулась в его глазах.
– Убрать‚ – приказал Стёпа. – Всех четверых. С нашего показательного бульвара.
И референты потащили их к выходу.
– Я тут живу‚ – кричал Кац с высоты плеч. – Это же мой дом‚ мой бульвар!..
– Вы здесь случайны‚ – сказал Стёпа.
– Вы здесь не типичны‚ – сказал замшевый режиссер.
– Вы здесь не смотритесь‚ – сказал блатной гений. – Бля буду!
И их выкинули за ненадобностью.
– Ну что? – спросил завтрашний старик. – Теперь ты идешь с нами?
– Я потерплю‚ – залепетал кругленький Кац‚ щекой прижимаясь к чугунной ограде. – Я останусь. Схороните меня тут. На бульваре.
А схоронят его в Италии‚ в солнечной‚ апельсиновой Италии‚ на древней и славной земле чужого народа‚ где лежать ему‚ кругленькому Кацу-тефтельке‚ до трубного зова Мессии‚ в которого он так верит. Он попадет в Италию по дороге в Америку‚ по настоянию собственных детей‚ которые поволокут его через границы и государства‚ как поволокут собственный багаж‚ который и бросить жалко‚ и тащить незачем. Ради детей он поедет‚ кругленький Кац‚ ради любимых детей своих‚ выкормленных в страхе при помощи швейной машины знаменитой фирмы "Зингер". Они полетят через океан вместе с бабушкой Шендл‚ а он останется в теплой‚ ласковой‚ пропахшей жасмином итальянской земле‚ кругленький Кац с ямочками на щеках: мог ли он мечтать об этом на Сретенском бульваре? Задрожит земля в районе кладбища‚ опадут листья с деревьев возле его могилы: мало им‚ итальянцам‚ своего Везувия?.. А бабушка Шендл станет жить по очереди у собственных детей‚ пересылаемая с места на место в заранее согласованные сроки. Она будет сидеть возле подъезда‚ расставив толстые ноги со спущенными чулками‚ в теплых‚ растоптанных ботах‚ которые привезет с собой из России. Над ее головой загрохочет надземка. Вокруг зазвучит чужая тарабарщина. За спиной оскалятся озорники-негритята. И продукты в магазинах будут такие‚ что не сготовишь уже привычные блюда. Она доживет до невозможного возраста‚ бабушка Шендл‚ и к ней станут ходить ученые‚ интересоваться долгожительницей. "Как вы живете?" – спросят ее через переводчика. "Как я живу?.." – ответит она на это. "Как вы себя чувствуете?" – спросят еще. "Как я себя чувствую?.." – "Поднимите‚ пожалуйста‚ рубашку. Мы вас обследуем для науки". – "Знаете что‚ – скажет на это бабушка Шендл‚ обладательница лучшего бюста города Одессы. – Если вы такой босяк‚ так уходите отсюда". А умрет она ночью‚ душной и жаркой ночью в городе Сан-Диего‚ что на границе с Мексикой. Встанет затемно‚ пройдет в ванную‚ пустит воду из-под душа. На шум проснутся внуки-правнуки‚ забарабанят в стенку‚ закричат вперебой: "Ша‚ бабка! Нам рано стендапать! Нам на джоб‚ бабка!.." Она им уже не ответит. Сил не будет отвечать. Помоется потихоньку‚ наденет чистую рубаху‚ ляжет в постель‚ умрет неприметно‚ чтобы не будить своих. Ведь им с утра на джоб! Назавтра встанут‚ а она холодная‚ только наволочка зубами надорвана...
– Вы слышите? – попросил кругленький Кац. – Похороните меня тут‚ на газоне.
Но старики уже перевалили через площадь. Старики уходили торопко‚ в ногу‚ и затерялись на Чистопрудном. Ты‚ может‚ и передумал‚ а воротить не воротишь.
– Мать‚ – сказал на это необъятный пиджак с орденскими замызганными планками. – Ставь самовар‚ мать. Вешай образа. Надевай на меня рубаху с опояской. Расчесывай на пробор. Увеличивай курносость. Авось-небось‚ Рабинович отвяжется. Небось-авось‚ Задунайский воротится с Покатиллой.
Сидел за самоваром‚ прихлебывал из блюдца‚ прикусывал сахарок‚ сморкался пальцем через курносую ноздрю‚ истово крестился на образа‚ а вокруг гомозились-мутузились Покатилло с Задунайским: всякому лестно примазаться‚ пролезть назад через прореху в штанах.
– Мать‚ – блаженствовал‚ – неси утирку. Аж упрел.
А мать в ответ:
– Каку утирку? Каку те утирку? Бери давай конверт‚ пиши в Тель-Авив‚ на нашу на историческую на родину. Нехай вызов шлют. У всех ужо есть: и у Скворцовых‚ и у Петровых‚ и у Филькиных‚ – чем мы‚ Рабиновичи‚ хуже? Чай‚ не обсевки какие!
– Так ставишь вопрос? – спрашивал.
– Так ставлю‚ Борух‚ – отвечала. – Делайте мне нонче обрезание. Я на всё согласная...
4
...она вышла на них из-за памятника Грибоедову‚ маленькая‚ храбрая‚ отчаянно независимая: зад‚ как задорно вздернутый носик.
– Самолет летит‚ – сказала с вызовом‚ – колеса стерлися. Вы не ждали нас‚ а мы приперлися.
А глаза пуганые.
Три старика встали в сомнении перед новым на пути препятствием: не оттолкнуть и не обойти. Впереди уже маячил через пару бульваров долгожданный конец пути‚ выдох с расслаблением‚ отдых натруженным ногам‚ но черная‚ бесшумная машина выкатилась к тротуару‚ таинственная машина с зашторенными окнами.
– Молодая еще‚ – решил наконец завтрашний старик‚ – Первой головы не износила.
– Это по метрике‚ – сказала с задором‚ в хрупкой скорлупе самостоятельности. – А на деле постарше вас.
Была она зыбкая‚ неясная‚ непроявленная до конца. Была она смытая‚ случайная с виду‚ во много бликов-обликов. С каждым поворотом головы. С каждым оборотом жизни. Приваживала и отпугивала‚ грезилась и отталкивала при смене настроения‚ прически‚ времени дня и одежды. То на нее заглядывались сытые стоматологи из роскошных машин. То ей подмигивали тертые таксисты с прилипшей к губе папироской. То посвистывали вослед неоперившиеся юнцы из помойных подворотен‚ столбенели на тротуарах дряхлые сластолюбцы с неутоленной жаждой во взоре‚ бежали по пятам романтики: за мечтой своей‚ за тоской своей‚ вышагивали бравые лейтенанты в скрипучих шевровых сапогах‚ то мужики деревенские‚ разносолами не балованные: "Зверь-баба!" То – никого.
Набежал рассыльный-посыльный‚ оборванный доходяга в форменной фуражке‚ стал совать в руки заграничную конфетную коробку‚ перевязанную серебряными лентами‚ да огрызок карандаша с квитанцией.
– Распишитесь!.. В получении!
– Ничего мне вашего не надо‚ – сказала она с омерзением. – Не трудитесь‚ пожалуйста.
Он пихает – она отталкивает:
– Не очень-то и хотелось.
Он пихает:
– Уплачено!
Она отталкивает:
– Да хоть бы и уплачено. Съешьте сами.
Он и съел‚ тут же‚ при них: килограмм заграничных конфет.
– Распишитесь‚ – икнул.
И умчался назад‚ сытый и довольный.
– Это же грех‚ – сказала тихо. – Принимать от нелюбимого.
И скрылась от подозрительных взглядов.
Три старика встали на входе.
Три старика – оружие на изготовку.
Лежал на пути бульвар‚ чужой‚ неприветливый‚ необласканный ни единым воспоминанием: холодная‚ неживая планета на окраине солнечной системы. Чистопрудный бульвар как Нептун‚ Юпитер с Плутоном‚ где и жизнь‚ может‚ есть‚ и кислород с водородом‚ и всякая там протоплазма шевелится‚ но на травке уже не поваляешься‚ и цветов не нанюхаешься‚ не пробежишься босиком по прогретому песочку‚ не поболтаешь по душам с этой самой протоплазмой. Чистопрудный бульвар как Юпитер‚ Нептун с Плутоном: крутимся вместе‚ повязаны вместе‚ общей судьбой – притяжением‚ общей бедой – отторжением‚ но расстояния неодолимы‚ но отличия непримиримы: так и будем крутиться – чужак чужаку.
Опять прискакал оборванный доходяга с роскошной коробкой духов‚ завопил так‚ будто пожар-наводнение-извержение‚ бешеные волки по пятам:
– Где она – где она – где?..
Она сидела посреди ухоженного газона‚ поджав ноги‚ маленькая‚ потерянная‚ будто оброненная случайно‚ и перебирала клейкими‚ в меду‚ пальцами легкое воробьиное перышко‚ чтобы отлепить‚ высвободить‚ пустить по ветру‚ а оно липло и липло‚ то к тому пальцу‚ то к этому, никак не желало улетать.
– Ничего мне вашего не надо‚ – говорила со смирением. – Верните ему назад.
А тот уже вскидывался по-жеребячьи‚ выступал-выплясывал‚ каблуком рыл землю‚ шею гнул лебедем‚ только что не ржал с килограмма конфет:
– Бери давай. Не томи давай. Привезено! Из-под самого Парижу!
А она:
– Да хоть откуда.
– Ты понюхай. Понюхай сперва!
– Нюхайте сами. Если желаете.
Он и распаковал. Он и вынюхал тут же‚ в момент: единым глотком.
– Наружное?.. – спросил очумело и дохнул ароматами.
– Наружное.
– Про-бирает.
И умчался прочь‚ счастливый и пахучий.
– Это же нехорошо‚ – сказала. – Брать и не одаривать взамен. Это нечестно. Проснешься на заре‚ откроешь глаза‚ а он сопит за спиной‚ затаился и ждет‚ слабости ждет‚ жалости и желания: Господи‚ пронеси мимо!
А голова книзу всё время. А пальцы шевелятся без остановки. И перышко не отлипает от рук‚ ну никак!
Три старика встали в кружок‚ молча и завороженно.
– Притягивает‚ – сознался один и хмыкнул стеснительно.
– Засасывает‚ – согласился другой.
– Возвращает к тому‚ что оставил‚ – пояснил третий и тоже пошевелил пальцами. – У вас нет случайно запасного перышка?
– Есть. Почему же нет? Без этого с ума сойти.
И протянула баночку с медом да связку перышек на выбор.
Они пристроились рядком на открытом газоне‚ малой‚ незащищенной кучкой‚ головы книзу‚ руки у самых глаз‚ и перебирали задумчиво липкими пальцами: у каждого по перышку.
– Ха‚ – говорил один грустно-радостно‚ – сколько ж тогда мне было? Три‚ четыре года... Мама сказала: "Пойдем гулять. На качели-карусели". Меня закутали‚ повезли на извозчике‚ цокали-подскакивали‚ выглядывали по сторонам обещанные радости. Слезли‚ пошли к дому с колоннами‚ позвонили в звонок. "Тут чего?" – "Тут‚ – сказали‚ – подарки..." Встала в дверях горбунья в белом халате‚ носом вросла в подбородок‚ подбородком в грудь: подхватила в охапку‚ унесла прочь от мамы‚ от света‚ от качелей-каруселей... Ужас. Слезы. Вопли. Скарлатина.
– Ах‚ – говорил другой изумленно-горестно. – Отец жив был‚ последние‚ быть может‚ месяцы‚ мать – совсем девочка. Сидел у него на коленях‚ ел селедку‚ которую редко видели‚ пел во весь голос: "Вкусно жить‚ вкусно жить‚ до чего же вкусно жить..." А сверху что-то капало‚ крупное‚ горячее‚ солонее селедки. Может‚ голодали тогда? Не помню. Может‚ прощался со мной отец? Не знаю...
– А у сосен‚ – говорил третий застенчиво и невпопад‚ – светлые побеги в начале лета. Растопыренные‚ устремленные вниз‚ как летящие к земле нежнозеленые бетлки. А я всё ждал под деревом‚ задрав голову‚ когда же спрыгнут они в подставленные ладошки. И кто-то вечно стоял рядом‚ большой‚ теплый и добрый: против солнца не разглядеть.
Бульвар распухал от нахлынувших образов‚ исходил обликами‚ сочился видениями‚ шелестел оболочками воспоминаний‚ в которых давно уже не было жизни. Брели отовсюду изголодавшиеся тени заколдованных стариков со скамеек‚ притянутые на неслышный зов‚ усаживались на газоне – ступить негде‚ перебирали пальцами непослушные перышки. Липнем к памяти – мухами на липучке. Зудим‚ сучим лапками – не оторвать. Как накинули вуаль крепости чрезвычайной. Да стянули понизу – не улизнуть. Да просунули внутрь лапу с когтями – похватать на выбор. И откуда ни возьмись‚ бочка золотистого‚ тяжелого меда‚ за счет властей‚ что ли? – да мешок с воробьиными перьями: на всех чтоб достало.
И черная машина пристыла к тротуару со слепыми‚ зашторенными стеклами.
Скакнул из ниоткуда дед голый‚ бородою обернутый‚ пошел по газону‚ расталкивая‚ распихивая коленками‚ раздавая тумаки налево-направо‚ косматый‚ носатый‚ страхолюдный: лешак-лешаком.
– Эй‚ народы! Очнитесь‚ вы чего? Вас же голыми руками перехватают‚ шеи свернут‚ головы поотрывают‚ котиками перебьют – дубинкой по носу.
А они не откликаются. Они в отупении. В блаженном беспамятстве‚ будто на солнце вяленные.
Осерчал, сверкнул глазом:
– Вот я на вас порчу с небес! Саранчу с мокрицами! Темень египетскую! Ливни серные!..
Поднял голову старик квелый‚ на тело упитанный‚ с глазами закисшими‚ с губами залипшими‚ словно персик раскусил:
– Будет тебе. Садись давай рядом‚ макай пальцы в кадушку.
– Человек‚ – закричал дед и за грудки схватил‚ приподнял до себя. – Иди пахать‚ человек! Сеять! Окучивать! Плоды пожинать! У нас работы немереные. У нас заботы несчитанные.
– Я тоже был псих‚ – шепнул тот‚ обвисая на руках. – Нервы оголял‚ проблемы решал‚ народ призывал.
И закис‚ поджав ноги.
– Ну?
– И ну. Лечили меня. Курс уколов – и всё. Сытый теперь. Мягкий. Ублаженный. Поесть люблю много‚ жирно‚ мякишем соус выбираю. Мыло закупаю. Спички запасаю. Капусту квашу. Я раньше во всем сомневался‚ а теперь мне под силу любое дело.
И опал с рук обратно на газон‚ засутулился над перышком. А другие и того не сказали. Глазом не повели. Ухом не дрогнули. Другим шевелиться – только нирвану портить.
Тут он и сломался‚ лешачий дед‚ опустился-унизился:
– Люди! У нас нынче скидка‚ народы! Послабление на небесах. Пониженный проходной балл.
– Так-то оно так‚ – сказал бывший псих‚ – да материя‚ брат‚ она первична. Так-то оно так‚ – сказал рассудительно‚ – да уколы‚ друг‚ определяют сознание. Так-то оно так‚ – сказал злобно‚ – да пошел бы ты к Богу в рай‚ смутьян проклятый!
Он и пошел.
Один он и никого рядом.
– Тогда так‚ – объявил на уходе. – Ваша очередь шестая.
А псих снова завалился в блаженство.
– Я какая была? – сказала она на это. – Я такая была. Строгая. Гордая. Самостоятельная. Первой в классе лифчик надела. Меня за это в совет отряда выбрали. Со мной за это мальчики танцевали. Обнимут – ладонь кладут на пуговки.
Ходит в гости по необходимости‚ под руку с тщеславным мужчиной‚ которому она принадлежит по ночам‚ ест‚ улыбается‚ поддерживает беседу‚ произносит многозначительные "О" и "Ах"‚ а сама пихает их всех злорадно в дерюжный мешок‚ утрамбовывает плотно‚ и узлом-узлом‚ тугим узлом‚ и на чердак‚ на чердак‚ в самый далекий угол‚ где ломаный хлам‚ труха-шелуха‚ мышиный помет. Они хороводятся вокруг‚ фуфырятся за столом‚ распускают павлиньи хвосты‚ рассыпают перлы отработанного остроумия‚ тужатся и пыжатся сверх меры посреди бронзы-хрусталя-керамики‚ а сами давно уж в мешке‚ в дерюжном мешке‚ на чердаке‚ в пыльном углу‚ за стропилами: ах‚ какое наслаждение! Выходит из-за обильного стола‚ – "Дорогая‚ тебе плохо?" – "Мне хорошо‚ дорогой"‚ – надушенная и наряженная‚ соблазнительная и неприступная‚ осмотренная‚ как опробованная‚ спереди и сзади‚ заходит в их туалеты с меховыми подстилочками‚ материт-проклинает по-черному‚ выплевывает из себя всю их еду: "Ничего мне вашего не надо!" А назавтра иной дом‚ иная компания‚ иной туалет с теми же подстилочками: "Ничего мне вашего не надо!" И опять назавтра: "Не надо мне! Ничего!.." И редкие – когда совсем уж невмоготу – посиделки втроем‚ в темноте‚ на низкой тахте‚ за бесконечной сигаретой: Беба-давалка‚ ненужная ее подруга‚ душная женщина с мохнатостью под мышками‚ да Фима-дурак‚ который хорош тем‚ что никому не мешает‚ да она‚ грустная и притихшая: не надо притворяться‚ краситься-наряжаться‚ показывать себя в лучшем виде‚ – для Фимы сойдет и так. Сидят‚ накуриваются до одури‚ потом кофе попьют‚ потом песни споют, жалобно‚ по-бабьи‚ втроем с Фимой: "Милой Шура‚ я твоя‚ куда хошь девай меня..."‚ потом он их пожалеет.
Грибоедов встал за спиной на высоком постаменте‚ отрезая путь к отступлению. Деревья сомкнулись с боков надежным оцеплением. Черная машина у тротуара неслышно урчала‚ готовая рвануться с места. Всё шло к тому‚ что сейчас их будут брать.
– Если завтра война‚ – спросили вяло из общей кучи‚ – то что?..
– Если завтра в поход‚ – спросили сонно‚ – то с кем?..
Хмурь. Смурь. Дурь. Мрак и морок. Глухое бесовское наваждение.
Всплыла над аллеей грузная и ленивая кислородная подушка, диковинным цеппелином‚ поплыла неспеша‚ в блаженной невесомости‚ тюкаясь спросонья о стволы со столбами‚ и заскользило стоймя под нею – словно статую переносили по воздуху – обнаженное и неразделенное тело в мраморе обновленной кожи‚ слипшееся‚ насладившееся и ненасытное‚ провисшее и ослабшее в сладкой дреме усталости‚ цепляясь‚ как привязанное‚ за наконечник подушки. Плыли они по-над самой землей‚ поры к порам‚ губы к губам‚ и пальцы ног оставляли на песке легкие‚ прерывистые каракули.
Шел следом старый еврей Фишкин‚ сыпал в избытке гречневую крупу‚ фонарем высвечивал уснувшие частности‚ выговаривал с обидой пузатому портфелю:
– Как тебя‚ так таскай‚ а как Фишкина‚ так обойдется... А другие‚ между прочим‚ летают. Другие таки думают о других. Другим всё‚ а Фишкину ничего.
Скакала следом одноногая птица-горбун‚ неодобрительно вздыхала на старческое его легкомыслие‚ склевывала между делом гречневую крупу: не пропадать же добру.
Они возносились к небу могучими потоками‚ свободные и открытые‚ подхватывались попутными ветрами и увлекались к закату‚ где розовело еще по кромке небес‚ и облака край‚ напоенный пурпуром‚ и свет‚ и жизнь‚ и жар яростного солнца. Обнаженное тело провисало в полете языком от затихшего колокола‚ девичьи волосы перистыми облаками на полнеба‚ а старики глядели из мрака‚ задрав головы‚ щуря слабые глаза‚ колыхаясь от вялых желаний‚ различая или угадывая‚ перышки валились из рук.
Но побежал по газону старый еврей Фишкин‚ потный и всклокоченный‚ опрокинул мешок с перьями‚ завалил бочку набок‚ и сунулся оттуда желтый язык меда‚ потекла сладкая‚ тягучая лава‚ усеянная бесполезными перышками‚ придушила под собой всё живое. Плыла на спине беспомощная птица-инвалид‚ подхваченная потоком‚ торчала кверху единственная ее нога знаком бедствия‚ и вздыхала она‚ и кряхтела она‚ повторяла со смиренным отчаянием‚ заламывая скрюченные пальцы:
– Вей из мир! Горе мне! Впадаю в Каспийское море...
Ее унесло в тихую заводь‚ прибило к берегу‚ и она уселась на краю лавы‚ липкая и засахаренная‚ покорно глядела через поток‚ как прыгал по газону старик Фишкин в сандалиях с цветными носочками‚ в клетчатых штанишках‚ взмахивал суматошно руками‚ чтобы улететь следом‚ даже отрывался порой от земли‚ но портфель с крупой не отпускал‚ держал намертво. А выбросить – жалко.
– Вей из мир‚ – кричал он‚ переполошив весь газон. – Ой‚ вей из мир!..
Просунулся к ним рассыльный-посыльный‚ оборванный доходяга с первыми признаками благополучия‚ завозился‚ уминая кусты‚ обламывая побеги‚ давя мясистые стебли‚ заругался на ихнее безобразие:
– Куда тебя занесло‚ дура? Такого бульвара и нету вовсе.
Она лежала на траве лицом к небу‚ руки уложив под голову‚ соблазнительная и несчастная: глаза подозрительно сухие.
– Ничего мне вашего не надо. Совсем ничего.
А посыльный от шоколада сыт. Рассыльный от духов пьян. У него‚ у доходяги‚ мысли игривые.
– Во‚ – хохотнул‚ – новый тебе подарочек. Распишись давай.
И прилег рядом. Глаз положил со смыслом. И руку. Потискал маленько тугую припухлость.
– Эй‚ – намекнул‚ как мизинчик оттопырил. – Полагается одаривать. Хоть чем.
– Уходите. Я же не возьму.
– А кто тебе даст? – и пуговку отстегнул. – Ты его отработай сперва. Во мне жила с духов шевелится.
Сунулась из куста короткоствольная железяка‚ шлепнула его по затылку.
– Не больно надо‚ – обиделся посыльный. – Ты им подарки дари‚ кольца с брильянтами‚ а они кобенятся.
Она взглянула на него печально:
– Возьмите. И уходите. Ну‚ пожалуйста.
Он и примерил. Закрепил. Пофасонился:
– Идет?
– Нет слов.
– Распишись давай.
И умчался радостный. Грудью проломился сквозь заросли. Прогал оставил за собой‚ как танк прошел.
– Аха-ха! Ха-ха!..
Машина гуднула от тротуара‚ словно напомнила о себе. Коротко и деликатно.
– Нет-нет‚ – сказала она в ответ. – И не просите. Жениться надо на вырост. А я его переросла.
И еще сказала:
– Он меня по лотерее выиграл. Мог взять деньгами‚ мог меня. Деньги – это всегда деньги. На них проценты нарастают. А жена стареет.
Сначала они покупали белье. Много постельного белья: с полок валилось. Садились рядком‚ открывали шкаф‚ дружно перекладывали‚ пересчитывали‚ переписывали. Потом шли в магазин‚ подкупали еще. И опять садились рядком‚ всем на умиление‚ пересчитывали заново. Было захватывающе интересно. "Я думала‚ это и есть счастливая женатая жизнь. И так будет всегда". – "А чем плохо?" – скажет на это Беба‚ ненужная ее подруга. "Были бы деньги"‚ – скажет на это Фима-дурак... Потом она очнулась. Как проснулась от толчка среди ночи. Ей захотелось дарить подарки: первый признак надвигающейся влюбленности. Но дарить было некому. Лежал за спиной дотошный мужчина‚ что подводил баланс в конце дня‚ трудолюбиво закладывал семейное благополучие‚ уже засыпая‚ вскидывался озабоченно: "Наволочек подкупить..." – Господи‚ хоть бы не тронул! "Это же грех принимать‚ когда не любишь‚ самый страшный грех..." – "Грех одной спать"‚ – скажет на это Беба-давалка. "Греха вообще нет"‚ – скажет Фима-дурак.
Глянула в пролом бабка умильная‚ пожалела ее по-бабьи:
– Может‚ на путину тебе‚ милая? Дочь у меня крабов пластает‚ мужиков сетью ловит. Хошь‚ и тебя пристроит?
– Хочу. Я всего хочу. И мужиков с крабами тоже. Я плохая‚ – сказала‚ – и мне хорошо.
– Бабка‚ – позвали из зарослей‚ – ты чего сводничаешь‚ старая? Давно по рогам не получала?
– Ты поживи с мое‚ – огрызнулась бабка. – Сорок годков без мужика. Тогда и вякай.
Тут она и углядела их‚ связанных-спеленутых‚ блаженных и беспомощных.
– Вы чего кисните? Баб‚ что ли‚ нету? Старушек-молодушек? Так я ужо сыщу! – И пошла обрывать ветки‚ отдирать корни‚ ахать-охать-покрикивать: – Мужики еще хоть куда! В силе. В соку. В памяти. Их подлатать-подштопать‚ подвернуть-подладить‚ сменить кой-чего для крепости и в дело! Тут бабы порознь маются‚ без кавалеров сохнут‚ а они сок пущают‚ силу зазря расходуют.
И пинком-тырчком-коленкой!
Шелохнулись без охоты квелые‚ линялые‚ зеленью тронутые‚ мхом проеденные‚ заскрипели дружно нерасхоженными суставами:
– Ты чего нас подняла? Чего всполошила? Где они‚ твои молодушки? Было бы из-за кого.
– А ну‚ в пары становься. Ногу держи. Голову задирай. Замри – не падай! Щас всех пересватаю.
Река текла перед ними.
Медовая гибельная лава‚ что перекрывала путь.
Сидел на ее берегу старый еврей Фишкин‚ обтирал птицу носовым платком‚ жаловался‚ бурчал-выговаривал за неосторожность‚ а она покорно подставляла крылья‚ бока‚ шею‚ утешала-оправдывалась. И было им вдвоем хорошо.
– Так‚ – решил завтрашний старик и пригнулся для броска. – Очнулись‚ мужики. Встали-потопали.
Они перекинули скамейку через тягучий поток и уходили без оглядки на другую сторону‚ скорым шагом от гиблого места‚ как уходят из окружения через отбитый у врага мост. Три старика без жалости и раскаяния.
Шелохнулись тени на газоне‚ поднимались со стоном на онемелые ноги‚ липли теперь к ним‚ бесконечной процессией через поток. И кто оглядывался – отставал. Кто спотыкался – падал в медовую реку. Кто падал – уплывал без возврата мимо одноногой птицы‚ а она считала потери.
– Запевай‚ – велела бабка-командирша. – С пересвистом. Чтоб невесты за версту учуяли!
А они молчат. У них дыхания нет. У кавалеров занюханных. Им бы угнаться да не отстать – вот и весь пересвист. Хромой с кривым. Да косой с плешивым. Да горбатый с расслабленным. Да с клюшкой. Да на костыликах.
– Эва! На дохляков кто позарится?
Обиделись. Надулись. Вспомнили прежние победы. Набрали воздуха полные груди. Подпрыгнули-подсвистнули. И дружно‚ в ногу‚ отмахивая весело‚ от плеча на сторону:
Дорогая моя Шура‚
Шура из-под Вологды.
Погуляем‚ моя Шура‚
Пока обе молоды.
Тут‚ вроде‚ колыхнулось. Почудилось-показалось. Как лист шелестнул нехотя:
Я теперя не твоя‚
Я теперя Сенина.
Он вчерась водил меня
Слушать речи Ленина.
Растерялись. Сбились с ноги. Запутались и затолкались.
– Бабка‚ – сказали кавалеры‚ поигрывая костыликами. – Заманила‚ Сусаниха чертова? Поматросила и бросила? Это ж разве молодушки? Это ж активистки бесполые.
А она:
– Ништо‚ женихи. Отобьем бабочек. Отымем у супостата. Не всё им, кой-чего и себе. И раз! И дружно!
С крыши капает вода‚
Да узнаёт милой года:
"Сколько‚ Маня‚ тебе лет‚
Да ЗАГС запишет или нет?"
Те и сдались. Сомлели. Покорились мужскому напору. Сознательность – дело‚ конечно‚ хорошее‚ да и одной оставаться – навоешься. И визгливо‚ и радостно‚ с полной своей отдачей‚ идя на тесное стариковское сближение:
Я стояла у ворот‚
Спросил милый: "Какой год?"
Совершенные лета‚
И никем не занята.
Бабка взгромоздилась на скамейку‚ глядела из-под руки на проходивший мимо отряд. Как парад принимала. Колонну женихов на марше. Хромого с косым. Да кривого с горбатым. Да с клюшкой. Да на костыликах.
– Всё. Дальше шагайте сами. Там пруд. Вокруг бабы несчитанные. Скажете – от меня.
– А ты? Шла бы с нами.
– А мне делов не переделать. Кульером работаю. Пакеты таскаю. Письма-квитанции. Скороход ваша бабка на старости лет. Входящая-исходящая.
– Старая‚ – попросили‚ – угомонись‚ подруга. Внучатки пускай работают‚ лбы здоровенные. Их теперь черед.
– Дак они ж у меня в тюрьме кукуют‚ близнятки мои. Колька подследственный да Петька подконвойный. А может‚ и наоборот.
– Да что ты?
– Да то. Собрались к вечеру‚ инструмент спроворили‚ хлеба краюху‚ сказывают на пороге: "Ты у нас‚ красавица‚ в бархате жить станешь". Я им: "Вы куда?" – "На дело‚ умница. На рысях на большие дела. Не всё им, кой-чего и нам". И ускакали‚ поганцы. Вот я теперь и нарабатываю‚ близняткам на передачи‚ проглотитам моим. Кольке – мешок полный‚ Петьке – рюкзак цельный. А они: "Не журись‚ девушка‚ в сапожках гулять станешь. На путину поедешь‚ крабов увидишь".
И пошлепала в свою сторону.
Она шла за стариками по боковой дорожке. Голова набок. Глаза скорбные. Руки донизу. Пальцы перебирают подол. И черная машина катила за оградой‚ будто с малого уклона‚ резиной терлась о борт.
– Я ведь какая была? – говорила. – Я ведь такая была. Упрямая. Настырная. Своевольная. Пробивалась в него долго‚ отчаянно‚ безуспешно‚ и когда‚ наконец‚ сдалась‚ он меня принял. Радость моя! Удача невозможная. От него яблоками пахло. Антоновкой.
– Ничего этого не было‚ – сказали обиженно из черной машины. – Нам ли не знать?
– Бебу спроси. Фиму-дурака. Тахту скрипучую. Он говорил: "Нас интересуют ваши тридцать. И сорок. И пятьдесят ваших лет". И еще: "Я приснюсь тебе в ночь перед возвращением. Жди". И я жду.
– Себе-то не ври‚ – скажет на это Беба‚ ненужная ее подруга.
– Кому тогда врать? – скажет Фима-дурак.
Встали толпой потрясенные женихи.
Жались кучкой постаревшие враз невесты.
Тянули басовито и похоронно:
Последний год‚
Последний час‚
Последний вечер
Я у вас.
Последняя
Минуточка‚
Прощай‚
Прощай‚
Анюточка.
Бом-бом-бом!
Зыбило пруд. Морщило гладь. Ежило размытые пятна. Колыхалась на неспокойной воде долбленая лодочка-однодеревка‚ челн-перевертыш‚ как гроб без крышки. Легким ветерком подгоняло его к берегу‚ к темной громаде ресторана‚ словно просился он обратно‚ к живым. Тогда его отпихивали багром.







