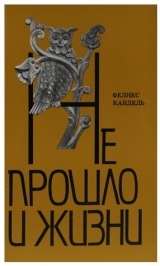
Текст книги "Не прошло и жизни"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Где гений‚ где? – всполошились на скамейках. – Покажите приказ о назначении: три подписи‚ печать! Иначе он не гений‚ нет-нет‚ иначе он иначе!
– Гений! – подхватил шустряк в чесуче и становился у постамента двумя своими половинками. – Где он‚ этот негений‚ который гений? Мы – в некролог. Мы – в почетный караул. Мы – к безутешной вдове...
Вышли на них двое с переплетенными руками‚ переплетенными ногами‚ постанывая через обкусанные губы‚ а пуговицы уже отскакивали на стороны‚ а застежки рвались с мясом‚ одежда разлезалась по швам и по ткани‚ и грудь вырывалась на волю‚ бедро и колено: мычали‚ стонали‚ покусывали зубами‚ карябались ногтями‚ терлись выступом о выступ‚ и черная‚ вздутая кислородная подушка‚ как бесстыжий общий живот‚ готова была лопнуть-разродиться‚ брызнуть содержимым через тугой наконечник.
– Постыдились бы‚ – сказали со скамеек. – На вас дети смотрят. Какой пример для подрастающих пенсионеров!
Пришел с площади старый еврей Фишкин с громадным портфелем‚ топнул ногой сердито:
– Дайте пройти. Пройти уже негде. Это счастливое детство загородило все улицы.
Раздвинул руками‚ втиснулся с трудом в промежуток‚ но они слиплись тут же‚ зажали Фишкина намертво.
– Ах‚ – сказал обморочно‚ телом ощущая тугие подробности. – Это у меня не хуже... То не меньше... Там не слабже... Ой‚ а это у вас чего?
Тут набежал некто‚ старый и дряхлый‚ цапнул зубами наконечник‚ вдохнул кислород молодости: его и разорвало в момент.
– Боже ж ты мой! – застонал Фишкин. – В семьдесят лет счастья нет – не будет.
Но они уже выталкивали его частыми сокращениями из сладкой тесноты‚ телом обретая ненасытное тело‚ порами встречая жадные поры‚ токами буйной крови буйной крови ток‚ и наглая‚ пузатая подушка ткнула напоследок Фишкина острым наконечником в ягодицу.
– Это я бы у вас украл‚ – сказал Фишкин подушке. – Одно только это.
Поставил портфель на землю‚ кряхтя влез на него‚ потом на постамент.
И осветил себя фонариком.
Стоял он маленький‚ коротконогий‚ в серой толстовке до колен‚ в клетчатых штанишках-трубочках‚ и в спутанной его бороде бурлила‚ не утихая‚ древняя цивилизация. Борода потрескивала‚ погуживала‚ постреливала крохотными гейзерами трухи: что там – сражения? извержения вулканов? торжественные заседания в честь?.. Кто это знает? Фишкин‚ мудрый еврей Фишкин‚ который знает всё.
Сидели на скамейке деланные долгожители‚ вздорные и чванливые‚ верткие и глумливые: Алик‚ Шурик‚ Славик да Толик. Сидели по установленному ранжиру‚ вплотную‚ чтобы не пролез ненароком лишний‚ перепихиваясь локтями в вечной борьбе за второе место. За первое они не боролись. Первым сидел Кузьма Бессмертный‚ утвержденный и спущенный сверху на вечное старшинство‚ и крякал то и дело от возложенной на него ответственности. Кузьма Бессмертный пережил сначала основоположников‚ потом очевидцев‚ затем самого себя‚ и потому лелеял надежду‚ что будет жить вечно. С кем-то должна случиться такая петрушка хоть раз за человечество? Почему бы не с ним? Он сидел первым‚ с приличным просветом до второго‚ и под каждый кряк отыскивал в собственной жизни те добродетели и свершения‚ которыми завоевал право на вечность. Беспредельная преданность делу. Беспредельная вера в торжество. Беспредельное одобрение-восхищение. И конечно же‚ беспредельная плата членских взносов.
– Толик‚ – велел Шурик. – Сбегай‚ малец‚ в аптеку. Валерьяночки купи – четвертиночку. Валидольчику – закусить.
– А чего это я? – в обиде завопил Толик.– Всё я да я! Я тоже долгожитель. Я просто молодо выгляжу.
– Сосунок‚ – ласково обозвал Славик. – Дешевое повидло. Ты еще с отца не стёк‚ а я уж видал вот этими глазами‚ как бомбу в царя-батюшку кинули.
– Щенок‚ – хмыкнул Шурик. – Желторотик. Когда бомбу в батюшку кидали‚ я во-он кем был! Казачьим есаулом. Это я тебя‚ сопляк‚ нагайкой тогда полоснул.
– Есаулишка‚ – фыркнул Алик. – Казачишка. Когда ты на кобыле сидел‚ я уж в жандармском управлении работал. На царя-батюшку спину горбил.
– Но все мы‚ – хором‚ в сторону Кремля‚ – тайно сочувствовали революции!
А Кузьма Бессмертный ничего не сказал. Кузьма крякнул надежно и основательно‚ как печать на документ поставил.
– Врете вы всё‚ – сказал Толик‚ корчась от зависти. – Ваши метрики на рынке куплены. В ваших паспортах цифры соскоблены. Знаю я ваши приписки‚ очковтиратели!
Они двинули дружно тощими задами‚ и Толик слетел камнем‚ со скамейки на острый копчик. Охнул‚ крутнул головой: женщина под скамейкой‚ пуганая‚ с мольбой в огромных, на поллица, глазах. Шляпка. Ридикюль в надломанных пальцах. Крашеные в рыжину волосы‚ седые у корней. Нищая опрятность позавчерашних нарядов.
– Не нарушайте‚ – попросила сразу. – Только не нарушайте равновесие.
Жила себе тихо‚ жила неприметно‚ посреди прочих квартирантов: ни она им‚ ни они ей. Пенсию раскладывала экономно‚ по рублю на день‚ в обед ходила в молочную на Пушкинской площади‚ брала сырники с чаем‚ лапшовник с кефиром‚ кашку с киселем – старушечью утеху. Было у нее равновесие‚ отвоеванная к старости устойчивость‚ которой дорожила после рваной‚ неукладистой жизни. Позади остались могилы‚ позади звенели струной душу рвущие воспоминания‚ но день встречала поутру‚ как блюдо с новым угощением. Не лапшовник с кефиром‚ не кашку с киселем: неиспробованные прежде вкусы-ароматы. Перед зеркалом стояла‚ красоту по утрам наводила‚ на бульвар шагала с удовольствием‚ сидела-слушала-вглядывалась‚ чтобы вкусить и этот день‚ отличный от прочих дней жизни‚ впитать и насладиться‚ отбросить к вечеру пустой шкуркой. Много ли их впереди‚ ее дней?.. А потом поломали дом‚ где прожила полвека‚ переселили ее в другую квартиру‚ к иным жильцам‚ и рухнуло разом равновесие‚ ссытпалась осколками отвоеванная устойчивость. Вот так вот: живешь – не знаешь‚ что сметана жизнь на гнилую нитку‚ набрана из лоскутков прелой материи. Только тронь: поползет сразу‚ по шву и по ткани.
А на скамейке опять ссора и свара‚ доносы с подсидками‚ вечная борьба за второе место.
– Как сейчас помню‚ – важно сообщил Славик. – Ударили мы в рельсу‚ побежали на площадь Кремль брать. А навстречу царь-государь Василий Иванович Шуйский‚ собственной персоной: бей – не хочу.
– Врешь ты всё‚ – поправил Шурик со знанием дела. – При Шуйском рельсов еще не было. Вот я помню: ударили мы в колокол‚ побежали на горку Софийский собор брать. А навстречу светлый князь Рюрик с матушкой-княгиней: режь – не желаю.
– Какой еще собор? – возмутился Алик. – При Рюрике собора не было. Вот я зато помню‚ не в пример другим: ударили мы в набат‚ побежали брать, а нечего. Мы туда‚ мы сюда: ни Кремля тебе‚ ни собора – одни кругом хазары с печенегами‚ голь перекатная‚ дремучий кругом сыр-бор. И из этого сыр-бора идет вдохновенный кудесник‚ покорный Перуну уважаемый наш долгожитель‚ товарищ Кузьма Бессмертный‚ на которого нам равняться‚ брать пример с кого.
И Кузьма крякнул громко и решительно‚ подтвердив сказанное.
И Алик чуть подвинулся к нему: на малые сантиметры.
И эти – на скамейке – задавились от злости-зависти.
– Врете вы все‚ – с ненавистью сказал Шурик и зубом клацнул‚ как промахнулся. – По блату устроились. По знакомству пролезли. Имею неопровержимые доказательства обмана и надувательства!
Они поднаперли с двух сторон‚ Алик со Славиком‚ и Шурик взлетел над скамейкой‚ арбузным семечком из-под пальцев‚ пузом распластался на дорожке. Глядит: женщина под скамейкой‚ мятая‚ трепаная‚ за гранью тихой истерики. Скребет ногтями утрамбованный грунт‚ копает малую ямку‚ закладывает патрончик из-под помады‚ заваливает‚ заглаживает… но чей-то теплый‚ на меху‚ ботинок уже придавил пальцы, ломкие‚ суставчатые‚ и они судорожно отдернулись назад.
– Ты чего? – поинтересовался Шурик. – Диверсию готовишь? Пистон под Кузьму ставишь? Зря стараешься: он у нас бессмертный.
А она шепотом‚ просительно‚ душу выворачивая чулком:
– Люди‚ мы сползаем! Мы сползаем на край‚ люди добрые!.. За спиной пустота‚ под ногой бездна...
– Отвечай‚ – приказал. – Я тебе в праотцы гожусь. Чего в ямку клала?
– Наказ. В двадцать первый век. Чтобы рвы пока рыли. Заборы городили. Цементом скрепляли. В их время сползем, ногой упремся.
– Зачем прятала? – удивился Шурик. – Мне лучше дай. Я до них доживу‚ я и передам.
Голову склонила‚ палец до крови закусила‚ вглядывалась с сомнением:
– А не забудете? Не потеряете? Не помрете по пути?..
– Дура‚ – сказал гордо. – Я долгожитель. У меня стаж с затертого года. Мне плюшки бесплатно дают. С чаем. С сахаром. Иногда с лимончиком. Стали бы на всякого тратиться!
– С лимончиком? – поверила. – Тогда так. Скажете им: мы не улавливаем сползания. Мы его не улавливаем‚ когда все ползут рядом‚ бок о бок. И жизнь коротка‚ чтобы заметить‚ и мы ненаблюдательны.
И крикнула горлом через просвет в ногах‚ головой заколотила по сиденью:
– Пусть уже готовятся! Пусть! Пусть!..
– Вы сползете‚ – беспечно сказал Шурик‚ – туда вам и дорога. Мы зато останемся. Нам персональные подпорки поставят. На нас вся статистика держится‚ неуклонно растущая продолжительность жизни. Вы ползите, мы вас подтолкнем.
Сначала она ничего не ощутила. Другой дом‚ иные жильцы‚ – ей что за дело? Попыталась и тут отгородиться‚ подладиться‚ выстроить заново независимое одиночество: ни она им‚ ни они ей. Но не складывалась заново порушенная при переезде устойчивость‚ как не складывался вновь разобранный для перевозки шкаф: шип не лез в паз‚ ось в петлю‚ штифт во втулку. Так и осталось стоять в углу щелястое‚ перекошенное трехстворчатое чудовище‚ надежное ее хранилище из прежней жизни‚ напоминанием о жизни теперешней: не трогай на старости‚ не двигай с насиженного места. А там – исподволь‚ неприметно – зыбко стало под ее ногой. Ступала по коридорному паркету‚ как по упругому болотистому дерну‚ что удерживает по сиюминутной прихоти‚ и голова кружилась на ходу‚ затылок ныл перед неизбежной трясиной‚ или это играли на старости ее изношенные сосуды? Все полы со временем стали для нее покатыми‚ все без исключения аллеи-тротуары-мостовые. Из дома выходила‚ как с горы спускалась. Домой возвращалась – в овраг скатывалась. Она поворачивала порой в другую сторону‚ резко и обманчиво‚ чтобы перехитрить покатые пространства‚ но они тоже перекидывались заново‚ полы-тротуары-аллеи‚ ловкие и беспощадные‚ будто стояла она на пике‚ всегда на пике‚ и прохожие разглядывали с веселым изумлением бесноватую старуху‚ что осторожно ставила ногу под очередной шаг или крутилась на месте‚ с ужасом озирая окрестности. Она сползала неумолимо по склону своего безумия‚ руками цепляясь за чахлые кустики‚ пятками упираясь в сыпучий грунт‚ и всё в ней скользило‚ ссыпатлось‚ разгоняло бег к краю бездны. И кровь бурливым ручейком вниз по сосудам. И мысли верткими бурунчиками вниз по извилинам. И судороги взбесившихся нервов‚ спазмы непослушных мышц‚ учащенный до предела пульс – вниз‚ вниз‚ вниз – до вопля души‚ вопля плоти‚ разогнавшегося к обрыву сознания‚ когда билась она головой о стены‚ выла и царапалась… и приезжала машина‚ везла ее по городу‚ в палату‚ на койку‚ где тишина‚ беленые стены‚ заготовленные впрок шприцы. За месяц-полтора глушили ее уколами‚ доводили до уровня нормального человека‚ что живет беспечно на краю бездны‚ и отпускали домой‚ в чужую квартиру‚ к посторонним людям‚ где поджидало ее щелястое трехстворчатое чудовище напоминанием о перекошенной жизни. И снова она приоткрывала дверь по утрам и проверяла с опаской‚ есть ли пол в коридоре: пол‚ а не провал до подвала. Есть ли асфальт на тротуаре: асфальт‚ а не бездна под ногой. Даже кастрюлю боялась открыть – колодец. Даже сахарницу – дыра глубинная. И руку совала в ридикюль с опаской‚ с замиранием сердца‚ как в пасть‚ что намертво прихватит зубами и утащит внутрь‚ равнодушно перемалывая кости.
Толклась у скамейки бабка умильная с деревянными кадушками на привязи‚ делала складно поденную свою работу: тому долгожителю штаны застегнуть‚ этому нос вытереть. Тут же крутились близнятки-прохиндеи‚ близнятки-шнырики‚ озоровали по-тихому со старцами: тот Колька – штаны драные‚ этот Петька – рубаха в лоскутах. А может‚ и наоборот.
– Цыц‚ – кричала на них. – В детдом сдам‚ анчутки!
– Сдай‚ сдай‚ – бурчал Колька, фингал под глазом. – Я его сожгу‚ твой детдом.
– Сдай‚ сдай‚ – пыхтел Петька, юшка из носа. – Мы тя первее сдадим.
Цоп – Шурика за бороду‚ хлоп – Алика по лысине!
– Мать у них‚ – извинялась‚ – в море болтается. Крабов ловит. Крабов пластает. А крабы эти оченно женскую силу пробуждают: не к ночи будь сказано. Крабы эти – подальше от греха – за границу идут‚ чтоб ихние бабы над ихними мужиками лютовали. А нашим одна камбала‚ престипома‚ вяленый хек.
И опять вкруг скамейки пошла‚ кадушки поволокла под поросячий визг. А близнятки – рожи пройдошные – уже к Кузьме пристроились‚ прыгали на одной ножке под каждый его кряк. Знала бабка Кузьму‚ как облупленного‚ из одной вышли деревни. Это он на ее памяти без порток по огородам бегал‚ пипкой без нужды тряс‚ охальник. Звали его тогда Кузька Бесстыдный. Теперь‚ конечно‚ другие времена. Теперь у него стаж жизни с одна тысяча позабытого года. Теперь она ему: ваше благородие господин-товарищ Бессмертный. Все вокруг в люди вышли. Каждому плюшка положена на старости. Одна она вертится без роздыха. Дочка у ней на путине: деньгу делает‚ сделать не может. Всё на аборты тратит.
Петька долбанул Кольку‚ Колька колупнул Петьку‚ и покатились в пыли‚ мутузя кулаками в причинное место.
– Вот я вас‚ – цыкнула. – Давно в кадушках не кисли?..
А на скамейке по-новой ссора и свара. На скамейке подкопы с подковырками‚ борьба за лучшее место.
– Если поднатужиться‚ – сказал Алик. – Поднапрячь извилину. Помню еще ледниковый период. Мамонты ходят по улицам. Ящеры ползают. Чудища летают. И никого. Ни одного человечка.
– Так-так-так‚ – обрадовался Славик‚ и глаз загорелся фонариком. – Чур‚ ваша ошибочка! Я‚ например‚ тоже помню ледниковый период‚ и мамонтов с ящерами‚ и чудища над головой‚ но я также отчетливо помню‚ как бродил вместе с ящерами наш дорогой товарищ первожитель Кузьма Бессмертный‚ утвержденный и спущенный сверху.
– Я тоже... – завопил Алик. – Помню товарища Кузьму!
– Нет. Вы уже сказали.
И – локтем его! В бок. Под ребро. Под самое дыхало. Взлетел Алик над скамейкой от непереносимой боли‚ перекувырнулся через спину‚ головой воткнулся в песочницу. И встал намертво.
Под грохот барабана и вой мятой трубы пришли строем юные долгожители в пионерских галстуках‚ вздернули скамейку слабыми ручонками‚ дружно потащили на торжественную линейку. Отставшие шустро помчались следом‚ пихаясь локтями‚ попрыгали на ходу‚ расположились по новому ранжиру: Славик‚ Толик‚ Алик да Шурик‚ важно поплыли в президиум‚ кандидатами на бессмертие.
– Эй‚ – позвала бабка. – Может‚ надо чего? Полы смыть в президиме‚ воды подать‚ скатерку простирнуть. Вот она я – на все руки. Вот они‚ близнятки, подъедалы мои.
И пошлепала следом.
Унесли скамейку, осталась без прикрытия женщина. Под случайными ветрами и колючими взглядами.
– Опять‚ – зажалилась. – Опять переселили. Я сползаю‚ людиии...
А умрет она не в свой срок‚ в доме для престарелых с психическими отклонениями: два корпуса на окраине города‚ голый дворик на припеке‚ чахлые кустики‚ тяжелые скамейки. Бродят по дворику расслабленные‚ бродят немощные‚ трясущиеся – всякие. Часами стоят у ворот‚ выпрашивают папироску у редкого прохожего. Часами выглядывают родственников. Жирная нянька с отекшими ногами принимает передачи‚ через неделю выкидывет пустые пакеты: "Всё‚ – говорит‚ – подъела. Волоки еще". Она споткнется на голом дворике посреди корпусов‚ о камень зашибет коленку. Две хилые старушонки‚ суматошно повизгивая‚ поволокут ее суетливыми мурашами на койку. Она пролежит недели с пустяковым ушибом‚ и никто ее не повернет‚ никто не подмоет‚ не поинтересуется: персонала у них нехватка. И оттого пролежни‚ отек легких‚ смерть. "Я в отпуске была‚ – скажет сердобольная сестричка. – А то б она пожила еще". – "Чего на них тратиться? – скажет другая. – Всё одно помирать". Ее похоронят за счет государства‚ по самому дешевому разряду‚ когда за телом не являются родственники. Гроб. Кремация. Сотрудник для наблюдения. Холм с табличками на кладбище‚ возле крематория: "Невостребованные 1976 год"‚ "Невостребованные 1977 год"‚ "Невостребованные – 1980"...
3
– Ладно‚ – сказал Фишкин с постамента. – Уговорили. Так уж тому и быть. Я расскажу вам эту историю. Расскажу‚ чтобы все знали. Потому что – как говорил покойный старик Какес – и сказать страшно‚ и молчать нельзя.
И они приготовились слушать.
Устроились поудобнее у постамента.
Не перебивали и не переспрашивали.
И вот что они узнали.
Ай‚ это была хохма! Ой‚ это был цимес! Изюм. Курага. Компот без косточек. Надо вам сказать‚ что Фишкин всегда жил нормально. Фишкин не задумывался над тем‚ как он живет‚ и потому было ему хорошо. Даже отлично. Когда тебе ничего не надо‚ у тебя есть всё. Но когда у тебя есть всё‚ тебе нужно еще очень много. Дважды всё.
Узнал как-то Фишкин от одного сумасшедшего‚ который успешно притворялся нормальным‚ что в Москве‚ в самом ее центре‚ поставили памятник знаменитому еврею. Ай‚ подумал‚ добром это не кончится. Ой‚ подумал‚ надо взглянуть‚ пока не поломали. Памятник еврею на площади имени еврея‚ – кто сможет такое вытерпеть? Никто не сможет.
После работы поехал взглянуть.
Стоит камень‚ на камне голова‚ на голове борода. И всё. Так-так-так‚ думает Фишкин‚ где-то я его уже встречал‚ как-то мы с ним пересекались.
Подошел поближе‚ глядит, вспоминает.
Тут тетка шагает. Пузо на последнем месяце. Ткнулась глазами в голову‚ ткнулась в Фишкина‚ да ка-ак заорет:
– Он! Чур меня! Он! С камня спрыгнул...
Хлоп! – и обморок.
Шлёп! – и выкидыш.
И все ее штучки-дрючки из ридикюля раскатились по асфальту.
Народ бежит‚ милиция свистит‚ а Фишкин по земле ползает‚ штучки собирает. Наткнулся на зеркальце‚ взглянул мимолетом и охнул... Он! Он в зеркальце! То есть Фишкин! То есть великий теоретик! То есть работник сумасшедшего дома номер восемь! То есть гениальный прозорливец! Фишкин бродит по Европе. Призрак Фишкина...
Стоит возле памятника‚ глазами в глаза‚ костенеет от предчувствий‚ леденеет от возможностей. А его окружили‚ в затылок дышат‚ и тетка с асфальта верещит:
– Он! Он! Чур меня! Борода с камня спрыгнула...
Стоит голова на постаменте. Рядом такая же голова‚ но на малом тельце. Или – как говорил покойный старик Какес – к чему голова‚ когда тела нет?
Тут кто-то выражается с обидой:
– Учили нас: гигант‚ гигант! А он так себе‚ карлик на палочке.
Другой выражается:
– Мало нам одного. Еще борода на нашу голову.
А третий молчит‚ пыхтит старательно‚ сувениры из карманов отбирает.
– Что вы делаете? – пихается Фишкин. – Я закричу‚ я...
А он на ухо:
– Молчи‚ Карла. Я пролетарий. Мне терять нечего. Сам‚ небось‚ учил.
Вот и милиция сквозь толпу лезет: ногой махнет – улица‚ рукой – переулочек.
А они стеной:
– Ты нам Карлу не трожь. Не трожь! Всё себе забирают‚ ниче народу.
– Да на хрена он вам сдался‚ народ?
– А потрепаться! А скинуться! А сгодится при случае. Одна Карла вам‚ другая нам. Карла‚ держись! Не поддавайся‚ Карла!
– Граждане население‚ – кричит милиция. – Мы его в музей берем! Под колпак! Приходите туда. Там и поговорите‚ там и скинетесь.
И под руки. В машину. В отделение. Так под локотки и внесли к начальнику.
А тот рыком:
– Упились‚ мерзавцы? Это кто же вам разрешил памятник с площади брать? Вчера Минина приволокли‚ сегодня этого.
Первый сержант и говорит с перепуга:
– Они не памятник. Они родственник.
Начальник походил вокруг и спрашивает:
– Правда?
Вот Фишкин думает: все евреи родственники‚ стоит только покопаться.
– Правда‚ – говорит.
– Чем докажете?
– Внешностью.
И бороду распушил.
Начальник охнул и к телефону:
– Докладываю! Задержан родственник памятнику у памятника родственнику. Не‚ не тому... Не‚ без лошади... С бородой и в усах. Слушаюсь!
И к Фишкину‚ с превеликим почтением:
– Сейчас за вами спецмашину пришлют.
А Фишкин стоит себе‚ важностью наливается: конечно‚ пришлют‚ конечно‚ спецмашину‚ или – как говорил покойный старик Какес – уж если вешаться‚ так на высоком дереве.
– У нас к вам просьба‚ – говорит начальник. – У нас ефрейтор Катькин опасного рецидивиста обезвредил. Теперь его полагается сфотографировать на фоне развернутого знамени. Но мы бы хотели – на вашем.
– Предлагаю‚ – говорит Фишкин‚ – на фоне рецидивиста.
– У него теперь нет фона‚ – отвечает начальник. – И долго еще не будет после Катькина. Так что‚ если не возражаете...
– О чем разговор! Всю жизнь мечтал быть фоном.
Приводят Катькина. Здоровенный мужик под потолок‚ кулаки – кувалды‚ и овчарка при нем выше Фишкина.
– Э‚ нет! – говорит Фишкин. – Насчет двоих мы не договаривались. Кто рецидивиста поймал? Непосредственно кто?
– Собака. Непосредственно она.
– Вот ее и фотографируйте.
– Гражданин памятник‚ – просит Катькин и краснеет‚ как девица. – Товарищ борода. Умоляю! Старуха-мать в деревне... На смертном одре... Последняя радость...
– Тогда без собаки‚ – упрямится Фишкин. – Или – или. Я не могу быть фоном для всех сразу. Где моя спецмашина?
– Пусть тогда собака‚ – грустно говорит Катькин.
– Пусть тогда Катькин‚ – грустно говорит собака.
И заплакали оба.
И начальник заплакал. И сержанты. Участковые‚ следователи‚ вольнонаемный состав. Даже Фишкин слезу пустил в бороду.
– Ладно. Уговорили. На добрых всегда ездят. Фотографируйтесь на моем фоне‚ пока живой.
А они плачут. Все вместе. Пуще еще прежнего.
– Да как же нам фотографироваться-то‚ как?! У нас и аппарата нету. И пленки. И света недостаточно. Да и не умеет никто! Бедная старуха-мать... Бедный Катькин... Бедная ты наша сука...
Вышел из стены серый человек со смытым лицом и говорит:
– Машина подана. Вас ждут.
– Подождут‚ – отвечает Фишкин. – Вы лучше сфотографируйте ефрейтора Катькина на фоне моей бороды. И поживее!
– Всегда-пожалуйста. Мы до этого Катькина давно добираемся. Ваша карта бита‚ резидент Катькинзон. Взять его!
– Слушаюсь! – сказала сука.
И они поехали на спецмашине.
И приехали в Большой Дом.
Провели Фишкина по Большому Коридору‚ подняли на Большом Лифте‚ ввели в Самый Большой Зал‚ без конца-края‚ как хороший вокзал. За Большим Столом‚ на Больших Стульях‚ каждый под собственным портретом – Наши Общие Любимцы: сидят важно‚ глядят скучно.
Фишкин вошел‚ осмотрелся‚ сел под портретом родственника. А почему бы и нет? Они так‚ и он так. Или – как говорил покойный старик Какес – придерживайся обычаев страны‚ в которой живешь. А эти‚ за столом‚ зашевелились‚ зашушукались‚ смотрят-сравнивают‚ чувствуется – завидуют.
Самый Главный Любимец и говорит:
– Расскажите нам биографию.
– Ну‚ что вам сказать? – отвечает Фишкин. – Всё очень просто. У нашего знаменитого дядюшки Мордехая был двоюродный брат...
– Минуточку‚ – перебивает Самый Главный. – У Карла‚ а не у Мордехая.
– Это для вас он Карл‚ а для меня Мордехай.
Заволновались‚ загалдели‚ на стульях заерзали:
– Как это – как это? Пятно на основоположнике!..
Вышел из стены серый человек и говорит:
– Есть такой факт. По донесениям агентов. Как просочился наружу, непонятно.
– Почему не доложили? – кричит Главный. – Как допустили?! Мы бы тогда с германцами... Я бы теперь с китайцами...
Набежали врачи со шприцами‚ каждый уколол своего в податливый зад‚ и они сразу расслабились‚ Общие Любимцы‚ они растрогались‚ и появилось неодолимое желание петь‚ смеяться как дети‚ принимать важные коллективные решения.
– Значит так‚ – говорит Фишкин‚ – и прошу не перебивать. У нашего знаменитого дядюшки Мордехая был двоюродный брат‚ торговец мануфактурой Сёма Златкес. Сёмина дочка Сарра вышла замуж за банкира из Гамбурга Пиню Вайсберга. Младшая дочь Пини‚ Двойра‚ убежала из дома с приказчиком обувного магазина Изей Фишкиным. Они побежали из Гамбурга в Одессу‚ и бежали очень долго‚ потому что в пути им было чем заниматься. При въезде в Одессу родился я‚ Шлёма Фишкин.
– Так‚ – спрашивает Главный‚ – кто хочет дополнить?
Вышел из стены серый человек и говорит:
– Всё правильно. Совпадает с донесениями агентов. Только дочь Сёмы Златкеса звали не Сарра‚ а Ривка.
– Хрен редьки не слаще‚ – пошутил Главный‚ и все дружно захохотали минут на сорок‚ потому что каждый опасался остановиться первым.
Набежали врачи со шприцами‚ кольнули подопечных в зад‚ и они сразу умолкли‚ пустили по-простому слезу‚ изъявили желание пожить тихо‚ скромно‚ неприметно‚ за непробиваемым забором с охраной.
Принесли чай с печеньем‚ и разговор пошел дружеский.
– Где вы работаете‚ Карл Фишкин? И кем?
– Работаю в сумасшедшем доме. Вожусь с дебилами.
– Фи‚ – говорит Главный. – Мы вас устроим получше. Мы вас возьмем лифтером в Самый Большой Дом. Нам будет приятно видеть вас по утрам‚ Карл Фишкин.
– Согласен‚ – отвечает. – Только не зовите меня Карлом. Пусть я буду для вас Шлёма Маркс. Вы приходите по утрам и говорите: "Здравствуйте‚ Шлёма". А я отвечаю: "Доброе утро‚ Владимиры Ильичи".
Развеселились‚ зафыркали‚ застеснялись: им лестно.
– Оформить‚ – командует Главный. – Со вчерашнего дня.
Вышел из стены серый человек и говорит:
– Никак ему невозможно в Самый Большой Дом. У него родственники за границей.
– Кто?
– Да Карл Маркс.
И все съели по печеньицу.
– Кстати‚ – спрашивает Фишкин‚ – а как насчет наследства? Книги дядюшкины издаете?
– Издаем.
– Гоните деньгу.
– Это‚ – говорят‚ – мысль. Это‚ – говорят‚ – хороший доход в нашу казну. Брать с ихнего Запада за издание дядюшки Маркса. И за Энгельса‚ кстати‚ тоже.
– При чем тут Энгельс? – удивляется Фишкин. – Он мне вовсе не родственник.
– А при чем тут вы? – пошутил Главный‚ и все дружно захохотали минут на тридцать‚ потому что каждый боялся остановиться первым.
Опять набежали врачи со шприцами‚ и они растеклись‚ расползлись‚ размечтались‚ появилось неуемное желание избирать и быть избранным‚ награждать и принимать награды‚ говорить речи и бурно‚ продолжительно аплодировать.
– Кстати‚ – говорит Фишкин‚ – я хотел бы съездить в Лондон‚ положить цветы на могилу дядюшки Мордехая.
– Уже положили‚ – отвечают. – От вашего имени.
– Я бы поплакал.
– За вас поплакали. Третий секретарь посольства с шофером.
– Я бы прибрал на могилке.
– Приберите тут. Мы перешлем.
Обиделся Фишкин‚ даже ногой взбрыкнул:
– Между прочим‚ спасибо могли бы сказать дядюшке Мордехаю. За такую удачную фамилию. А если бы он был Рабинович‚ как бы вы назвали свое учение? Рабиновичизм? А если Шапиро? Шапиризм?.. Или‚ не дай Бог‚ Какес! Под знаменем Какизма? Кто бы пошел за вами под таким знаменем?
Главный насупился‚ набычился‚ брови распушил:
– Гражданин Шлёма Маркс‚ а если мы вас за такие слова?..
– Маркса?.. Ну-ну. А что скажут на это братские партии?
Вышел из стены серый человек с двумя автоматчиками и говорит:
– Будем брать. Всех без разбора. Братских и небратских.
Набежали врачи со шприцами‚ укололи Фишкина в зад‚ и он тут же размягчился‚ рассопливился‚ появилось горячее желание согласиться со всеми‚ и чтобы все согласились с ним.
– Идите‚ – разрешил Главный. – Дышите на общее благо. А мы проверим.
Повели Фишкина к машине‚ отвезли к лучшему в городе парикмахеру‚ усадили в кресло.
– Как будем стричь? Под польку? Под полубокс?
– Под графа Льва Николаевича Толстого‚ – приказал серый человек. – Чтобы намека не было.
И лязгнул зловеще ножницами.
Так закончилась эта историческая встреча. Так Фишкин попал под надзор отрганов. Или‚ как говорил покойный старик Какес: плюнешь вверх – в лицо себе попадешь.
Жить бы ему тихо‚ жить неприметно‚ обходя стороной каменного родственника‚ но потерял Фишкин покой‚ потерял сон-аппетит‚ а приобрел взамен черную зависть. Прокрадывался изредка в ночные часы‚ стоял рядом‚ распушив исковерканную бороду‚ словно принимал почести от благодарных потомков‚ но не оглядывались на него случайные прохожие‚ не падали в обморок беременные тетки‚ не набегала топтоногая милиция. Когда тебе ничего не надо‚ у тебя есть всё. Но когда у тебя есть всё‚ тебе нужно еще очень много. Дважды всё.
Как-то не утерпел‚ встал перед зеркалом‚ поставил рядом портрет Мордехая‚ взял ножницы... Тут вышел из зеркала серый человек со смытым лицом‚ сказал сурово:
– Ой‚ Фишкин! С огнем‚ Фишкин‚ играешь.
И ушел сквозь стену.
Одно осталось в утешение: позабытый постамент на Страстном. Куда тоже лезут самозванцы‚ которых надо спихивать. Вчера‚ например‚ лез Ефремыч. За ним – вылитый Виссарионыч. Фишкин наступил им на пальцы‚ когда они карабкались на постамент‚ и с воем они уползли в кусты.
– Виссарионыч‚ – позвал Фишкин с постамента‚ – ты где?
– Я тут‚ дарагой‚ – из кустов откликнулся Виссарионыч.
– Выходи давай.
– Нэт! Вы всэ хатели меня убить‚ всэ...
Скисла немощная батарейка.
Застучало во мраке: железом по камню.
Сидел на корточках крохотный еврей Фишкин‚ принудительная пародия на графа Толстого‚ выбивал букву на мраморе. И размечено было четко‚ процарапано тонко‚ предварительной наметкой: "ФИШКИНУ – ОСВОБОДИТЕЛЮ".
– Где старик? – оскалился спортсмен. – Где? Сбежал‚ твою растак!
И прыгнул с места во мрак...
4
... а по переулку...
... по переулку вбок от бульвара...
... по переулку – коленом от бульвара‚ от вывихнутых теней на скамейках и страхов грядущих лет убегал в обжитое прошлое‚ где чехлы на стульях‚ салфеточки на комодах‚ свечи на фортепьяно‚ упитанный старичок в майке-сеточке‚ в черных трусах до колен‚ пухлоплечий и узкогрудый‚ в щедром пушке седоватых волос.
Убегал старичок вприпрыжку‚ расшалившимся ребенком-баловником‚ а под ногами уже не асфальт‚ но брусчатка‚ и фонари потусклее да пореже‚ и шелковых абажуров розовая идиллия за тюлем окон‚ поленницы дров‚ запашок самоварного угля‚ топот торопливых копыт за углом‚ – или это стук крови в висках?..
Убегал вчерашний старик в переулок прошлого‚ прятался от погони в собственном настоящем‚ затихал за углом натужно веселый город‚ отваливалось слоями наносное‚ завтрашнее‚ и вставал в конце переулка‚ углом со двора‚ до кирпичика знакомый дом‚ где привязывают пространства‚ подъезд на две створки‚ куда нет ему входа‚ клумба с блеклыми флоксами..‚ но мрачные окна осветились жутковато изнутри‚ и полыхнуло пламя‚ будто плеснули керосином‚ лопнуло со звоном первое стекло‚ скорчилось‚ обугливаясь‚ замордованное пространство‚ его зачарованный край… и темная фигура отпахнула наверху створки окна‚ вылезла неуклюже на подоконник‚ оглянулась напоследок и с жалобным писком – большой ночной птицей – шагнула из огня на асфальт.
Он долго летел к земле: времени достало на всё.
Разглядеть себя‚ жалкого‚ бегущего: сверху вниз.
Распознать себя‚ гордого‚ парящего: снизу вверх.







