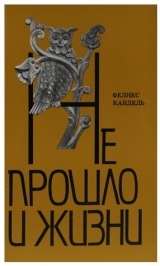
Текст книги "Не прошло и жизни"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
– Токую‚ – объяснял упрощенно. – Для поддержания – хак-хак – духа. Для омоложения – хак – организма.
А умрет он удивительным образом‚ этот старик‚ в далеком‚ недоступном нам будущем‚ умрет так‚ как не будут уже умирать‚ приученные к повальным космическим эпидемиям‚ смирившиеся с безжалостными вторжениями очередных пришельцев‚ привыкшие к официальным срокам долгожительства‚ которые никому не удастся достигнуть. Умрет просто и естественно‚ легко и беззаботно‚ игриво и легкомысленно‚ подавившись за обедом горбушкой черного хлеба‚ и явит тем самым надежду на будущее‚ проблеск во мраке‚ робкое возвращение к бесхитростным смертям‚ память о которых не избывала в летописях и преданиях.
Завтрашний старик танцевал у скамейки. На Гоголевском это было – не позабудьте! – в сумерках на Гоголевском.
– Я спрячусь‚ – сказал‚ – а вы ищите. Хрен найдете!
Подпрыгнул с корточек и исчез‚ растворился без звука: веточка не хрустнула‚ песок не проскрипел‚ трава не примялась.
Раскроем первый его секрет: завтрашний старик был неравнодушен к укрытиям.
Завтрашних не понять.
Раскроем другой его секрет: это был старик-диверсант‚ старик-мститель‚ и больше всего на свете он уважал норы‚ пещеры‚ подполы и овраги. Чтобы появиться из-под земли неожиданно и врасплох‚ издать победный клич‚ посеять ужас и панику‚ захватить трофей-доказательство и снова провалиться под землю‚ как не было. Весь мир для него открытое и опасное пространство. Весь мир тайник в тайнике.
Ковылял по бульварам городской сумасшедший‚ начитанный слабоумный преклонного возраста‚ шлепал битыми ботинками по утрамбованной дорожке‚ мотал раздутой головой‚ косил лихим глазом‚ говорил одними цитатами‚ что пропахали борозду в слабых его мозгах.
– Имейте в виду‚ – предупреждал на Чистопрудном. – Основной закон жизни: товар деньги товар.
– Блаженненький‚ – вздыхали тонные старушки в пенсне и лезли в ридикюли за подаянием.
– Чтоб вы знали‚ – сообщал на Рождественском. – Кадры в наше время решают всё.
– Глумишься?! – рычали отставные старики‚ верные сыны народа‚ и хватались за кобуру‚ которой давно не было.
– Пишите‚ – диктовал на Гоголевском. – С красной строки. Заглавными буквами. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме.
– Нынешнее поколение‚ – переспрашивали‚ – будет жить?..
Выпал из мрака завтрашний старик: кеды‚ затертые голубые джинсы‚ зеленая штормовка к дальней дороге. Сел на скамейку‚ ногу закинул на ногу:
– Был на твоей могиле. Камень завалился‚ фото дождем смыло‚ крапивы вокруг по пояс. Не ходят к тебе потомки‚ нет‚ не ходят.
– Не ходят – не надо‚ – вздохнул вчерашний старик. – Не ходят, значит, не заслужил.
И блеснул непролитыми слезами.
– А как там со мной? – небрежно спросил сегодняшний.
– С тобой‚ – сказал‚ – непонятно. Нет твоей могилы и никогда не было.
– Ладно уж. Что‚ что‚ а могила должна быть.
– Должна. А ее всё равно нет.
А сам уже оглядывал его внимательно‚ с пытливым интересом‚ глазом косил под куртку‚ ноздри раздувал хищно.
– Темнишь‚ старик. Нюхом чую: темнишь.
Раскроем главный его секрет: завтрашний старик убивал одиноких знаменосцев. Он их выискивал‚ он их вынюхивал‚ он к ним выскакивал из засад-убежищ‚ чтобы настичь и покарать. За ними‚ за одинокими‚ могут увязаться проходимцы‚ возомнившие о себе слабоумные‚ которые ищут любое незаплеванное еще знамя – соблазн для ведущих и соблазн для ведомых‚ чтобы повести за собой восторженные толпы. Он был завтрашний старик‚ этот старик‚ и он выскакивал из опоганенного будущего‚ он мстил сегодняшним за завтрашнее‚ искал‚ находил и убивал одиноких знаменосцев. В первую очередь одиноких знаменосцев. Которые опаснее всего!
Брел по травяному склону пиджак-человек с орденскими планками‚ судорожно суетился под подкладкой в поисках самого себя:
– Покатилло не видали? Покатилло не встречали? Шырк! – и в траву. Шмыг! – и в листву. А кто-то‚ может‚ поднял. Кто-то спрятал. В хозяйстве пригодится.
– Покатилло‚ – подпугивали на всякий случай. – Шел бы ты мимо‚ Покатилло‚ глаз не застил.
– Я не Покатилло‚ – с надрывом сказал Покатилло. – Покатилло из штанов выпал. Я теперь Рабинович.
И заплакал. Слезу по щеке размазал. Штаны рванул в отчаянии‚ расширяя дыру:
– Все выпадали. Все сами выскакивали. Один этот держится – не прогнать...
– Как же я выпаду? – сказал Рабинович из прорехи. – Как же я выпаду‚ как? Кто тогда в штанах останется‚ ой‚ не смешите меня‚ кто?
Дрогнула скамейка.
Что-то уселось во мраке‚ на дальнем ее конце‚ через пару метров или пару бульваров. Дышит тяжело‚ с перебоями‚ сопит‚ отдувается тюленем‚ упрямо лезет по скамейке‚ студенисто переливаясь в незаполненной форме. Вот так они подбирались к заповедному его пространству‚ – так‚ только так! – чтобы загадить прелестный уголок на карте‚ много зеленого‚ извилисто-синего‚ брызгами голубого‚ а оно трепетало в ожидании‚ беспомощно распластанное‚ навечно привязанное к бумаге. И не защитишь‚ не спасешь‚ не растопыришь руки‚ уберегая от напасти: у них уже припасены бипланы‚ у них дирижабли‚ у них тракторостроение на подъеме. Где ты теперь‚ замордованное мое пространство? Что они сделали с тобой?..
– Пора‚ – сказал старик и легко подпрыгнул. – Эта ночь последняя.
Они не ответили.
– Выходим из окружения‚ – сказал. – Сегодня или никогда.
На Гоголевском это было‚ на выходе с Гоголевского: первые шаги по кольцу‚ конца у которого нет.
Он шел первым‚ завтрашний старик‚ сторожко и с опаской: сучок не хрустнет‚ камушек не простучит‚ шел – пластался по стволам‚ разведывал дорогу‚ выглядывал приметы‚ наслаждался движением‚ сноровкой‚ риском.
Следом поспешал вчерашний старик‚ мягким‚ округлым колобком‚ чтобы не отстать ненароком‚ не потеряться в потемках‚ и всё улыбался чему-то‚ всё щурился‚ угадывал на слух тайные шелесты невидных знамен.
Подпрыгивал на деревяшке старик сегодняшний с упрямо зажмуренными глазами. Зудела кожа под знаменем-компрессом. Натирал культю протез. Пот не просыхал на лбу.
Время у нас такое. Судьба такая. Эпоха.
Невидимые знаменосцы уныло бредут позади.
И гениальный топтун по кличке Волчара привычно шагнул следом.
ГОГОЛЕВСКИЙ – НИКИТСКИЙ – ТВЕРСКОЙ
1
По Гоголевскому бульвару‚ по верхнему‚ травой поросшему склону‚ потайной партизанской тропой уходили три старика.
Мало кто знает‚ мало кто пробовал‚ мало кому дано пройти до конца‚ но если невмоготу‚ если невтерпеж‚ и кровь густеет от ярости‚ и боль тупая в затылке‚ и сердце прихватило в горсть: иди‚ и ты найдешь‚ иди‚ и ты пройдешь‚ иди – чего встал? – из лабиринта один выход – в другой лабиринт.
Липы затихшие.
Желтизна провисшая.
Лист под ногой шуршащий.
Вкрадчивый холодок с неслышной реки.
На Гоголевском это было‚ на милом‚ теплом от прикосновений Гоголевском‚ а казалось‚ в лихолетье‚ в междуцарствие с двоевластием‚ а похоже в татарчину да в неметчину‚ будто дреговичи‚ кривичи‚ вятичи в брянских лесах‚ в половецкой степи‚ где носится в воздухе вечно дозорное‚ привычно каждодневное‚ от недоверия‚ неприятия‚ пугливой ненависти: "Стой! Кто идет?" И – "Ни с места!" И – "Стрелять буду!" А там шорох наплечного ремня‚ вкрадчивый чмок затвора‚ треск ореха – одиночного выстрела.
На Гоголевском это было‚ в сумерках на Гоголевском: три зыбкие тени.
– Три не три‚ – сообщил Волчара‚ гениальный топтун-самоучка‚ с ленцой поспешая следом‚ – а со мной всегда больше. Вот я вам историю расскажу‚ чтобы путь скоротать. Опыт передать. Квалификацию повысить.
И все приготовились слушать. Любящая жена-домоседка. Старательные детки-отличники. Старики на скамейках.
– Что-нибудь про любовь‚ – попросили кокетливо.
– Можно и про любовь.
И отсморкался‚ как отстрелялся‚ в кусты.
– Вызвали меня по тревоге‚ дали девицу в напарники. Это‚ говорю‚ что еще за фифа за такая? А они: "Это она снаружи фифа. А внутри майор". Я‚ говорю‚ больше люблю наоборот: когда снаружи майор‚ а разденешь ее – фифа. "Чего вы любите‚ – говорит она‚ – то позабудьте. Раздевать будете по команде". И мы пошли на задание.
– Мой Лёлик‚ – доложила жена-домоседка‚ – всех шпионов почти обезвредил. Новых не поспевают завозить.
– Наш папа‚ – доложили детки-отличники‚ – пример для подрастающего поколения. Он нам диверсанта обещал подарить‚ в школьный живой уголок‚ и мы засушим его на память.
Охнули бульвары‚ ахнули и ухнули‚ чмокнули напоследок‚ будто рассолом запили:
– Если враг не сдается‚ его уничтожают. Если сдается, уничтожают‚ но не сразу. Если он не враг, реабилитируют посмертно.
Три старика убегали во мрак: ходко‚ шустро‚ неуклонно.
– Продолжаю‚ – сообщил Волчара‚ переждав восторги. – Взяли мы след‚ повели клиента на поводке. Он впереди‚ мы с фифой следом. Вышел клиент в парк‚ сел на скамейку‚ а там другой сидит – ждет. И разговор пошел из бороды в бороду: "Самиздат – подписант – права человека..." Фифа на это пыхнула‚ дугой выгнулась‚ позицию приняла: стрельба лежа. "Расстегивай!" Я расстегиваю. "Развязывай!" Я развязываю. "Стаскивай!" Я стаскиваю. "Дальше!" – а дальше и нечего: майор в собственном соку. "Поехали! Для отвода глаз". Извините‚ говорю‚ моральный кодекс имею: с чужими ни-ни‚ да и вы‚ вроде‚ девушка. "Я не девушка‚ я майор. Меня можно". Ну‚ поехали – поперек кодекса. Клиенты беседуют‚ я еду‚ фифа на связь выходит. Клиенты спорят‚ я на рысь перехожу‚ фифа в эфир передает: "Сахаров – Солженицын – Чехословакия..." Наговорились‚ замолкли‚ и я следом: лежу – остываю. "Молодец. В самый раз. Благодарю за службу". Рад‚ говорю‚ стараться. Прикажете – сделаем. Тут они опять за свое: "Вызов – виза – отказ – историческая родина..." Фифа пыхнула‚ колесом прогнулась‚ позицию приняла: стрельба с колена. "Поехали!" Не могу‚ говорю. Время требуется. Для перезарядки. "Встать!" – не встаю. "Смирна!" – лежу. Всю конспирацию ей порушил. А наутро меня к начальству: "Выбирай. В отставку или под наркоз". А в отставку мне как? Мне в отставку никак. У меня ремонт на носу‚ покраска с циклевкой. Пошел под наркоз. Просыпаюсь: "Распишись‚ – говорят. – Ты у нас теперь материально ответственное лицо. Цена тебе самому три копейки‚ а штуке твоей тысячи долларов. Электрическая‚ телескопическая‚ с кривошипно-шатунным механизмом. Сколько надо‚ столько и может". И еще сказали: "Имущество казенное. На жену не тратить. Для дела дано‚ не для баловства".
– А как же тогда?.. – спросили потрясенные бульвары.
– А никак же‚ – с гордостью ответила жена-домоседка. – Для дела дано, не для баловства.
Старики ссыпались вниз по склону‚ выскочили на детскую площадку‚ где песочница с качелями‚ вломились в открытую дверцу расписного домика с оконцами.
– Тут‚ – прохрипел в азарте завтрашний старик. – Обождите меня тут! Кто куда‚ а я в разведку.
И прыгнул в кусты головой вперед. И растворился беззвучно‚ не долетев до земли.
Два старика уселись на полу‚ каждый у своего окна. Было‚ вроде бы‚ неплохо‚ уютно и покойно‚ только чуть попахивало из углов детской мочой. И в благостной тишине расслабления‚ на смену толчкам крови и ветру в ушах‚ проклюнулся старческий голосок‚ гнусаво и фальшиво‚ и затянул непозабытый куплет‚ что протер когда-то до дыр дряблую его извилину:
– Споем да мы‚ товарищи‚ да пе-синю...
Набежали стадом туристы‚ встали‚ окружили вожака-тонконожку‚ захлопали ресницами‚ перебирали в нетерпении башмаками-копытцами на бездумную россыпь горошин:
– Внимание! Первый бульвар – Гоголевский. Справа дом‚ где бывал Тургенев. Охраняется государством. Слева особняк‚ где гостил Пушкин. Тоже охраняется. Посредине домик со стариками. Один умер‚ другой не родился‚ третий всегда на месте. Вопросы будут?
– Будут‚ – робко и с придыханием. – Домик охраняется?
– Домик не охраняется. Есть желающие повредить? Разрушить? Расписаться на стенах? Испражниться внутри?
А они тихие. Они пуганые. Они из глубинок провинций. У них одна забота: не потеряться бы.
– Рази можно? Рази положено? Рази-рази?..
И – топ-топ-топ – убежали‚ цепляясь за вожака.
– Когда я был маленьким‚ – сказал неспеша вчерашний старик‚ – мне казалось‚ что Господь охраняет всех: и людей‚ и пространства. Потом я решил‚ что Господь охраняет того‚ кто этого пожелает. А теперь думаю: не подошло ли время охранять Всевышнего?.. Только кому это по силам?
И поскулил по-щенячьи‚ коленками в подбородок‚ заново проживая тот день‚ нарушенное очарование‚ там‚ далеко на востоке. Видит Бог‚ он пытался переломать себя‚ чтобы нанести на карту невидный кружочек на краю заколдованного пространства‚ маленький поселок с омерзительным названием: то ли Асбоцемент‚ то ли Шлакоблок‚ – Бог видит всё! Можно‚ конечно‚ отступиться и на этот раз‚ можно выбрать для увлечения другой‚ незахватанный пока уголок‚ но где взять новую большую любовь‚ что залечит тебе боль утраты? Где ее взять? Подошло время охранять Всевышнего, и он выпустил новую карту‚ без кружочка и без названия. Более того‚ он огородил зачарованное пространство непроходимыми болотами‚ окружил высоченными горами‚ чтобы защитить девственное‚ голубое-сине-зеленое‚ чтобы не было им туда прохода‚ им‚ нарушителям неизменности. Чем черт не шутит! – они могли обойти стороной его край‚ убоявшись непроходимых гор с болотами‚ они могли выбрать другие места для кипучей муравьиной деятельности‚ более доступные и оттого более смертные.
– А за ето... – обрадовался жирненький говорок с дальнего бульвара. – Мы те посмертно реабилитируем‚ будь спок! Мы те восстановим нашу законность‚ мы те изживем злостные нарушения‚ мы те повинимся у могилки. Шоб не умничал!
Его погнали сразу‚ почти мгновенно‚ за ту обманную карту‚ но разве может быть безработным прирожденный картограф? И если он не защитит‚ кто защитит? И если он не озаботится‚ озаботятся другие‚ жадные и настырные‚ с липкими‚ потными ладонями‚ у которых на счету сотни совращенных‚ попользованных‚ брошенных за ненадобностью пространств.
Первым делом он наметил карту бульвара: кусты‚ деревья‚ скамейки со стариками‚ и окружил их горами‚ тундрами и болотами‚ топкими торфяными озерами с меняющейся береговой линией. Он передвигал пустыни‚ городил Эвересты‚ низвергал ледники‚ проваливал океанские впадины‚ будил уснувшие вулканы‚ чтобы огородить и не допустить‚ но бабочки летали‚ презрев его старания‚ голуби бродили беззаботно с места на место‚ гусеницы ползали по деревьям‚ будто торопились перебраться в незащищенное место‚ чтобы там и погибнуть. Каждый вечер он выходил на бульвар с карандашом и планшеткой и бродил до темноты‚ до одури‚ исправляя‚ уставая‚ стервенея от общей текучести. Он бегал по аллеям‚ из конца в конец‚ взбесившийся картограф‚ помечая вечные изменения‚ и кричал на людей‚ кричал на голубей‚ на гусениц кричал и на бабочек‚ что рвались неудержимо к собственной погибели. Только старики не доставляли ему хлопот. Меньше всего хлопот доставляли ему старики. Старики на скамейках. Скамейки без стариков. И Николай Васильевич Гоголь.
Потом он перестал ходить на бульвар. Перестал‚ как отрубил‚ отрезал‚ оторвал с мясом. Ну ее к черту‚ эту непокорную природу‚ что вечно ползает‚ прыгает‚ шевелится‚ к черту ее‚ к черту! Уж лучше он сделает карту своей квартиры и пометит на ней неподвижные шкафы‚ столы с диванами‚ окружит их горами-лесами-топями и станет наслаждаться неизменностью‚ – так оно лучше! Но даже дома не было ему облегчения. Жена и дети вечно передвигались с места на место‚ и даже за столом‚ во время обеда‚ солонка – подлая! – ползала то и дело по клеенке‚ выскакивая ненароком из защищенного пространства‚ и ножи‚ и тарелки‚ и хлебница‚ а куски хлеба‚ только что помеченные на карте‚ вдруг исчезали навсегда‚ и надо было вечно исправлять с каждой ложкой супа‚ с каждым куском мяса‚ с каждой картофелиной‚ что пропадала во рту. Не будешь же‚ на самом-то деле‚ городить персональные горы вокруг какой-то солонки!
Порой он прокрадывался к прежней своей работе‚ бродил неподалеку‚ прячась от сослуживцев‚ а там‚ за стеклами‚ шуршали бумагами старательные картографы‚ слуги дьявола‚ изменяя Богом данные пространства‚ калеча их и переделывая под чьи-то убогие представления. Оттуда‚ из-за стекол‚ доносилось неумолчное шуршание‚ скрип стульев‚ хруст плотной бумаги‚ неслышные призывы о помощи. И тогда он пролез через оконце на первом этаже – ночью‚ крадучись – и пошел по комнатам‚ от стола к столу‚ в поисках своего пространства. Оно лежало на огромном стеллаже‚ бесстыже оголенное‚ как у хирурга под наркозом‚ а рядом валялась пачка новых промеров‚ которые следовало нанести на карту. Он зажег фонарик и вгляделся внимательно‚ и застонал натужно‚ из глубины. Не было там гор‚ не было болот-охранителей‚ что он заботливо когда-то пририсовал‚ но заштрихованным лишаем расползлось нечто безобразное, то ли Асбоцемент‚ то ли Шлакоблок‚ и красная царапина‚ как от проступившей крови‚ тянулась к нему‚ будто подпитывала его‚ этот лишай‚ чтобы рос он стремительно‚ чтобы рос. А лишай уже выбросил из себя тоненькие усики-дороги‚ на концах которых сидели – мушиными следами – точечные зародыши будущих новых лишаев.
Он долго сидел там‚ оплакивая свою погибшую любовь‚ зачарованный край‚ который захватали потные ладони‚ а потом встал‚ прошел по комнате‚ собрал пачки новых промеров‚ сложил на стеллаже‚ поджег спичкой. Горела бумага‚ корчилось в огне пространство‚ исчезал проклятый лишай‚ но заодно с ним пересыхали в огне реки‚ выжигались леса‚ взамен голубого-сине-зеленого проступало черное‚ ломкое‚ обугленное. А огонь уже перепорхнул на другие столы‚ на другие пространства‚ и тогда он понял‚ что не спасти. Понял‚ что не спастись. И шагнул с пола на стул. Со стула на подоконник. С подоконника шагнул на асфальт.
До сих пор она висит у него над кроватью‚ та обманная карта‚ единственный уцелевший экземпляр: много зеленого‚ извилисто-синего‚ брызгами голубого‚ и чтобы до нее добраться‚ надо перелезть сначала через него. Сначала – через него!
2
Опал ветерок‚ как захлопнули форточку.
Обвисли враз беспокойные листья.
Проворковал‚ укладываясь на ночь‚ голубь-дурак.
Но слева‚ из-за бульварного поворота, слабенький лучик света‚ прыгающий по листве снопик‚ блеклое‚ размытое пятнышко скисших от старости батареек.
Это надвигался Фишкин‚ мудрый еврей Фишкин‚ маленький и нелепый‚ убогий и самоуверенный‚ старый‚ смешной‚ коротконогий бородач с идеями: неуместная пародия на графа Льва Николаевича Толстого. Белый парусиновый картуз‚ сандалии с цветными носочками‚ серая толстовка до колен с узеньким кавказским ремешком‚ трубочки клетчатых штанишек‚ битком набитый‚ обтрескавшийся портфель‚ да борода до пояса‚ спутанная‚ свалявшаяся‚ будто нечесанная годами. Борода‚ густо удобренная пищей‚ перхотью‚ пылью веков и изгнаний‚ проросшая‚ пропахшая‚ хорошо прогнившая, чернозем с компостом‚ в которой давно уже зародилась и развивается иная жизнь‚ иная цивилизация. Кто знает‚ может‚ из этой бороды и вылетают порой летающие тарелочки? Может‚ жители этой бороды давно уже ищут и не находят пока контактов с землянами‚ – кто это знает? Фишкин‚ один только Фишкин‚ который знает всё.
Вылупилось из темноты клен-дерево‚ слипшееся – не разнять – тело‚ привалившееся к стволу‚ и мычание тихое обкусанных губ‚ и подрагивание слабое напряженных членов‚ разгул рук‚ слабость ног‚ треск ненужной‚ распираемой желаниями одежды‚ и черная‚ вздутая кислородная подушка в бессильно обвисшей девичьей руке.
– Это бы я украл‚ – с завистью сказал Фишкин‚ фонарем высвечивая подробности. – И это бы я у вас украл. И то... Ах‚ как бы я всё это украл!
Подушка шлепнулась грузно на землю‚ тяжелой жабой подпрыгнула пару раз‚ чмокая и содрогаясь от вожделения‚ и утихла обессиленная‚ нагая‚ бесстыжая‚ подергивая в изнеможении опадающим пластмассовым наконечником.
– Не так‚ – сказал Фишкин подушке. – Это делается не так.
Ай‚ Фишкин! Ловкий еврей Фишкин! Оборотистый и дальновидный! Который может всё‚ знает всех‚ для которого нет и не будет невозможных дел. Его видели по вечерам на разных бульварах‚ в одно и то же время‚ отдаленного от самого себя неодолимыми километрами‚ – Фишкин тут‚ Фишкин там‚ – словно он раздваивался в вечной погоне за невозможным. Подходил одновременно к разным людям‚ тыкал в лицо фонариком‚ говорил запальчиво: "Что тебе надо? Говори‚ я достану". И бодал головой воздух. Ай‚ Фишкин‚ чудо-Фишкин! Который спал урывками‚ вполглаза‚ подрыгивая в нетерпении ногой‚ перекручивая в жгуты крахмальные простыни‚ вскакивая по ночам с кровати и босиком шлепая на кухню для внезапной ревизии продуктов и вареной пищи. У него было полно детей: переспелые дуры-дочери‚ что беременели от пристального мужского взгляда. У него было еще больше внуков‚ что подчистую подъедали содержимое холодильника‚ стоило только отвернуться: даже хрен с горчицей‚ даже кубики льда. У него крепко держался с войн-революций‚ с разрух-голодух страх‚ пунктик‚ заноза в мозгу: могут воротиться тяжелые времена. Могут‚ почему же не могут? Просто обязаны. И он скупал крупу. Тушенку. Селедку в банках. Рыбные консервы в томате. Сухое печенье. Жена гнала его из дома‚ жена до судорог опасалась мышей с тараканами‚ и он таскал продукты в портфеле‚ обильно посыпая дорогу гречневой крупой‚ распихивая пакеты по знакомым и родственникам. "Пусть полежит‚ – говорил беззаботно. – До завтра." Лежало потом годами. До плесени. До трухи. До вздутия банок. А через годы‚ глядишь‚ прибежит снова‚ пихнет очередной кулек‚ спросит впопыхах: "Что тебе надо? Я достану". И нетерпеливо переступит ногами-коротышками.
– Вы кто? – спросил вчерашний старик и пощурился от слабого света. – Кто вы?
Спросил сразу‚ потому что ждал. Ждал и надеялся. Надеялся и верил. Вот пройдет стороной одинокий знаменосец‚ старый и наивный до дурости...
– Я тот‚ – сказал Фишкин‚ – который отвечает на незаданные вопросы.
За его спиной объявился Тихий А.И.‚ следователь по особо нужным делам‚ забурлил восторженно: "Боже мой! Сколько простора для фантазии! Сколько возможностей для ареста!" – и растворился без остатка. За его спиной объявился Волчара‚ гениальный топтун-одиночка‚ и закрепился устойчиво‚ на все времена.
– Ах! – закричали‚ как закаркали‚ с дальних бульваров. – Ах‚ незаданные вопросы‚ ах! Берете заказы? Отвечайте немедленно! Да – нет? Нет – да?
– А кто их не берет?
– Сроки. Назовите сроки!
– Если надо сразу‚ будет сразу.
– Сразу! – всколыхнулся вчерашний старик. – Мне надо сразу. Меня интересует...
– Вас интересует‚ – перебил Фишкин и зевнул судорожно‚ – что о вас думают.
– Как вы догадались?
– Это всех интересует.
– И что?
– И ничего. О вас ничего не думают. Ничего и надолго.
И капризно взбрыкнул ногами-коротышками.
– От за ето... – жирненький говорок захлебнулся в едкой сладости. – От за ето самое мы те вздрючим-пропесочим‚ от так и знай!
Фишкин тут же возник возле него‚ через три бульвара с четвертым‚ осветил фонариком жирные‚ угреватые щеки‚ нос разваренной бульбой‚ мелкие‚ гноем залипшие глазки.
– Фи‚ – сказал‚ – это плохое лицо. Это такое лицо – хуже не придумаешь. Хотите‚ я вам достану другое‚ на ваш выбор? Что-нибудь особенное! Любое лицо в оригинальной упаковке.
– Ой‚ – просветился тот‚ – вы мене балуете. Ай‚ вы вселяете в мене несбыточные надежды...
Ах‚ Фишкин! Вечный еврей Фишкин! Клеймом помеченный иудей! Которому не замаскироваться. Не укрыться. Не отвертеться от будущих Освенцимов. Его определяют издалека по силуету. Его отличают в толпе по говору. Его вычисляют со спины по бурной жестикуляции. В любой среде он немедленно выпадает в осадок: подходи и бей. Он это понял с рождения и запасает продукты для неизбежного подполья. Он это угадал с детских лет и отрастил бороду‚ в которой по надобности можно укрыться и пересидеть смутное время. Он это унюхал наследственным своим чутьем‚ битыми в веках генами‚ и потому высматривает с фонариком первые намеки на лицах‚ чтобы улизнуть вовремя‚ с детьми-внуками. Он это ощущает прежде других‚ как змеи ощущают приближающееся землетрясение‚ и потому работает не где-нибудь – в сумасшедшем доме‚ не с кем-нибудь – с тихими дебилами‚ которые живут в ином мире‚ с иными фантазиями‚ где нет понятия еврей – не еврей‚ а если и убъют ненароком, по неясной‚ ими неосознанной причине. Каждый день‚ с утра‚ получив порцию успокоительных уколов‚ дебилы клеят из картона – молча‚ вдумчиво‚ бессмысленно – разную упаковку к неизвестным товарам‚ и Фишкин достает им заказы‚ Фишкин сбывает готовую продукцию‚ без Фишкина простаивало бы хорошо отлаженное сумасшедшее производство. Порой один из дебилов впадает в тихое неповиновение и начинает клеить неизвестно что. Иногда это делают все сразу. Изогнутые треугольники из картона. Тощие кишки с раструбами. Закрученные гармошки без днищ. Конусы до потолка. Улиточные лабиринты. Замысловатые ячейки под неопознанные предметы. Всё то‚ что может изобрести их сумеречная фантазия. Нет на свете продукции под эти упаковки‚ не научились пока что делать‚ но Фишкин им не мешает‚ Фишкин обеспечивает картоном в неограниченном количестве‚ и только прячет на складе немыслимую тару‚ ждет терпеливо‚ годами‚ когда же‚ наконец‚ человечество сойдет с ума и научится делать товары невообразимой формы под готовую уже упаковку. А пока что можно упаковать в них? Мечты. Надежды. Смутные видения дебилов. Но зато у каждого дебила есть родственники‚ зато у каждого почти нормального есть кто-нибудь в сумасшедшем доме‚ и с Фишкиным не ссоряться‚ Фишкину помогают чем могут‚ радостно идут навстречу. Для кого нет‚ для кого не завезли еще‚ для кого и не будет‚ а Фишкину всегда-пожалуйста‚ Фишкину – дефицит из-под прилавка. И еще одно‚ немаловажное. Конечно‚ с кольями уже не пойдут никогда‚ выискивая налитыми кровью глазами горестные иудейские профили‚ но когда пойдут все-таки с кольями‚ с батогами‚ с разводными гаечными ключами‚ это ему поможет‚ это его спасет. В любой толпе всегда найдутся родственники его дебилов. В любой‚ пьяной убийствами толпе всегда найдутся дебилы‚ чьи родственники мирно клеят коробки в сумасшедшем доме. И это ему зачтется.
– О вас ничего не думают‚ – повторил Фишкин‚ – окончательно и навсегда.
И зашевелил от нетерпения ногами.
А умрет он в метро‚ на кольцевой линии‚ по дороге из сумасшедшего дома‚ на перегоне Белорусская-Краснопресненская‚ держа на коленях туго набитый‚ потрескавшийся портфель с консервированным зеленым горошком‚ и все подумают‚ что он просто спит. Он будет кататься по кольцу часами‚ крохотный‚ опавший‚ голова ниже окна‚ пока его не хватятся под утро уборщики вагонов. Даже мертвый – он прихватит еще немножко от движения. Даже мертвый.
– Вы ошибаетесь! – закричали с бульваров с явным облегчением. – Мы аннулируем заказы. Мы все. Все мы!.. А кто нам не желает‚ пусть у самого не будет!
– Понятно‚ – сказал Фишкин. – Тогда так: пойдете налево и два раза прямо. Там скамейка‚ на ней рыжий идиот в кепке. Спросите у него.
– Он берет заказы?
– Он берет деньги. Останетесь довольны.
– И ему можно верить?
– Верить? Кому теперь можно верить? Вам нужно‚ чтобы вас поцеловали в душу? Вас поцелуют. Но это будет недешево стоить.
И пошел прочь. И заплясало пятнышко по листве‚ по дорожке‚ по лицам. Посыпалась крупа из дырявого‚ битком набитого портфеля. А следом за Фишкиным заскакала черная птица‚ вечный его попутчик‚ одноногая‚ плешивая‚ горбатая‚ склевывая на ходу зернышки‚ скрывая путь Фишкина на земле.
Если вам нужен Фишкин‚ так он для вас уже умер. Если вам нужны его внуки‚ так вы для них умерли.
Не ищите Фишкина. Он не оставляет следов.
Не зовите Фишкина. Он сам вас найдет.
– Обижаешь‚ – запоздало сказал с Петровского рыжий идиот и запихнул под кепку хрустящую ассигнацию. – Заслоняешь-подменяешь. Кто ни спрашивал – одни спасибы. Кому ни советовал – одни пожалуйсты.
А на кепке выпуклость‚ будто голова с водянкой. А под кепкой деньги‚ многие сотни. А от скамейки очередь хвостом во мрак. Всякому хоцца‚ чтобы его поцеловали в душу. Никому, чтобы плюнули.
– Вуй-вуй-вуй... – запричитал-застонал-зажалился немощный голосишко с Яузского: бороденка худородная‚ слабенький пушок на комковатой лысине‚ круглые очки на тесемочке. – Температура – вуй-вуй... В окно гляну – тридцать семь и семь. Радио услышу – тридцать восемь и пять. Газету возьму – тридцать девять и восемь. Телевизор включу – кровь из носа‚ гной из ушей‚ ртуть из термометра. Как жить? Как жииииить?!.
И передернулся от невозможного зуда по коже.
3
...в сумерки‚ в невозможно усталые‚ неизбежностью налитые последние летние сумерки из окон игрушечного домика глядели два старика.
На Гоголевском это было‚ всё еще на Гоголевском: отныне и навсегда!
Тишина по бульварам.
Унылое беспокойство.
Привкус меди во рту.
Ломота суставов и кислая отрыжка.
Натужный ток крови по износившимся сосудам.
– Мне многого не надо‚ – шептал-заклинал вчерашний старик‚ высматривая из оконца одинокого знаменосца‚ терпеливо и с надеждой‚ с вечной готовностью к бурному удивлению. – Мне только проблески‚ в темноте‚ кой-когда. Вспыхнул и нет его.
– Ишь‚ чего захотел‚ – изумлялся сегодняшний‚ как на малого ребенка. – Проблески ему подавай! Да где их взять‚ эти проблески?
– Один! – он уже унижался. – Один за жизнь. Я оптимист‚ мне хватит.
– Ну‚ один, еще куда ни шло.
– И всё?
– И всё. И отойдите. Кончились ваши проблески.
А знамя сдавило грудь усыхающим корсетом. Знамя промяло ребра – не вздохнуть. Знамя мстило жестоко одинокому знаменосцу за умышленное свое заточение. Потому что знаменам нужен воздух. И ветер. Солнце и дождь. Свист пуль и крики "Ура". Запах пороха и вопли недобитых раненых. Иначе это не знамена. Нет-нет‚ иначе это обычные тряпки‚ что годятся‚ разве что‚ на портянки‚ не больше.
Но голос издалека‚ будто через мегафон‚ всякое слово гвоздем в череп:
– Чепуха! Шелуха с чешуей! Кому кончились‚ а кому и навалом. Я в обозе грузовик проблесков возил: резерв главного командования.
– Зачем? – спросили с опаской. – Это зачем?
– А для ранжира. Для наград-наказаний. Два проблеска – лейтенант. Четыре – капитан. Девять – автоматная очередь. Кому в лоб‚ кому на погон.
Пауза как спазм сосуда.
Всплыл над домиком остроперистый‚ златобокий‚ розовозакатный Тихий А.И.‚ следователь по особо нужным делам‚ громыхнул поверху‚ как камушек скатил по крыше‚ спрыснул на лица мелкую морось:
– Ах‚ домик! Ох‚ расписной! Одиночка на двоих. Показательный карцер в цветочек. Вот только решеточки на окна‚ позвольте навесить решеточки!
– Мы против‚ – сказали старики. – Нам воздуху мало.
– Ой‚ – огорчился‚ – какие же вы отсталые! Обычай такой. Примета. Народное поверье. Что ни окно‚ то решеточка.
Взвыло‚ заверещало‚ заулюлюкало‚ рухнуло сверху‚ с треском проломив крышу‚ обрушило расписные стеночки нечто темное‚ жаркое‚ колючее и мохнатое‚ что накрыло с головой‚ сграбастало‚ распластало на полу под обломками. Даже Тихий А.И.‚ остроперистый и златобокий‚ обильно омочил землю‚ с перепуга позабыв про должность свою и свое полковничье звание.







