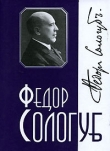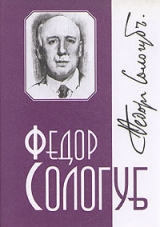
Текст книги "Том 3. Слаще яда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Зыбкое опять перед Наташею стелется море застывших от жары колосьев и синеньких, миленьких цветочков, застенчиво склонивших перед беспощадным Драконом свои сладко-затуманенные знойными грезами головки.
Наташа и её брат Борис идут вдвоем. Межа тесна. Это их радует почему-то. Не потому ли, что межу обступили золотые волны ржи?
Такая высокая рожь! Из-за её колосьев едва виднеется вправо зеленая кровля старого дома и полукруглое окно в мезонине, и слева маленькие деревенские избы, серенькие, мохнатые.
Наташа и Борис идут друг за другом. Колышутся вокруг них шуршащие сухо стебли ржи, колышутся васильки синеглазые. Колышутся во ржи два тоненьких, хрупких силуэта.
Наташа идет впереди. Борис отстал. Наташа оглядывается.
Мальчик, смуглый, тоненький, с горящими кругами глаз, в полотняной курточке, рвет синие цветочки. И уже большой сноп их едва держится в его руках.
XXXVIII
Наташа смеется и говорит брату:
– Довольно, милый, довольно. Я их не смогу и в руках держать.
Весело отвечает Борис:
– Удержишь, ничего!
Наташа протягивает свою загорелую руку, и берет от него цветы. Она тоненькая, и сноп синеньких васильков раскинулся на её груди, совсем закрыл ее, – такая тоненькая с этим громадным снопом в руках!
Весело спрашивает Борис:
– Ну, что, тяжело?
Наташа смеется. Лицо её светится благодарною радостью и веселою, детскою решительностью. Говорит:
– Уж донесу эти-то, но и довольно.
Борис говорит упрямо:
– Я хочу нарвать тебе как можно больше. Ведь мы может быть, не скоро увидимся.
Голос его при этих словах печально вздрагивает. Наташа говорит задумчиво:
– Может быть, никогда.
Их лица становятся печальны и озабочены.
Борис, хмурясь, смотрит в сторону, и спрашивает:
– Наташа, ты с ним едешь?
Наташа знает, что Борис спрашивает ее о Михаиле Львовиче, – о том человеке, который теперь посылает её на опасное дело, который потом пошлет и Бориса на безумно дерзкий подвиг… Что-ж! Безумство храбрых!
И Наташа отвечает:
– Нет, одна. Он только потом проводит меня до места.
Борис смотрит на Наташу грустными, завидующими глазами, и осторожно спрашивает:
– Страшно, Наташа?
Наташа улыбается. Такая гордость в её улыбке! Говорит спокойно:
– Нет, Борис. Радостно.
Борис видит, что лицо её радостно, и глаза, черные пламенные, веселы. Он смотрит на нее, и её спокойствие сообщается и ему, – спокойная уверенность в себе и в деле.
Безумство храбрых!
Дети идут дальше. Борис опять рвет васильки. Наташа мечтает о чем-то, – сорвала колосок, задумчиво жует зернышко.
XXXIX
Длится жаркий, знойный день. Неумолимый равнодушно глядит на детей Дракон. Он мечет без устали свои острые, багровые стрелы на смуглолицего отрока с пламенными кругами глаз, и на девушку, стройную, тоненькую, черноглазую. Жгучие стрелы его метки и злы, и свет его беспощадно ровен, – но она идет, и в глазах её надежда, и в глазах её решительность, и в черных глазах её горит огонь, на котором пламенеет душа к подвигу свыше сил человека.
Наташа вдруг останавливается в конце межи у пыльной дороги. С нежным любованием смотрит на Бориса. Словно хочет она запомнить покрепче все эти милые черты родного смуглого лица, – излом густых бровей, упрямую сжатость румяных губ, твердый очерк подбородка, строгий профиль.
Вздыхает Наташа легонько. И говорит Борису нежно и весело:
– Довольно, милый. А то меня с таким ворохом, пожалуй, и в вагон не впустят. Скажут, сдавайте в багаж.
Смеются оба беззаботно. А Борис все-таки не может оторваться от васильков.
Говорит:
– Еще, еще только немножко. Я хочу, чтобы у тебя букет был гигантский.
Шутит Наташа:
– Тебе бы все гигантское!
Но уже не смеется. Знает, как это в нем глубоко и значительно.
Борис смотрит на нее, и отвечает, повторяя любимую, задушевную свою мысль:
– Да, это правда, я люблю все такое огромное, чрезмерное. Во всем, во всем! Если бы мы всегда поступали так! Так отдавались бы всецело! О, как иначе сложилась бы тогда вся жизнь!
Наташа задумчиво повторяет:
– Чрезмерно, свыше сил человека, расточать, расточать жизнь. Только бы не скупость, только бы не дрожать над своим, – лучше умереть, всю жизнь собрать в один узелок, и бросить!
– Да, да! – говорит Борис, и глаза его, черные, как ночь, пылают далекою грозою. – Не жалеть жизней, расточать их, расточать без конца, только так можно достигнуть высокой нашей цели!
Перешли через дорогу, опять идут тихо по узкой меже, и одежды их белы среди золотых волн. Наташа протягивает тонкую руку, – шуршат сухо колосья, и тяжелые в загорелую руку падают зерна спелой ржи.
Реют над детьми багровые стрелы неумолимого Дракона.
Дети идут, обреченные оба. Доверчиво идут, и не знают они, что посылающий их – предатель, и что цена их крови ничтожна.
XL
Что же это шуршит вокруг так хрупко? Сегодняшняя рожь. А где же васильки и Борис? Васильки во ржи, синеокие, а Борис повешен.
– А я? – в странном, тяжелом недоумении спрашивает сама себя Наташа.
Озирается кругом, как разбуженная.
– Как же я?
Сама себе отвечает:
– А я уцелела. Меня счастливый случай спас.
Так тяжело Наташе думать об этом. Как можно пережить!
– Лучше бы я погибла!
Так просто это вышло. Наташу поставили третьим номером, у самого вокзала, на случай неудачи первого и второго. Но справился первый, хотя и сам погиб от взрыва.
Второй, услышавши невдалеке от себя взрыв, совсем растерялся. Бросился спасаться. Сел на извозчика. Доехал до реки. Нанял лодку. На середине реки – бросил бомбу в реку. Лодочник догадался, что дело неладно. Да и увидали с казенного парохода и с берега. «Второго» взяли, судили и повесили.
Наташа ничем не выдала себя. Ушла спокойно, – не торопясь, – со своею опасною ношею, никем не замеченная. Вмешалась в общий поток прохожих, озабоченных каждый своим делом. Сдала бомбу, куда было назначено.
Через несколько дней она уехала домой. За нею не следили.
Наташа ждала другого поручения.
И вдруг как-то отошла от этого дела, потому что погибла вера в него.
Это случилось еще до того, как Борю повесили. Разрешилось окончательно в те кошмарные дни, когда неожиданно и быстро была оборвана его жизнь.
Ужасные дни.
Но нет, не надо о них думать, не надо их вспоминать. Вспоминая, казнишь себя.
Лучше будить память о другом, безоблачном, прошлом.
XLI
Волшебное зеркало памяти, в тебе отражено так много! Мелькают милые картины.
Цветы, за которыми они сами ухаживали. Грядка, над которою возились так любовно. Свежий, томный, вечерний дух левкоя. Влажный по заре от росы куст жасмина, от которого пахнет так сладко, – так нежно, что хочется плакать, как плачет росою трава по заре золотой!
Площадка в саду. Столб, гигантские шаги. Как быстро, как высоко взлетали они с Борисом!
Милые детскому сердцу праздники. Сочельник, – елка со свечами на зеленых веточках, с разноцветным блеском золотых орехов, красных, зеленых, голубых подвесок, фольги, белого ватного снега; подарки, всегда неожиданно-радостные. Днем, – снег настоящий, хрупкий, блестящий, как соль; мороз щиплет щеки, солнце красно, рукавички пушисты, шапочки белы и мягки, салазки мчатся с горки, – ух!
А вот наступает Пасха. Торжественная ночь. Заутреня. Радостное пение. Огоньки свеч, огоньки без конца. Пахнет куличами. Разноцветно-расписанные яички. Поцелуи со всеми. Все рады.
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
А дорогие сердцу покойники мертвы.
Нет. Милые, наивные воспоминания не перебьют рокового круга, воскрешения тех же смутных, отрывочных, страшных воспоминаний. Неудержимо влечется мечта к страшным, последним минутам.
XLII
Жили в столице зимою. Борис учился в последнем классе гимназии. На святках уехал в другой город. Сказал, к родственникам.
Наташа догадалась было. Но он не сказал правды.
– Право ничего, – отвечал он на все расспросы. – Никто меня не посылает. Сам еду. К тете Любе…
Да Наташа и не настаивала.
И вот несколько дней не было от него писем. Но дома не беспокоились. Борис не любил писать. Думали, что веселится и некогда.
Был вечер в начале января. Мать и бабушка были в гостях, Наташа осталась дома. Сказала, голова болит.
– Полежу на диване. Пройдет.
А настоящая была причина, – не хотелось ехать в этот скучный дом к чопорным светским родственникам.
Прислуга тоже отпросилась в гости. Наташа осталась в квартире одна. Легла у себя на диване. Взяла новую, интересную книжку. Читает.
После нескольких дней праздничного веселья и всякой иной суеты Наташа чувствует себя славно. Уютно, спокойно, легко. Занавески на окнах непроницаемо-плотны. Лампа горит весело и ровно, под бисерною бахромою абажура скрывая от глаз ярко-раскаленные, молочно-белые перегибы своих тонких в стеклянной груше ниточек. Вся небольшая комната тонет в светлой зелено-розовой тени.
Страница за страницею, – ровные строки, ровная речь, – утомляют, наконец, Наташино внимание. Наташа дремлет. И засыпает. Раскрытая книга с мягким шумом падает на ковер, и в неровной измятости страниц забывает, где была раскрыта.
XLIII
Вдруг звонок. Наташа встрепенулась.
Наши? Нет. Звонок прозвенел так неуверенно, так робко. Казалось, что это во сне услышала звонок, не наяву, или кто-то маленький и проказливый шалит несмелою рукою.
Или послышалось?
Так дремлется. Лень встать. Пусть звонят.
Но вот и второй звонок, настойчивее, громче.
Наташа вскакивает и бежит в переднюю, оправляя на бегу смявшуюся на валике дивана прическу.
Двери не открывает, вспомнив, что она в квартире одна, и спрашивает:
– Кто там?
Из-за двери слышится негромкий, сиплый голос, словно простуженный, – почтальонский голос:
– Телеграмма.
Забилось сердце боязливо. Так страшно всегда получать телеграммы. Не торопятся только хорошие вести, – злые спешат.
Наташа вложила в узкое железное ложе плоский конец дверной цепочки. Приоткрыла дверь, смотрит. Посыльный с телеграфа, – башлык, бляха на фуражке, заледенелые, обвислые усы, высокий, сутулый, тощий. Сует телеграмму. Просит:
– Расписочку, барышня.
В Наташиной руке дрожит крохотный сверточек серовато-белой бумаги. Наташино сердце вдруг упало, захолонуло. Наташа говорит бессвязно:
– Что там? Боже мой! Расписку?
Бежит к столу. Руки дрожат. Едва вывела фамилию «Озорева» на серой бумаге, по которой скребет и царапает перо.
– Возьмите, вот расписка.
Сунула через цепочку в руки посыльного расписку и на чай. Захлопнула за ним дверь. Бежит к лампе. Что такое?
Разорвала с боку ленточку, читает. Страшные слова. Такие простые, и такие непонятные. Потому что о Борисе.
«Борис стрелял. Арестован вместе с товарищами. Завтра военный суд. Грозит смертная казнь».
XLIV
Наташа перечитывает телеграмму. Быстрый ужас, странно похожий на стыд, мгновенно сжимает её сердце. Она слышит тяжелое стучание крови в своих висках. Точно давит что-то со всех сторон, и тяжело дышать, и словно железные воздвиглись отовсюду вокруг неё стены, и все сдвигаются, – торопливые, бледные, карандашом брошенные на серую бумагу строчки.
Вот медленно, одна за другою, втесняются в Наташино тусклое сознание мысли, тяжелые, злые, беспощадные.
Тупо думает Наташа о том, как сказать об этом маме. Замечает, что дрожат руки. Вспоминает номер телефона Лареевых, где теперь должна быть мама.
Вдруг снова ужас, как лихорадочный озноб, потрясает ее всю с ног до головы. В голове яркая сумятица мыслей.
Нет, это ошибка! Этого не может быть! Безумная, жестокая ошибка! Чья-то бессмысленная, грубая шутка.
Борис, наш милый мальчик, с такими правдивыми глазами, – его повесят! Он захрипит, задыхаясь, качаясь в петле. Тугою острою болью сожмется детская нежная шея, побагровеет смуглое лицо, и, весь в пене, изо рта выползет распухший язык, и широко раскрытые глаза отразят ужас жестокого умирания.
Нет, нет, этого не может быть! Это ошибка! Но кто же так злобно ошибается?
И где же Борис?
Холодное сознание говорит, что это так, что нет никакой ошибки. Слова ясны, адрес верен, – да, да! Ведь этого и надо было ждать. Вот, это же и есть то расточение жизни, о котором он мечтал, – о котором мечтали они оба.
– Люблю все безмерное. Расточать жизнь, – только так достигнем высокой нашей цели.
Ноги дрожат. Все тело точно опустелое. Наташа садится на диван.
Господи, что же это? Как же сказать об этом ужасе маме?
Или скрыть? Самой сделать, что можно? Да нет, что она может сделать одна!
Надо сказать. Скорее, скорее, и нельзя медлить ни минуты. Может быть, еще можно спасти Бориса, ехать, просить.
Что же она сидит! Надо действовать, скорее.
XLV
Наташа бросилась к телефону. Как долго не отвечает станция!
Наконец соединили. Слышна музыка, шум голосов. Веселый знакомый голос спрашивает:
– Кто у телефона?
– Это я, Наташа Озорева.
– А, здравствуй, Наташа, – болтает звонко Маруся Лареева. – Как жаль, что ты не пришла. У нас превесело.
– Здравствуй, милая Маруся. Мама у вас?
– Да, да, у нас. Позвать ее?
– Нет, нет, ради Бога. Скажите ей кто-нибудь, осторожнее…
– Что-нибудь случилось?
– Маруся, у нас страшное несчастье. Нашего Бориса арестовали.
– Боже мой! Да за что же?
– Не знаю. Военный суд. Я в отчаянии. Такой ужас! Ради Бога, не испугайте сразу маму. Пусть она едет домой, скорее, пожалуйста.
– Ах, Боже мой, какое горе!
– Маруся, милая, ради Бога, скорее.
– Сейчас, я скажу своей маме. Подожди, Наташа, не отходи от телефона.
Стоит Наташа с телефонною трубкою, прижатою к уху, ждет. Слышит шум шагов. Кто-то запел.
Опять тот же голос, взволнованный очень:
– Наташа, ты слушаешь? Твоя мама сама хочет с тобою говорить.
Наташа дрожит от страха. Мама, Боже мой!
Переспрашивает:
– Что? Сама хочет говорить?
– Да, да. Я передаю трубку твоей маме.
XLVI
Слышен голос Софьи Александровны, весь разорванный страшным беспокойством:
– Наташа, это ты? Ради Бога, что случилось?
Наташа отвечает:
– Да, мама, это я. Пришла телеграмма. Мама, ты не бойся, это, должно быть, какое-то недоразумение.
Слышен упавший голос:
– Прочти мне сейчас телеграмму.
– Сейчас принесу, – говорит Наташа.
Принесла телеграмму, прочла.
– Что? Военный суд?
– Да, военный.
– Завтра?
– Да, да, завтра.
– Казнят его?
– Мама, ради Бога, не волнуйся. Может быть, можно что сделать.
– Мы туда едем. Наташа, собирайся. Сейчас мы с мамою вернемся домой, и выедем с первым поездом.
Отбой.
Наташа одна. Мечется по пустой квартире. Собирает что-то, роняя вещи в чуткой тишине. Возится с чемоданами, с подушками.
Да, надо посмотреть, когда поезд. Половина первого. Ну, еще успеем на ночной.
Звонок, испугавший еще больше того, первого. Это приехали мама и бабушка, обезумевшая от бледного ужаса.
XLVII
Бессонная, томительная ночь в вагоне. Стук колес, – скрежещущий, мерный. Остановки. Так все медленно! Такая тоска! О, скорее, скорее!
Или желать лучше, чтобы застыло время? чтобы окоченели его распростертые над миром мохнатые крылья? Чтобы немигающим навеки остановился его совиный взор на том мгновении, когда еще не сказано страшного слова?
Приехали, наконец, днем. На вокзале, унылом и грязном их встретил Наташин двоюродный брат, молодой присяжный поверенный. По его бледному, растерянному лицу поняли, догадались, что все кончено.
Говорит много, но бессвязно. Утешает надеждами, в которые сам не верит.
Суд уже был, рано утром. Борис и оба его товарища, – все такая же зеленая молодежь, – приговорены к смертной казни через повешение. Кассационная жалоба не будет допущена. Вся надежда на местного генерала. Он, в сущности, не злой человек. Может быть, удастся вымолить у него облегчение участи, – каторгу без срока.
Бедные матери, о чем они молят!
XLVIII
Поехали к генералу Софья Александровна и Наташа. Долго ждали в пустынном, тихом зале, где блестел лощеный паркет, висели портреты в золотых рамах, и гулки были осторожные шаги мужчин в мундирах, выходивших время от времени из огромной белой двери.
Наконец приняли. Генерал любезно выслушал, и решительно отказал. Встал, звякая шпорами, вытянулся во весь рост, – стройный, высокий, с грудью, увешанною орденами, с седыми волосами, красным лицом, черными бровями и широким носом.
Напрасны унизительные мольбы.
Мама, бледная, гордая мама стояла на коленях перед генералом, целовала, плача горько, его руки, в ногах валялась, – напрасно.
Холодный ответ:
– Простите, сударыня, не нахожу возможным. Понимаю вашу скорбь, вполне сочувствую вашему горю, но что ж я могу? Кто же в этом виноват? На мне лежит тяжелая ответственность перед Престолом и отечеством. Долг службы – ничего не могу. Пеняйте сами на себя – вырастили.
Что же слезы бедной матери! Бейся на холодном паркете головою о черный блеск его сапог, или уйди гордо и молча, – все равно, он ничего не может. Твои слезы и мольбы его не тронут, твои проклятия его не оскорбят. Он – добрый человек, он – любящий отец семейства, но его прямая солдатская душа не трепещет перед словом смерть. На войне он дерзко бросал свою жизнь навстречу смертным опасностям, – что же ему смерть крамольника?
– Но ведь он совсем мальчик!
– Нет, сударыня, это не детская шалость. Простите. Уходите.
Мирно звякают шпоры. Паркет смутно отражает высокую, стройную фигуру.
– Генерал, сжальтесь!
Холодная, белая дверь захлопнулась. Тихий, любезный говор молодого офицера. Поднимает, и помогает уйти.
XLIX
Дали свидание. Несколько минут промчались в сумятице вопросов, ответов, объятий, слез. Борис почти ничего не говорил.
– Ты, мама, не плачь. Я не боюсь. Ну, они иначе не могут. Кормят здесь не дурно. Кланяйтесь родным. А ты, Наташа, береги маму. С нашей семьи довольно. Ну, прощайте.
Какой-то был равнодушный и далекий. Казалось, что думал о чем-то ином, о чем не говорят никому, и звучали его слова, как внешние, так, для разговора.
Ночью перед рассветом Бориса повысили. Казнили его в тюремной ограде. Неведомо где зарыли.
Мать молила на другой день:
– Покажите мне хоть могилу!
– Какая-ж могила! В гроб положили, в землю зарыли, насыпь с землею сравняли, – известно, как казненных хоронят.
– Хоть скажите, как умер.
– Что-ж, молодцом. Спокойно, серьезно. А вот от священника отказался. И креста не целовал.
Так и вернулись домой. Туман тоски навис над ними. А под ним безумная зажглась надежда, – нет, Боря не умер, Боря вернется.
L
Мысль о том, что Бориса повесили, не могла войти в круг будничных, привычных мыслей. Только в зенитный солнечный час да еще в лунную полночь она острым кинжалом врезывалась вдруг в разбуженное сознание. И опять пронзала душу острою, нестерпимою болью, и опять по заре с тупым туманом тусклой тоски уходила прочь. И опять возникала безумная уверенность.
Нет, Боря вернется. Вот звякнет звонок, откроют дверь.
– А, Боря! Где ты пропадал?
Как мы его расцелуем! Новостей сколько!
– Где пропадал, там нету. Пропадал, и нашелся, как блудный сын.
Сколько радости будет!
А старенькая нянька плачет неутешно. Причитает:
– Борюшка, Борюшка, ненаглядненький мой! Я ему говорю: я, Борюшка, в богадельню пойду. А он мне: не хочу, говорит, нянечка, не пущу тебя в богадельню, я тебя, говорит, возьму к себе, старенькая, дай мне только вырасти, живи, говорит, у меня. Борюшка, да что же это!
Утром пошла старая няня в переднюю. Видит, – чье это серое пальто на вешалке? Борино, гимназическое. Разве он сегодня не пошел в гимназию?
Идет в столовую, шамая мягкими туфлями.
– Наташенька, да что это, Борюшка дома? Смотрю, пальто на вешалке. Или болен?
– Нянечка! – восклицает Наташа.
И с испугом смотрит на мать.
Вспомнила старенькая няня. Плачет. Трясется седая голова в черной повязке. Причитает старая:
– Пошла, смотрю, пальто на вешалке. Борюшкино пальто, в гимназию ходил Борюшка, думаю, с чего дома? Не праздник. Борюшка, – нет Борюшки моего!
Все громче вопли. Упала старая, бьется на полу.
– Боречка, Боречка, родненький! Господи, меня бы, старую, прибрал вместо него. На что мне жизнь! Брожу, – ни себе ни людям радости.
Наташа бледная шепчет слова:
– Нянечка, милая, успокойся.
– Успокой меня ты, Господи! Господи, чуяло мое сердце, Сны все снились нехорошие. Сбылись черные сны! Боречка, родной!
Бьется, плачет старая. Наташа просит мать:
– Мамочка, ради Бога, – вели убрать с вешалки Борино пальто.
Софья Александровна смотрит на нее пламенно-черными глазами, и говорит угрюмо:
– Зачем? Пусть висит. Вдруг оно ему понадобится.
О, ненавистные воспоминания! Пока царит на небе злой Дракон, никуда не уйдешь от них.
Наташа мечется, не находит себе места. В лес пойдет, – о Борисе думает, о том, что он повешен. К реке пойдет, – о Борисе думает, о том, что его нет. Вернется домой, – и стены старого дома о Борисе напоминают, о том, что он не вернется.
Бледною тенью ходит по аллеям сада мать, выбирая места, где гуще тень. Сидит на скамеечке бабушка, прямая, как молоденькая институтка, и дочитывает газеты. Все то же каждый день.
LI
Но вот уже вечереет. Солнце низко и багрово. Она смотрит людям прямо в глаза, словно, издыхая, о жалости молит. От речки веет прохладою и смехом белых русалок.
Развеваются весело подолы рубашек у мальчишек, бегающих шумною толпою, и пузырями надуваются их рукава. Где-то вдали пиликает хриплая гармоника, и песня льется развеселая. В поле громко скрипит коростель, и скрип его похож на зычный генеральский храп.
Старый дом опять расправляет и раскидывает далеко свои смятые грубым днем темные тени. Окна его загораются заревою алою радостью.
Томно пахнут в далеких аллеях левкои. Розы на заре еще розовее и благоуханнее. Вечная, розовая нагим мрамором дивного тела, снова улыбается Афродита, роняя одежды движением, пленительным, как прежде.
И все опять, как прежде, к мечтам, безумным надеждам устремлено. Изнеможенная в пылании дня, тоскою ясного дня измученная душа истощила всю свою волю к страданиям, и падает из железных объятий тоски на темную, милую землю былой жизни, вновь орошенную мечтательно-прохладною росою.
И опять, как по заре утром, ждут своего Бориса три женщины в старом доме, на краткое время счастливые в своем безумии.
Ждут и говорят о нем, пока из-за деревьев темного леса не поднимет своего вечно-опечаленного лика холодная луна. Мертвая луна над белым саваном тумана.
Тогда они опять, все трое, вспоминают о том, что Боря повешен, и сходятся к затянутому ряскою пруду плакать о нем.
LII
Прежде всех выходит из дому Наташа. На ней белое платье и черный плащ, её черные волосы прикрыты легким черным платком. В её слишком черных глазах затаились глубокие пламенники. Она стоит, обратив к луне бледное лицо. Ждет остальных двух.
Елена Кирилловна и Софья Александровна приходят вместе.
Елена Кирилловна выходит из дому раньше, но Софья Александровна бежит за нею, и уже у самого пруда ее догоняет. На них черные плащи, черные платки на головах, и черные башмаки.
Наташа говорит:
– В ночь перед казнью он не спал. Луна, такая же ясная, как теперь, смотрела в узкое окно его камеры. На полу его камеры она печально чертила зеленый ромб, пересеченный вдоль и поперек узкими черными чертами. Борис ходил по камере, глядел то на луну, то на зеленый ромб, и думал. Я бы хотела знать, о чем он думал в эту ночь?
Так спокойно звучит её вопрос. Как о чужом.
Софья Александровна порывисто ломает руки, и говорит, и голос её трепетен и напоен тоскою:
– Что можно думать в такие минуты! Вот луна светит, давно уже мертвая. Пять шагов от двери до окна, четыре шага поперек. Мысль прыгает лихорадочно с предмета на предмет. О том, что завтра утром казнь, стараешься не думать. Упрямо гонишь эту мысль. А она стоит, не отходит, давит душу тяжким, уродливым кошмаром. Тоска томит неодолимая. Но не надо, чтобы мои тюремщики и все эти чиновники, которые придут, заметили мою тоску. Буду спокоен. Такая тоска, – завыл бы, к бледной луне поднимая бледное лицо!
Елена Кирилловна шепчет тихо:
– Страшно, Сонюшка.
В её голосе слезы, – простодушные, старухины, бабушкины слезы.
LIII
Софья Александровна, не слушая, продолжаете
– Зачем-то надо, чтобы я шел на казнь смело и решительно. Но не все ли равно? Казнят за оградою, в темной ночи. Умру ли я смело, буду ли малодушно рыдать, молить пощады, отбиваться от палача, – не все ли равно.
Никто не узнает, как я умер. Перед лицом моей смерти я один. Зачем же терпеть мне эту дикую тоску? Завою, зарыдаю, всю тюрьму переполошу моим отчаянным воплем, и город разбужу, свободный, но так же скованный, как и моя тюрьма, – чтобы не один я томился, чтобы и другие сообщились к моему предсмертному томлению, к последнему ужасу моему. Но нет, не надо. Моя судьба, – умру один.
Наташа встает, дрожит, сжимает своею рукою холодную руку матери, и говорит:
– Мама, мама, это ужасно, если один. Не надо, чтобы он чувствовал себя одиноким. Будем с ним.
Елена Кирилловна шепчет:
– Да, Сонюшка, это страшно, если один. В такие минуты!
– Мы с ним, – настойчиво повторяет Наташа. – Мы уже с ним.
На губах Софьи Александровны улыбка, подобная той, которою умирающий встречает свое последнее утешение.
Софья Александровна говорит:
– Последнее утешение, мысль, что я не один. Он со мною. Эти стены призрачны, эта тюрьма – воздвигнутая людьми ложь. Не ложно и не призрачно страдание мое, и в тоске моей я соединен с ними. Бедное утешение! Все-таки я, вот этот я, особенный, сам для себя родившийся Борис, я умираю.
– Я умираю, – повторяет Наташа.
Её голос темен и звучит отчаянием. И все трое молчат недолго, объятые очарованием трогательных слов.
LIV
Опять говорит Софья Александровна. Голос её кажется спокойным, и звучит неторопливо, мирно:
– Нет никакого утешения для умирающего. Тоска его неодолима. Холодная луна мучительно томит его. Из его горла рвется стон, подобный дикому вою плененного зверя.
Тоскливо говорит Наташа:
– Но он не один, не один. Мы же с ним в его тоске.
Её глаза, – они чернее черной ночи, – поднимаются к неживой в небесах луне, и зеленая чародейка отражается в них, и томно мучит.
Софья Александровна улыбается, – и улыбка её мертва, – и голосом неутолимого горя говорит опять медленно и тихо:
– Мы с ним только в его безнадежности, в его жалкой безутешности, в его темном одиночестве. Один, один, он был задушен рукою наемного палача, задушен за страшною оградою, которой нам не разрушить. И мертвая луна томила его, как она и нас томит. Искушала она его безумною жаждою диких воплей, звериного предсмертного воя. А мы теперь, в этот час, под этою луною, разве мы не томимся тою же безумною жаждою – бежать, бежать далеко от людей, и стонать, и рыдать, и метаться от невыносимой тоски!
Она встает порывисто, и идет, ломая прекрасные белые руки. Идет быстро, почти бежит, словно гонимая чужою бешеною волею. Наташа идет за нею неторопливо, но быстро, отчетливо-мертвою походкою автомата. А за ними торопится, роняя скупые слезинки на черный плащ, Елена Кирилловна.
Луна внимательно и равнодушно смотрит на их поспешное шествие через сад, через поле, в тот лес, на ту тихую полянку, где когда-то дети пели гордый гимн, где когда-то к безумным подвигам звал их тот, кто собирался продать их за сходную цену, – юная кровь за золото.
В полях росисты травы. Над речкою бел туман. В небе луна ясна и холодна. Так везде тихо, точно в мертвом лунном свете потонули все земные шорохи и шумы.
LV
Вот и поляна. Наташа, помнишь? Как дружно пели! «Восстань, проклятьем заклейменный». Наташа, споешь? Не страшно?
– Спою, – кому-то тихо отвечает Наташа.
Поет тихонько, почти про себя. Слушает мать, и бабушка слушает, – а березкам, и травам, и ясной луне какое дело до людских песен!
«В Интернационале
Объединится род людской!»
Замолкла. Тихо в лесу. Луна ждет. Туман задумчив. Березки чутки. Небо ясно.
Ах, вся эта жизнь для кого? Кто зовет? Кто отзовется? Или все это – мертвая игра?
Громким воплем зовет мать:
– Боря, Боря!
Заливаясь слезами, отвечает Елена Кирилловна:
– Боря не придет. Его нет.
Наташа протягивает руки к неживой луне, и кричит:
– Бориса повесили!
Они все трое становятся рядом и смотрят на луну, и плачут. Все громче и отчаяннее звучат их рыдания.
Их стенящие вопли переходят наконец в протяжный, дикий вой, слышный далеко окрест.
Собака у избушки лесника настораживается. Дрожит всем худым телом, подняла ухо, взъерошила редкую шерсть. Встала, вытянулась на сухих лапах. Острая морда с оскаленными зубами поднята к мучительной луне. Глаза горят тоскливыми огнями. Собака воет, вторя далекому плачу женщин в лесу.
Люди спят.