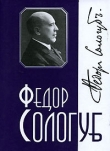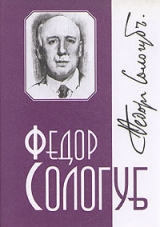
Текст книги "Том 3. Слаще яда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Снегурочка
I
Просят дети:
– Снегурочка, побудь с нами.
Говорит Снегурочка:
– Хорошо. Я побуду.
Побыла с ними. Тает.
Спрашивают дети:
– Снегурочка, ты таешь?
Отвечает Снегурочка:
– Таю.
Плачут дети.
– Милая, краткое время побыла ты с нами, – что же с тобою?
Тихо говорит Снегурочка:
– Позвали, – пришла. И умираю.
Плачут дети. Говорит добрый:
– И уж нет Снегурочки? Только слезы.
Злой говорит:
– Лужа на полу, – нет и не было Снегурочки.
И говорит нам тот, кто знает:
– Тает Снегурочка у наших очагов, под кровлею нашего семейного дома. Там, на высокой горе, где только чистое веет и холодное дыхание свободы, живет она, белоснежная.
Дети просятся:
– Пойдем к ней, туда, на высокую гору.
Улыбается мать и плачет.
II
Опять, опять мы были дети!
Ждали елки, праздника, радости, подарков, снега, огоньков, коньков, салазок. Ждали, сверкая глазами. Ждали.
Нас было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали Шуркою, а девочку – Нюркою.
Шурка и Нюрка были маленькие оба, красивые, румяные, всегда веселые, – всегда, когда не плакали; а плакали они не часто, только когда уж очень надо было поплакать. Были они лицом в мать.
Хотя их мать звали просто-напросто Анною Ивановною, но она была мечтательная и нежная в душе, а по убеждениям была феминистка. Кротко и твердо верила она, что женщины не плоше мужчин способны посещать университет и ходить на службу во всякий департамент.
С дамами безыдейными Анна Ивановна не зналась. Ее подруги, феминистки, считали ее умницею; другие ее подруги, пролетарки, смотрели на нее, как на кислую дурочку. Но те и другие любили ее.
Ее муж, Николай Алексеевич Кушалков, был учитель гимназии. Очень аккуратный. Верил только в то, что знал и видел. К остальному был равнодушен. Считал себя добрым, потому что никогда не подсиживал никого из сослуживцев. Отлично играл в винт.
Ученики побаивались Николая Алексеевича, потому что он был необыкновенно систематичен и последователен. Поэтому, хотя он преподавал русский язык, гимназисты называли его немчурою (немецкого учителя называли короче – немец).
Приближались святки. Дни были морозны и снежны. Шурочка и Нюрочка бегали в саду около их дома, на окраине большого города. Дорожки были расчищены, а там, где летом трава и кусты, снег лежал высокий.
Мать из окна в гостиной видела иногда из-за высокого снега только красные, пушистые шапочки на детях. Смотрела на детей, улыбалась, любовалась их раскрасневшимися лицами, прислушивалась к звонким взрывам их смеха и думала нежно и радостно: «Какие у меня красивые, милые дети!»
Солнце, красное солнце хорошего зимнего дня светило ярко и весело, радуясь недолгому своему торжеству. Оно поднялось невысоко, – и не подняться ему выше, – стояло близко к земле и к людям и казалось ласковым, добрым и светло-задумчивым. Розовые улыбки его лежали, тихие, не слишком веселые, на снегу по земле, на пушистых от снега ветках, на заваленных мягким снегом кровлях. От этого казалось, что весь снег улыбается и радуется. И такие забавные с кровли свешивались розоватые на солнце ледяные сосульки.
Забавный мир детской игры, маленький сад, был огорожен с улицы невысоким досчатым забором. Слышались за этим забором порою шаги прохожих по захолодавшим мосткам, но дети не слушали их, – своя была у них игра.
Им было тепло, – горячая кровь грела их тела, и мама одела их заботливо, – отороченные мехом курточки, меховые рукавички, сапожки на меху, шапочки из мягкого, как пух, меха.
Бегали долго, крича как стрижи. Но одним беганьем весел не будешь. Играть!
И придумали игру.
III
Сперва недолго поиграли в снежки. Потом вдруг сказала Нюрочка:
– Я знаешь что, Шурка? Знаешь, что мы сделаем?
Шурочка спросил:
– Ну что?
– Мы сделаем Снегурочку, – сказала Нюрка, – понимаешь, из снега. Скатаем и сделаем.
Шурочка опять спросил:
– Снежную бабу?
– Нет, нет, зачем бабу! – кричала Нюрочка, – мы сделаем маленькую девочку, такую маленькую, как моя большая кукла, знаешь, Лизавета Степановна. Мы назовем ее Снегурочкой, и она будет играть с нами.
Шурка спросил недоверчиво:
– Будет? А как же она будет бегать?
– А мы ей ноги сделаем, – сказала Нюрка.
– Да ведь она из снега! – говорил Шурка.
– А день-то сегодня какой? – спросила Нюрка.
– Какой? – спросил Шурка.
– Сегодня сочельник, – объяснила Нюрка. – Для такого дня она вдруг побежит с нами и будет играть. Вот увидишь.
– А и правда, – сказал Шурка, – сегодня сочельник.
И вдруг поверил. Но все еще спрашивал:
– А на другой день Снегурочка останется?
Нюрка ответила решительно:
– Конечно, останется на всю зиму и будет бегать и играть с нами.
– А весной? – спросил Шурочка.
Нюрочка призадумалась. Долго смотрела на брата, приоткрыв недоуменно ротик. Вдруг засмеялась и сказала весело, – догадалась:
– Ну что ж весной! Весной Снегурочка уйдет на высокую гору и будет жить там, где вечный снег лежит, все лето будет жить там, а зимой опять к нам спустится.
И зарадовались, засмеялись веселые дети.
Шурочка радостно кричал:
– Всю зиму будем бегать с нею! И маме ее покажем. Мама будет рада?
Нюрочка сказала серьезно:
– Еще бы! Только не надо будет водить ее в дом, а то она в тепле растает.
Шурка опять спросил:
– А где же ей спать?
Он был мальчик практичный и рассудительный, весь в отца. Нюрочка решила:
– Я спать она будет в беседке.
IV
Дети принялись за дело. Притихли.
Мать даже обеспокоилась, – что такое, не слышно криков и смеха. Тревожно глянула в окно, – да нет, ничего, ребятишки снежную бабу лепят. Успокоилась. Опять села на диван, продолжала читать книжку Эллен-Кей, – очень хорошую книжку.
И уж как они только ухитрились, – уж не помогал ли им какой-нибудь добрый или злой дух, искусный в созидании тел, особенно там, где замысел жадно ищет возможности воплощения? – но Снегурочка под их быстрыми пальцами вырастала, как живая. И все черты, самые тонкие, возникали точно, словно лепилась из снега живая человекоподобная душа. Нежные снежные комья лепились один к другому в сплошное нежное снежное тело.
Дочитала главу Анна Ивановна, посмотрела в окно, – посреди площадки перед окнами, где летом цвел алый шиповник, стояла почти совсем готовая маленькая снежная кукла.
«Ловкие у меня детишки, – подумала радостно Анна Ивановна, – кукла выходит у них прехорошенькая».
И ей было приятно вспомнить, что те новые приемы воспитания и обучения, которых она придерживалась, дают превосходные результаты.
«Искусство в жизни ребенка играет, несомненно, важную роль, и родители, – думала Анна Ивановна, – должны это помнить и всячески развивать детскую самодеятельность».
V
В саду Нюрка говорила Шурке:
– Как хорошо, что мы взяли самый чистый снег! Вот она какая славная выходит!
Шурочка говорил рассудительно:
– Еще бы! Ведь этот снег прямо с неба упал; он чистый.
С восторгом говорила Нюрочка:
– Ах, какая она хорошенькая!
Шурочка сказал:
– У нее мордочка похожа на твою рожицу.
Нюрочка весело засмеялась. Сказала скромно:
– На маму похожа наша Снегурочка.
– И ты похожа на маму, – сказал Шурочка.
– И ты, – сказала Нюрочка.
Шурочка принахмурился.
– Я больше на папу похож, – объявил он.
Засмеялась Нюрочка, говорит:
– Выдумал! Мы оба в маму. И Снегурочка у нас в маму.
Смотрели, любовались.
– Знаешь, – сказала Нюрочка, – уж очень она мягкая. Потряси-ка эту яблоню, – вот те ледышки-висюлечки свалятся, мы из них сделаем ей ребрышки. А из тех, что посветлей, глаза.
Сказано – сделано. Вот у Снегурочки твердые ребрышки. Вот у Снегурочки ясные глазки. А вот у Снегурочки и белое платьице. А вот у Снегурочки и белые башмачки. А вот у Снегурочки и белая шапочка.
Готова Снегурочка!
Подбежали к окну, в стекло стукнули, спрашивают:
– Мама, хороша наша Снегурочка?
Мама отвечает из форточки:
– Хороша. Только у вас руки зазябли, идите погрейтесь.
Дети засмеялись. Но мама зовет, надо идти.
– Я как же Снегурочка? – спросил Шурка.
– А ей еще рано, – сказала Нюрка, – она еще постоит, подумает. Мы придем к ней вечером, позовем ее, поиграем с нею.
Побежали дети домой. Говорили маме:
– Мама, сегодня вечером у тебя будет новая дочка Снегурочка.
Смеялась мама, Анна Ивановна. Улыбался папа, Николай Алексеевич: в сочельник он не ходил в гимназию; он сидел дома и читал последнюю книжку «Русского богатства».
VI
Свечерело и вызвездило. Дети опять убежали в сад. Снегурочка стояла. Улыбалась. Ждала их.
Дети подошли к ней тихо.
– Надо ее позвать! – сказал Шурочка.
Помолчали. Вдруг стали робкими.
– Поцелуй ее! – сказал Шурочка.
– Сначала ты, – сказала Нюрочка.
Шурка посмотрел на сестру сердито. Сказал:
– Вообразила, что я боюсь. А нисколечки.
Подошел к Снегурочке и поцеловал ее прямо в бледные, красивые губы.
Оттого ли, что это был сочельник, ночь святая и таинственная, – оттого ли, что крепко верили дети в то, что они сами придумали, – оттого ли, что чародейная сказка обвеяла тихий сад тайными очарованиями и влила в излепленный детскими руками мягкий и нежный снег непреклонную волю к жизни, творимой по творческой свободной и радостной воле, – но вот небывалое совершилось, исполнилось детское неразумное желание, – ожила белая Снегурочка и ответила Шурке нежным, хотя и очень холодным поцелуем.
Тихо сказал Шурка:
– Здравствуй, Снегурочка.
Ответила Снегурочка:
– Здравствуй.
Пошевелила тоненькими плечиками, вздохнула легонечко и сама подошла к Нюрке. И Нюрочка поцеловала ее прямо в губы.
– О, какая ты холодная! – сказала Нюрочка.
Снегурочка тихо улыбалась. Сказала:
– На то же я и Снегурка.
Шурочка спросил:
– Хочешь с нами играть, Снегурочка?
Снегурочка сказала спокойно:
– Ладно, давайте играть.
И побежали все трое по дорожкам сада. Играли долго. И всем трем было весело, как никогда раньше.
VII
Накрыли на стол вечером, – пить чай. Дети заигрались в саду. Мама позвала их, – не шли. Только веселые слышались в саду голоса. Тогда Николай Алексеевич сказал:
– Пойду-ка я сам, возьму да и приведу их.
– Надень пальто, – сказала Анна Ивановна.
– Ну, я в одну минуту, – сказал Николай Алексеевич, – разве только шарф.
Укутал шею шарфом, надел теплую меховую шапку, всунул ноги в глубокие калоши и вышел в сад. С крыльца крикнул:
– Ребятишки, где вы? Чай пить, живо!
С веселым смехом бежали дети по дорожке. Разбежались, промахали мимо, и было их трое.
Николай Алексеевич сошел в сад. Крикнул:
– Дети, это вы с кем играете?
Дети повернули обратно; подбежали к нему. Николай Алексеевич увидел прелестную маленькую девочку, беленькую, с легким румянцем на щеках, – и удивился ее легкому, не по сезону костюму: юбочка легонькая и коротенькая, башмаки легкие, чулочки коротенькие, коленочки голенькие.
Николай Алексеевич спросил:
– Откуда эта девочка? Дети, ведите ее скорее домой, вы ее совсем заморозите.
Дети, перебивая друг друга, звонкими радостными голосами кричали:
– Это – Снегурочка.
– Это – наша Снегурочка, папа.
– Наша сестреночка.
– Мы ее сами сделали.
– Из снега.
– Из самого чистого снега.
– Она будет играть с нами.
– Всю зиму!
– А весной уйдет на высокую гору!
Николай Алексеевич слушал их с недоумением и досадою. Ворчал:
– Глупые фантазии.
Сказал:
– Ну, живо в комнаты. Ты совсем озябла, малюточка? Да ты откуда?
Белая девочка сказала:
– Я – Снегурка. Я из снега.
Нетерпеливо сказал Николай Алексеевич:
– Пойдемте же греться.
Взял Снегурочку за руку.
– Совсем заморозили вашу гостью, – говорил он, – и откуда вы ее взяли? Руки у нее, как лед.
Повел Снегурочку.
Тихо сказала Снегурочка, упираясь:
– Мне туда нельзя.
И дети кричали:
– Папа, оставь ее здесь.
– Она переночует в беседке.
– В комнате она растает.
Но Николай Алексеевич не слушал детей. Он взял холодную Снегурочку на руки и внес в комнаты.
VIII
– Смотри-ка сюда, Нюточка! – крикнул Николай Алексеевич жене, входя в столовую, – какая-то девочка в одном платьице. Наши сорванцы совсем ее заморозили.
Анна Ивановна воскликнула:
– Боже мой! Девочка! Вся холодная. Скорее к камину.
Дети в ужасе кричали:
– Мамочка! Папочка! Что вы делаете! Снегурочка растает! Это – наша Снегурочка.
Но взрослые всегда воображают, что они все знают лучше. Посадили Снегурочку в широкое мягкое кресло перед камином, где весело и жарко пылали дрова.
Николай Алексеевич спрашивал:
– У нас есть гусиное сало?
– Нет, – сказала Анна Ивановна.
– Я схожу в аптеку, – сказал Николай Алексеевич, – надо потереть ей нос и уши, они совсем побелели от мороза. А ты, Нюточка, закутай ее пока потеплее.
Ушел. Анна Ивановна отправилась в свою спальню за теплым чем-нибудь, – закутать Снегурочку.
Шурка и Нюрка стояли, и растерянно глядели на Снегурочку. А Снегурочка?
Что ж, Снегурочке понравилось. Она сидела на кресле, глядела в огонь, и улыбалась, и таяла.
Нюрка кричала:
– Снегурочка, Снегурочка! Спрыгни с кресла, мы отворим тебе двери, беги скорее на мороз!
Тихонько говорила Снегурочка:
– Я таю. Уже не могу я уйти отсюда, я вся истаяла, я умираю.
Текли потоки воды по полу. В глубоком кресле, быстро тая, оседала маленьким снежным комочком белая, нежная Снегурочка. И где ее ручки? Растаяли. И где ее ножки? Растаяли. – Слабый еще раз раздался нежный голос:
– Я умираю!
И уже только груда тающего снега лежала на кресле.
IX
Заплакали ребятишки, – громкий подняли вой. Пришла Анна Ивановна с теплым одеялом. Спросила:
– Где же девочка?
Плача говорили дети:
– Растаяла наша Снегурочка.
Вернулся Николай Алексеевич с гусиным салом. Спросил:
– Где же девочка?
Плача говорили дети:
– Растаяла.
Сердито говорил Николай Алексеевич:
– Зачем вы ее отпустили!
Уверяли дети:
– Она сама растаяла.
Большие и малые смотрели на остатки талого снега и на потоки воды, и не понимали друг друга, и упрекали друг друга:
– Зачем посадил к огню Снегурочку?
– Зачем отпустили девочку, не согревши?
– Злой папа, погубил нашу Снегурочку!
– Глупые дети, что вы говорите нелепые сказки!
– Растаяла Снегурочка!
– Снегу-то сколько натащили!
Плакали маленькие, а большие то сердились, то смеялись.
И не было Снегурочки.
Книга стремлений
Белая березка
I
– Миленькая моя! Беленькая моя!
На белую березку залюбовался, сидит на скамеечке в своем саду, шепчет, – сам маленький, тоненький, бледный мальчик-подросток. В светлой коломянковой блузе.
Слегка согнулся. Руки чуть-чуть загорелые, на колени положил, – и лежат они, дремлют.
Подошла сзади тихохонько девочка, и вдруг засмеялась, звонко так, – на румяном лице смех разливается, и в карих глазах нет ничего иного, кроме того, что на лице. Присела на скамейке рядом с братом, сказала:
– На березку смотрит, сам о Любочке сладко мечтает. Дурак ты, Сережка! У неё – жених.
Сережа смотрел на сестру с выражением неопределенным и смутным, – словно прислушивался к тому, что она говорит, и не совсем понимал её слова. Вздохнул. Протянул тихонько:
– Придумала тоже! Что мне Любка твоя! Очень мне интересно! Приблизительно в три раза красивее самой грациозной из болотных жаб.
С громким смехом отвечала девочка:
– Фу, дурак! Разве о девицах так можно?
Сережа спокойно посмотрел на нее, и сказал:
– Ты, Зинка, ничего не понимаешь, а ругаться научилась. Если ты меня еще раз дураком назовешь, я тебя опять в воду окуну.
Хмурясь полусердито, полупритворно, возразила Зина:
– Кто кого еще окунет!
Встала, тряхнула черными косичками, и отошла. Небрежно бросила брату:
– И разговаривать с тобою не желаю.
Когда она совсем ушла, и уже не стало слышно по дорожкам жалобного скрипа песчинок под её каблучками, Сережа подошел к березке, прижался к ней ласково, и поцеловал её тонкую, розовато-белую кору. Легкое трепетание пробежало по тонкому телу березы, зашелестели веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманящий голову запах, сладкий запах северной белой березы нежно обвеял мальчика. Сережа тихо обнял ствол березы, и прижался порозовевшею щекою к легко щекочущим кожу лица гладким пластинкам её коры.
II
Была ночь, северная, легкая, прозрачная, призрачная ночь. Барышни сидели в саду. Никуда не пошли, – устали за день. И смеялись. Шум их голосов неприятен был Сереже. Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна, и глядел на розоватое, странное, милое небо, такое пустое и такое значительное, и ждал. Когда уйдут.
Дождался. Все затихло. Мальчик спустился в сад, и подошел к своей березке.
Дача стояла на высоком берегу. Внизу шумела река, переливаясь по камням. Все шумела, тихо, упрямо, однозвучно. Шумела, плескалась. Туманом прикрылась, и журчала, шурша о камни, о берег.
Тоненькая, тоненькая, как хворостинка, с зеленоватым легким телом и с зелеными светлыми глазами, поднялась из воды русалка. Сквозь тонкое её тело предметы слабо просвечивали, и глаза её смотрели любопытно и странно, – неживые, не наши очи нежити, зачем-то таящейся около.
И тонкая, с зеленовато-белым телом, березка тихонько вздрагивала и лепетала что-то своими клейкими, сладко-душистыми листочками. Лепетала, шептала. Вздрагивала.
Из-за кустов пробиралась нездешняя, звала:
– Ко мне иди лучше. Со мною веселее. Она молчит. Я тебе сказок наскажу.
Сережа сказал сердито:
– Пошла! Нужны мне твои сказки! Сказки Гауфа читала? Нет? И Афанасьева не знаешь? То-то! Уходи.
Стеклянным, тонким, звонким засмеялась смехом… Засмеялась, ушла, легкая, прозрачная, призрачная. Где-то в камышах долго лепетала что-то быстрое, неразборчивое… Не то смеялась, не то плакала, – и жаловалась, и смеялась. Русалочий смех – тонки слезы. Русалочий смех. Лепет воды по каменьям.
И о чем лепечет? И о чем смеется? И на что жалуется?
III
Жарко было каждый день. Еще начало лета, и еще зеленая трава, и светленькая листва у березки, а уже торопит, торопит знойное лето.
Надо что-то сделать, поскорее, пока же пожелтели клейкие листочки на белой березыньке. Белая, кудрявая, милая березка!
Сережа на скамеечку под березкою лег, – и стоит над ним березка, стоит, качается по ветру, тихохонько свежими листочками шелестит. Так весело и так томно…
А вот подошла кузина Лиза, веселая, румянощекая, черноглазая, черноволосая красавица, недавно овдовевшая, но уже опять веселая, обворожительная по-прежнему. Подошла, стала над Сережею, запахла противными, сильными, нескладными духами, так не идущими к зеленому саду и нежно-пахучим, клейким листочкам на веточках у белой березке, – и принялась дразнить Сережу. Такая уж у неё привычка.
Позвала тихонько и даже ласково, как-будто с умильными пришла к нему словами:
– Сереженька!
А сама таит, хитрая, злые усмешечки, лукавые насмешечки.
Сережа отвечает сердито:
– Ну, чего тебе?
Уже он предчувствует, что не с добром Лиза пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и дебелая?
«Бабища!» – сердито бранится про себя Сережа.
Нахмурился сердито, лег на живот, и ногами болтает преувеличенно развязно.
Ласково спрашивает Лиза:
– Милый! лежишь, встать не можешь?
– Что такое? – не понимая, но уже досадуя, спрашивает Сережа.
И спрашивает Лиза:
– Лежишь под березкою, о Зиночке мечтаешь, что же ты к ней не пойдешь?
Сережа ворчит:
– Глупости!
– Может быть, у тебя животик разболелся? – опять спрашивает Лиза.
И тихонько смеется.
– Глупые глупости. – сердито отвечает Сережа.
– Ты Зиночкиною помадою объелся? – очень ласково спрашивает Лиза. И гладит его по голове рукою мягкою и нежною, но слишком сильною.
Сережа кричит сердито:
– Какие глупые глупости! У Зиночки и помады нет, она не помадится.
– А ты откуда знаешь? – спрашивает Лиза, и смеется. – Ты у неё шарил? Но это нехорошо! И стянул ленточку на память. Где она?
Полезла в Сережин карман.
– Не в кармане ли носишь?
Сережа вскакивает, и проворно убегает. Отбежав на приличное расстояние, он останавливается и звенящим от обиды голосом кричит:
– Вдова очень нахальная!
Лиза смеется весело и уходит к большим, таким же грубым и злым, как и она. Для неё было только маленькое развлечение, и о нем сейчас же успела забыть, – а Сереже она испортила весь день.
Весь день настойчиво вспоминалась противная Зиночкина помада, которой и не было никогда у Зиночки, но от которой все-таки у Сережи весь день был скверный вкус на языке, точно он и в самом деле объелся этою небывалою помадою.
Все очарования, и высокие, и низкие, из одной и той же темной восходят области, из зыбкой мглы небытия.
IV
Опять ночь. Влажная, тихая, говорящая миллионами молчаний, роями неисчислимых тишин. Ночь.
Стали так спокойно все деревья в саду, и заслушались. Заслушались. Замечтались.
И она одна шептала им. Прошептала тихонько, и тоже замолчала…
Слушали, что тихо говорил им задумчивый, бледный мальчик.
Тихий, теплый туман надвигался с полей, – постоять, помолчать, послушать, помечтать. В белом и тихом забыться молчании.
Тихим шопотом говорил Сережа:
– Люблю тебя, милая, белая березка. Только тебя люблю.
Чей-то голос, тихий и печальный, как легкий вздох, как сладкий звон свирели, спросил:
– За что?
И отвечая говорил Сережа:
– Люблю тебя за то, что ты – весенняя, что ты молчишь, не смеешься, не дразнишь. За то, что ты выросла мне на радость. На сладкую вешнюю радость.
Печальным шопотом спросила тихая, таящаяся:
– Только на радость?
– Не знаю, – говорил Сережа. – Ты выросла, стоишь, и молчишь. И ничего не хочешь, и никого не ждешь, никого не зовешь. Не хочешь, – и хочешь. И хочешь так сладко, и так верно. И что ты хочешь, то и сбудется. Веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись. Вся белая, вся тихая, березынька моя милая. Ты меня приласкаешь, ты меня поцелуешь, ты мне на радость.
– На радость, а не на муку? – печально, спросила опять близкая, таящаяся.
– А если на муку, – тихо говорил Сережа, – пусть и так. Вот приникну к тебе, вот будет мне и тебе сладко и нежно.
– Сладко и нежно, – шепнула березка так тихо, так ласково. – Ты хочешь? ты можешь? – тихо шептала она.
Прильнул к ней Сережа. Обнял руками её тонкий ствол, прижался головой к её нежной коре, замер в сладком восторге.
Желания томили, и была тоска и печаль. Кто-то плакал так близко и так грустно, – прозрачный и хрупкий звенел плач ревнивой русалки с зеленою пеною кос, и из-за зеленых ресниц, затаившихся в её очах, падали холодные слезы.
Сад был весь полон туманною вешнею печалью. Бессильны были белые пришлецы из влажных долин, потерявшие свои древние личины, и новых ликов еще не нашедшие. В бесформенный туман сливаясь, стояли они, и томились, и вздыхали холодными вздохами ночной бессильной тоски.
Неживой и печальный лик поднялся высоко, – но бессильно было и его очарование.
Безнадежность и любовь…
Колыхался холодный туман, и неживою тоскою томились деревья в саду над рекою, в тумане, под луною холодною, ворожащею, но бессильною.
Две жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, – и вкушали они горькую безнадежность ласк.
Такие же две безнадежно далекие одна от другой, как и всякие две души в их жизненном союзе, – вот соединили они свои трепеты и свои устремления, отдали друг другу все, что было у той и у другой, – и изнемогали они в бессильном дрожании двух тонких, трепетных, холодеющих тел.
Таящаяся, не показывающая никогда своего земного лица людям подошла близко, и ждала, – и веяло от неё на них очарованием, сильнейшим всех очарований и восторгов жизни.
И спросила она:
– Дитя неразумное, чего же ты хочешь?
Истекая сладким соком, шептала белая березка:
– Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, – о, дай мне только одно пламенное мгновение.
Мгновенною молниею восторга вспыхнуло все тонкое тело белой березки. И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два тонкие, два трепетно холодеющие тела.