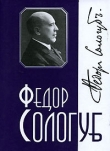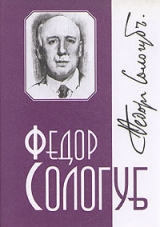
Текст книги "Том 3. Слаще яда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Старый дом
Памяти Михаила Чеботаревского.
I
Дом был старый, большой, деревянный, одноэтажный, с мезонином. Стоял он в деревне, в одиннадцати верстах от станции железной дороги, и в полусотне верст от уездного города. Вокруг этого дома дремотно-зеленеющий сад раскинулся, и просторы бесконечно-плоских, нескончаемо-скучных полей.
Когда-то этот дом был выкрашен в лиловый цвет, и уже давно полинял. Его крыша, когда-то красная, стала темно-бурою. Но столбы террасы были еще совсем крепки, и беседки в саду целы, и Афродита в кустах. А пруд ряскою затянуло.
Казалось, что старый дом полон воспоминаниями: стоит, дремлет, вспоминает, опечалится порою, когда грустные нахлынут вдруг вереницы воспоминаний.
В этом старом доме все было по-прежнему, как в те дни, когда вся семья была летом вместе, когда еще Боря был жив.
Теперь в усадьбе жили только женщины: бабушка Борина, Елена Кирилловна Водоленская, – Борина мать, Софья Александровна Озорева, – и Борина сестра, Наталья Васильевна. И старуха-бабушка, и мать, и молоденькая девушка казались очень спокойными, порою веселыми. Жили они уже второй год в старом доме, и ждали младшего в семье Бориса. Того самого Бориса, которого уже нет в живых.
Они почти не говорили о нем друг с другом, но мыслями, воспоминаниями, мечтами о нем наполнены были их дни. Порою в ровную ткань этих дум и грез вплетались черные нити печали, и падали тяжелые, горькие зерна слез.
Когда злое солнце стояло в притине, – когда грустная луна ворожила, – когда заря холодом по утру розовым веяла, – когда на закате заря смехом кровавым полыхала, – в четыре темпа был размах качелей от заревой радости к притинной высокой печали. На тех качелях стремительно качаясь, они все трое переживали попеременно симпатию и антипатию предметов и времен.
Заревая радость, – раз, – яркая дневная печаль, – два, – заревая радость, – три – белая ночная тоска, – четыре! Качели, подвешенные высоко, выше, выше тех качелей, на которых качался, кончался он.
II
По заре бледно-розовой, когда влажные никнут ветки на березках, весело-зеленых, стройно-белых, в саду перед окнами, за песочною площадкою, за круглою куртиною, – по заре бледно-розовой, когда с речки от купаленки повеет прохладою, – первая из трех просыпается Наташа.
Как весело проснуться на заре бледно-розовой! Откинуть полог, кисейно-легкий, сквозной, – на локоток опереться, повернуться на бок, – и глянуть в окошко черными, широкими, жуткими глазами.
За окошком небо видно, низкое над далекими белыми березками. На небе заря бледно-алая, веселая, горит матовым огнем сквозь транспарант простертого над землею покрова. В её тихом, бледно-радостном разгорании есть такое напряжение юных страстей и полусознанных желаний, такое напряжение, такое счастье, и такая печаль! Улыбчивая сквозь росу легких, утренних слез над белыми ландышами, над синими фиалками широких полей!
Да о чем же слезы! К чему же ночная тоска!
Вот, за окном привешенная, качается ветка отгоняющего всякое зло аира. Повесила ее бабушка, и няня снимать не велит, старая. Зеленая, качается ветка аира, улыбается сухою зеленою улыбкою.
Улыбается Наташа тихою розовою улыбкою.
Земля просыпается в утренней свежей бодрости. Доносятся до Наташи голоса пробудившейся жизни. Вот, гомозясь в упруго-влажных ветках, чирикают шумливо проворные птицы. Вот за окном слышен издалека переливно-долгий звук рожка. Вот близко-близко, по песочной дорожке под окошком звуки чьих-то тяжело и твердо ступающих ног. Слышно веселое ржание жеребенка, и протяжное мычание недовольных чем-то коров.
III
Наташа встает, улыбается чему-то, подходит поспешно к окну. Её окно высоко над землею, в мезонине, широкое в три просвета. Наташа не задергивает его на ночь занавесками, чтобы не застить от засыпающих глаз прохладного мерцания звезд и ворожащего лика луны.
Весело Наташе открыть окно, распахнуть его сильною рукою. В горящее сном лицо нежная веет от речки утренняя прохлада. За березками сада, и за его кустарниками видны широкие поля, такие милые с детства. На полях пологие пригорки, полосатые пашни, зеленые рощицы, отдельные кустики.
Вьется речка прихотливо-брошенными на зеленое извивами. Еще колышутся над нею белые клочки изорванной к утру туманной фаты. Речка видна кое-где, а чаще закрыта изгибами невысокого берега, но далеко-далеко означила она свой извилистый путь купами верб, темно-зеленых на светло-зеленой траве.
Наташа проворно умылась, – и было приятно лить на плечи и на шею холодную воду. Потом по-детски прилежно молилась, ставши на колени перед темным в сумрачном углу образом, не на коврик, а прямо на пол, – так угоднее Богу.
Повторила ежедневную свою молитву:
– Господи, сотвори чудо!
И приникла лицом к полу.
Встала. Потом проворно надела легкое светленькое платьице с широкими лямками на плечах, с прямоугольным вырезом на груди, и кожаный пояс, перетянутый сзади широкою пряжкою. Наскоро заплела и сложила кое-как вокруг головы тяжелые черные косы. С размаху всунула в них роговые гребенки и шпильки, какие нашлись под руками. Набросила на плечи серый вязаный платок, такой приятно-мягкий, и торопилась выйти на террасу старого дома.
Ступеньки неширокой внутренней лестницы из мезонина вниз тихо скрипели под легкими Наташиными ногами. Жесткое ощущение досчатого холодного пола под теплыми ногами было забавно-веселым.
Когда Наташа спустилась вниз и шла по коридору и по столовой, она ступала тихохонько, чтобы ни мать, ни бабушка не слышали, и не проснулись бы, и не встали. И на лице было милое выражение веселой озабоченности, и складка меж бровей. Как сложилась в те дни, так и осталась складочка.
Еще задернуты были занавески в столовой. Комната казалась сумрачною и печальною. Скорее хотелось пробежать по ней, мимо широко раздвинутого стола. Не было охоты остановиться у буфета, что-нибудь взять, съесть.
Скорее, скорее! На волю, на воздух, к улыбкам беззаботной зари, позабывшей все свои докучные вчера.
IV
На террасе было светло, свежо. Светлая Наташина одежда вдруг загоралась бледно-розовыми заревыми улыбками. Веселый холодок набегал из сада. Ласкаясь, лобзал он Наташины ноги.
Опершись розовыми, тонкими локтями обнаженных рук о широкий парапет террасы, Наташа садилась на легкий плетеный стул. Она принималась смотреть в ту сторону, где виднелась из-за кустов калитка в садовой изгороди, и за нею часть серой дороги, безмолвной, но, по заре бледно-розовой, такой счастливо-успокоенной.
Наташа смотрела долго, пристально, немигающим, жутким взором черных глаз. Какая-то жилка дрожала в левом углу рта. Едва заметно вздрагивало левое веко. Все определеннее намечалась резкая вертикальная складочка между глаз. Подобно напряженно-трепетно и ало полыхающей заре было напряженное внимание слишком пристальных, слишком неподвижных глаз.
Если бы всмотреться долго в сидящую так на заре утренней Наташу, то показалось бы, что не видит она того, на что смотрит, и что на что-то иное, что не здесь, устремлен её слишком далекий взор.
Словно хочет увидеть того, кого нет, – того, кого ждет, – того, кто придет, – придет сегодня. Если свершится чудо. А как же без чуда!
V
А перед Наташею серая и докучная влеклась повседневная обычность. Предметы все те же, все на тех же местах. И те же, как вчера, как завтра, как всегда, люди. Вечные присно люди.
Стремительно и тупо шел мужик, гулко стуча о глину дороги подкованными подошвами тяжелых сапог. Верткая баба проходила, мягко шурша по росистой траве придорожной мельканием высоко-приоткрытых загорелых ног. Пугливо озираясь на старый дом, пробегали темные от загара, милые, чумазые, белоголовые ребятишки.
Мимо, да мимо. Никто не останавливался у калитки. Никто и не видел молодой девушки из-за точеного столбика террасы.
Шиповник цвел у ограды. Он ронял первые бледно-розовые лепестки на розоватую желтизну песочной дорожки, лепестки, райски-невинные и в самом падении своем.
В саду благоухали сладко, страстно и наивно розы. У самой террасы возносили они к озарениям с неба свои напряженно-алые улыбки, ароматную нестыдливость своих мечтаний и желаний, невинных, как все было невинно в первозданном раю, невинных, как невинны на земле только благоухания роз.
На куртине пестрым ковром раскинулись белые табаки и алые маки. За куртиною в зелени белел мрамор Афродиты, как вечное пророчество красоты, среди зеленой и влажной, благоуханной, звучной жизни этого мгновенного дня.
Тихо сама себе сказала Наташа:
– Он, должно быть, переменился очень. И не узнаешь, поди, как вернется.
Тихо, сама себе отвечая, сказала Наташа:
– Но я бы его узнала сразу по голосу и по глазам.
И точно вслушиваясь, услышала его голос, звучный, глубокий. И точно всматриваясь, увидала его черные глаза, – пламенный, властный, юношески-дерзкий взор. И еще вслушивалась во что-то, всматривалась в далекое. Слегка пригнулась, склонила к чему-то тихому чуткое ухо, неподвижный и жуткий приковала к чему-то взор. Словно застыла в напряжении, несколько диком.
Розовая улыбка разгорающейся зари несмело играла на побледневшем Наташином лице.
VI
Кто-то крикнул вдали, длинно и гулко.
Наташа вздрогнула. Встрепенулась. Вздохнула. Встала. По шатким, широким ступенькам спустилась в сад, на песчаную площадку. Хрустели песчинки под ногами. Легкие, тонкие на мелком сером песке отпечатывались следы узких маленьких ног.
Наташа подошла к белому мрамору.
Долго всматривалась она в безмятежно-прекрасное лицо богини, все еще далекой от нашей скучной, чахлой жизни, и в её вечно-юное тело, нестыдливо обнаженное, неложную сулящее радость освобождения. Розы алели у строгого пьедестала. Они примешивали очарование своих недолгих алых благоуханий к очарованию вечной красоты.
Тихо, тихо сказала Афродите Наташа:
– Если он придет сегодня, я вложу в петлицу его тужурки самую алую, самую милую розу. Он смуглый, и глаза у него черные, – о, самую алую из твоих роз!
Улыбалась вечная, придерживая дивными руками края ниспадающего на колени тихими складками покрова, и говорила беззвучно, но внятно:
– Да.
Вечное да всякому сказыванию жизни, улыбка вечной иронии, улыбка прекраснейшей из богинь, и самой страшной из них.
И опять сказала Наташа:
– И сплету себе венок из алых роз, и косы распущу, мои черные, мои длинные косы, и венок надену, и буду плясать, и кружиться, и смеяться, и пить. Чтобы утешить его, чтобы обрадовать его.
И опять говорила ей вечная:
– Да.
Сказала Наташа:
– Ты его помнишь. Ты его узнаешь. Вы, боги, все помните. Только мы, люди, забываем. Чтобы разрушать и творить, – себя и вас.
И в молчании белого мрамора вечное, внятное было – да. Ответ, всегда утешающий. Да.
Вздохнула Наташа, и от мрамора отвела глаза.
Заря разгоралась, и весь радостный сад улыбался переливами заревого, вечно-юного, вечно-торжественного смеха.
VII
Потом Наташа тихо шла к садовой калитке. Там она опять долго смотрела на дорогу. Так напряженно держалась она за верх калитки, точно готовая вот-вот распахнуть ее перед тем, кто придет, перед тем, кого ждут.
Вздымая серую дорожную пыль, предрассветный влажный ветер тихо веял в Наташино лицо, и шептал ей в уши что-то настойчивое, злое, вещее. Точно завидовал её ожиданию, её напряженному покою.
Ветер, всюду веющий, ты все знаешь, ты хочешь, ты встаешь и падаешь, и влечешься в нескончаемые дали. Печалью и радостью вея, влечешься ты к недосягаемым далям.
Ветер, всюду веющий, залетал ли ты в те страны, где он? Весточку от него принес ли? Принесешь ли?
Хоть бы вздох один принес ты от него или к нему, хоть бы легкий, бледный призрак слова!
От предрассветного ветра краснеет лицо, глаза краснеют, румяные губы морщатся, на черных глазах слезы выступают, и гнется тонкий стан, – оттого, что веет ветер, прохладный, пустынный, безучастный, мудрый ветер. Веет, как веяние невозвратного, быстролетного времени. Веет, жалит, печалит, и не жалеет, и уносится прочь.
Уносится прочь, и бессильная падает серовато-розовая по заре, но все же тусклая, бледная дорожная пыль. Спутала все свои следы, забыла прошедших над нею, – и лежит, по заре слабо-розовея.
Ноет сердце от сладкой печали ожидания.
Говорит кто-то близкий, тихо говорит на ухо Наташе:
– Он приедет. Он на дороге. Встретила бы.
VIII
Наташа открыла калитку, и быстро пошла по дороге, в ту сторону, где, за одиннадцать верст от старого дома, стоит железнодорожная станция. Дойдет Наташа до пригорка над рекою, за полторы версты от дома, остановится, и будет смотреть.
С этого пригорка видна вся дорога. Откуда-то снизу, с поля, слышен резкий крик кулика. Пряно и влажно пахнет трава.
Восходит солнце. Вдруг все становится белым, ярким, ясным. Радостная смеется широкая даль. Утренний ветер на пригорке сильнее, крепче и слаще. Кажется, что забыл он пустынную свою грусть.
Трава такая мокрая от росы. Так нежно приникает она к ногам. По ней яркие, многоцветные переливаются рассыпанными алмазами слезинки росы.
Красное солнце с торжественною медленностью поднимается над синею мглою горизонта. В красном, ярком горении солнца затаилось предчувствие тихой грусти.
Наташа опускает взор к орошенным травам. Цветочки милые! Узнает Наташа цветок верности, лазоревый барвинок.
Но что это! Тут же, близко, напоминанием о смерти, черная белена. Ну что же! Он везде. Утешайте, утешайте, лазоревые цветочки!
– Ни одного из вас не сорву, и не из вас, лазоревые, венок сплету.
Ждет, стоит, смотрит.
Показался бы по дороге, увидала бы, узнала бы его еще издали. Но нет, – никого нет. Дорога пустынна, и немы влажные просторы.
IX
Постояла Наташа, подождала, пошла назад. Ноги её тонули в мокрых травах. Стебли высоких трав путались около тонких ног, и шуршали, зеленые, о край светлого платья. Наташины руки были опущены, покорные, прикрытые серым вязаным платком, стройные с розовыми локтями руки. А глаза уже утратили напряженность выражения, и перебегали рассеянные взгляды с предмета на предмет.
Сколько раз ходили по этой дороге, все вместе, и сестренки, и Боря! Было весело и шумно. О чем ни говорили! Как спорили! Какие гордые гимны пели! Теперь одна, и Боря все не возвращается.
Не знает, что его ждут. Не знает, как его ждут. Ничего не знает. И не узнает?
В Наташином сердце просыпается предчувствие горьких воспоминаний. В темноте усталой памяти уже с тяжелым шорохом шевелится злая змея.
Медленно и скучно Наташа возвращается домой. Глаза её дремотны, и блуждают тоскливо, и никнут утомленные взоры. Трава кажется ей неприятно-сырою, ветер надоедливым, ногам её мокро, и край тонкого платья отяжелел от сырости. Новый свет нового дня, ярко-солнечного, сияющего переливами смеющихся рос, птичьих гамов и людских голосов, для Наташи по-старому назойливо ярок.
Ах, не всходить бы новому дню! Не звать бы к недостижимому!
Все слышнее робкий шепот беспощадных воспоминаний. Тяжелый груз неодолимой тоски наваливается аспидно-серою горою на сердце. Гордо сжимается томительно-жестким предчувствием слез.
Чем ближе к дому, тем торопливее становится Наташин шаг. Все скорее, скорее, под ускоряющиеся стук тоскующего сердца бежит Наташа по сухим глинам дороги, по мокрым травам придорожной, протоптанной пешеходами, тропинки, по влажно-хрупким песчинкам садовых дорожек, еще хранящим её предрассветные нежные следочки. Бежит Наташа по теплым доскам еще неметеного пола, с пылью и соринками, и уже не старается ступать легко и неслышно. Наталкивается на удивленную, зевающую Глашу. Взбегает стремительно и шумно наверх, к себе, и бросается в постель. С головою укутывается в одеяло. Засыпает.
X
Борина бабушка, Елена Кирилловна, спит внизу. Она старая, и не спится ей утром, но за всю жизнь она никогда не вставала рано, а потому и теперь просыпается только немного позже, чем Наташа. Долго лежит Елена Кирилловна, прямая, худенькая, неподвижная, словно влипнув затылком в подушки и ждет, когда придет горничная с чашкою кофе, – она издавна привыкла пить кофе в постели.
У Елены Кирилловны худое, желтое лицо, все в разбегающихся морщинках, а глаза еще блестящие, и волосы еще черные, особенно днем, когда уже она их смажет черным фиксатуаром.
Горничная Глаша обыкновенно запаздывает. Утром ей сладко спится: с вечера она любить уходить к деревне на мост. Там скрипит гармоника, и по праздникам поют и пляшут, бывают веселые молодые люди и бойкие девицы из деревни, – словом, весело.
Елена Кирилловна звонит несколько раз. Наконец, безответность тишины за дверью начинает сердить ее. Она досадливо ворочается, ворчит. Напряженно сгибая в локте сухую, желтую руку, долго и с усилием нажимает костлявым пальцем на белую пуговку электрического звонка, лежащего на круглом столике возле её изголовья.
Тогда, наконец, Глаша слышит над собою продолжительный, дребезжащий звон. Она соскакивает с постели. Суетливо мечется по своей тесной каморке под лестницею в мезонин. Ищет что-то. Набрасывает на себя юбку. Бежит к старой барыне и на бегу кое-как оправляет рассыпающиеся космы перепутанных волос.
Лицо у Глаши сердитое и сонное. Еще недоспанный сон шатает ее. Пока она добежит до дверей барыниной спальни, утренняя прохлада немного освежает ее. Когда Глаша входит к барыне, у неё уже не такое смятое лицо.
На Глаше розовая юбка и белая рубашка. В полусумраке занавёшенных окон её загорелые руки и стремительные ноги кажутся тоже белыми. Вся она, молодая, крепкая, грубая и внезапная, вдруг вырастает перед постелью старой барыни, слегка всколыхнув тяжелою поступью барынину металлическую, грузную кровать с никелированными столбиками и шариками, и круглый столик, на котором слегка звякнет стакан о флакон.
XI
Елена Кирилловна встречает Глашу все тем же изо дня в день негодующим восклицанием:
– Глаша, когда же мне будет кофе? Я звоню, звоню, никто не идет. Ты, мать моя, спишь, как убитая.
Глаша делает притворно-подавленное и притворно-испуганное лицо. Поправляет, невольно позевывая, старенький истертый коврик у кровати. Выдвигает мятые, стоптанные туфли. Говорит тем усиленно ласковым, почтительным тоном, который так нравился в прислугах старым барыням:
– Простите, барыня, сию минуту все будет. Господи, да как вы сегодня рано проснулись, барыня! Не поспалось вам, барыня, штой-то-ли?
Елена Кирилловна говорит:
– В мои годы уж какой сон! Дай ты мне кофейку поскорее, Глашенька, да и вставать я уж стану.
Уже она говорит спокойно, хота и звучат в её голосе капризные ноты.
Глаша отвечает усердно-радостным голосом:
– Сию секундочку, барыня. Я живым духом.
И повертывается уходить.
Но Елена Кирилловна останавливает ее гневным окриком:
– Глаша, куда ты? Ничего не помнишь, сколько раз ни говори! Занавески открой.
Глаша проворно отдергивает темно-зеленые занавески у двух окон в барыниной спальни, и вылетает из комнаты. Она невысокая и тоненькая, и по её лицу видно, что она читает книжки, но звук её быстрых ног отчетлив и тяжек, точно бежит кто-то большой, сильный, тяжелый, умеющий делать все, кроме легкого.
Барыня ворчит, сердито глядя за нею:
– Боже мой! Как она топает! Ни пола, ни пяток своих не жалеет!
XII
Но вот звуки Глашина бега затихают в гулкой тишине длинного коридора. Барыня лежит, ждет и думает. Она опять прямая, неподвижная, вся закрытая одеялом, такая желтая и тихая. Кажется, что вся жизнь её сосредоточилась в ярком блеске зорких глаз.
Солнце, еще невысокое, неярко и розово освещает стену перед барыниными глазами. Светло в спальне и тихо. Пляшут в воздухе быстрые пылинки. Блестят стекла развешанных на стене фотографических портретов и узкие золоченые полоски их черных рамок.
Елена Кирилловна смотрит на портреты, её по-молодому блестящие и всё ещё зоркие глаза отчетливо различают милые лица. Многих уже нет на свете.
Борин портрет – большой, в широкой темной раме. Совсем еще юношеское лицо, лицо семнадцатилетнего мальчика. Смуглый. Черноглазый. На губе уже усики, довольно густые. Губы упрямо сжатые. Во всем складе лица выражение настойчивой воли.
Елена Кирилловна долго смотрит на портрет, и вспоминает Борю. Изо всех своих внуков больше она любила его. И вот вспоминает.
Она помнит, какой он был. Каким-то он теперь стал?
Вот Боря вернется. Бабушка обрадуется, насмотрится на него. Скоро ли?
Думает успокоенно старая женщина:
«Теперь уж увидимся скоро».
Кто-то пробежал под окошком. Чей-то послышался звонкий крик.
Елена Кирилловна повернулась на постели. Смотрит в окно.
Белые акации под окном, зелено и радостно шелестя, улыбаются по-детски наивно и весело. За ними сплошная купа зеленолиственных широких крон, березки теснятся да липки. Ветки совсем близко тянутся к окошку. Упругий их шелест напоминает что-то Елене Кирилловне.
Вот так бы крикнул под окошком Боря. Он любил этот сад. И любил белые цветы акации. И полевые любил цветочки собирать. И ей приносил. Особенно васильки ему всегда нравились.
XIII
Наконец Глаша принесла кофе. Поставила на круглый столь около кровати серебряный поднос. Над фарфоровою широкою синею с золотом чашкою дымится легкий пар, слегка синеватый.
Елена Кирилловна подбирается всем своим худеньким тельцем повыше, к подушкам, и усаживается в постели, прямая, сухонькая, тоненькая, в белой ночной кофточке. Суетливо поправляет дрожащими руками затянувшиеся за ночь завязки белого гофрированного чепчика.
Глаша заботливо и ловко подсовывает под её спину подушки, сложив их высокою, мягкою, такою уютною горкою.
Звенит хрупким смехом серебряная ложечка в сухих старухиных руках, размешивая в чашке сахар. Потом из маленького молочника льется густою струею молоко, и падает слегка желтоватыми хлопьями тяжелая жирная пенка.
А Глаша, повертевшись еще немного в сторонке, поглядевшись украдкою, мимоходом, в барынино зеркало, уходит.
Елена Кирилловна, не торопясь, принимается пить кофе. Она ломает пополам сладкий, обсыпанный сахаром сухарик, бросает половинку в кофе, и долго держит его там. Потом, уже когда он совсем размякнет и пропитается кофеем, она осторожно вынимает его ложечкою.
Зубы у Елены Кирилловны еще совсем крепкие. Она этим очень гордится, но все-таки в последнее время она гораздо больше любит есть то, что помягче. Она жует измокший сухарик. На её лице выражается удовольствие. Маленькие зоркие глаза весело поблескивают.
Когда кофе выпит, Елена Кирилловна ложится еще полежать. Дремлет с полчаса, вытянувшись на спине под одеялом. Потом она опять звонит, и ждет.
XIV
Приходит Глаша. Уже она причесалась, и надела розовую кофточку. Оттого она кажется еще более тоненькою, чем первый раз. Но так как теперь она вовсе не торопится, то шаги её кажутся еще более тяжелыми.
Глаша подходит к барыниной кровати. Молча откидывает одеяло. Помогает Елене Кирилловне сесть на постели, ловко поддерживая ее под локоть. Потом, опустившись на колени, натягивает ей на ноги длинные черные чулки, и надевает ей мягкие серенькие туфли.
Елена Кирилловна держится за Глашино плечо слабыми, вздрагивающими нервно и неровно руками. Она завидует Глашиной молодости, силе и наивной простой. Будируя втихомолку против своей барской, но все же несладкой судьбы, Елена Кирилловна думает уныло, что охотно пожертвовала бы всем своим комфортом, и согласилась бы стать такою же, как и эта Глаша, простою девушкою служанкою, с грубою кожею на руках и с покрасневшими от утренней сырой свежести стопами необутых ног, только бы ей молодость, веселость, беззаботность и счастье, доступное на земле нашей только неразумным.
Брюзжит часто на судьбу старая, – а сама ни от одной барской привычечки не могла бы отказаться!
Глаша говорит:
– Готово, барыня.
Елена Кирилловна встает. Говорит:
– Теперь капот мне, Глаша.
Но Глаша уже и сама знает, что надо подать. Надевает на Елену Кирилловну белый фланелевый капот. Проворно застегивает его.
Елена Кирилловна говорит:
– Ну, иди, Глашенька. Ужо я позвоню, если что понадобится.
XV
Глаша уходит. Бежит на заднее крыльцо.
Там она второй раз моется из подвешенной к столбикам крыльца на веревочке глиняной кувыркалки, – давеча только наскоро ополоснула лицо и руки похолодевшею за ночь водою. Брызжет воду далеко на зеленую траву двора, на лиловато-серые доски крыльца, и на свои ноги порозовелые от свежести ранней, утренней и от нежных прикосновений росистых трав на огороде. Смеется сама с собою – так, оттого, что вокруг неё светло, не жарко, весело, – оттого, что она молодая, здоровая девушка – оттого, что утренняя свежесть бодрыми холодками пробегает по всему крепкому, быстрому телу, – оттого наконец, что недалеко от неё на деревне живет бойкий, как она, красивый молодчик, которой на нее заглядывается, и который ей нравится.
Правда, за него мать бранит ее, – молодой человек беден.
А Глаше-то что-ж? Недаром сложилась поговорочка:
«Пусть бы хлеба ни куска, был бы парень без уска».
Смеется Глаша весело и звонко.
Из окна кухни Степанида кричит ей:
– Глаш, а Глаш! Что ты ржешь?
Глаша смеется, не отвечает, и уходит.
Степанида высовывает из окна простодушное, румяное лицо. Спрашивает:
– Чегой-то она?
Никто ей не отвечает. Некому отвечать. На дворе пусто. Только где-то за сараями слышны лениво переговаривающиеся голоса работников.
XVI
Меж тем Елена Кирилловна в своей спальне кряхтя опускается на колени перед образом. Она молится долго. Добросовестно перечитывает все молитвы, какие знает. Сухие, малинового цвета губы шевелятся. На лице строгое, сосредоточенное выражение. Все морщинки тоже кажутся строгими, усталыми, равнодушными.
Молитвенных слов много. Все они святы, воздушны, возвышенны или трогательны. Но то, о чем в них говорится, от частого повторения как-то словно закостенело, стало обычным и простым, только привычно выжимает на глаза слезинки старческого умиления, и не имеет никакого отношения к тому тайному трепету невозможных надежд, которым в последнее время пронизано сердце старой женщины.
Уста её прилежно шепчут все те же каждый день мольбы о прощении грехов вольных и невольных, сотворенных словом, или делом, или помышлением, – мольбы об очищении душ наших от всякой скверны, – и опять слова о беззакониях наших, о лукавых наших деяниях, о нечестии нечестивых, о всеобщем нашем недостоинстве, о мирских злых вещах и о дьявольском поспешении, – об окаянной душе и окаянном теле, и о страстной жизни, – все только об этом всеобщем зле и об этой всемирной порочности. Точно сложены эти молитвы для титанов, созданных переустроить вселенную, но из постыдной лености делающих это важное дело спустя рукава.
И ни слова о своем, личном, задушевном.
Шепчут старые, иссохшие уста о милосердии, о щедротах, о человеколюбии, об истинном свете, – обо всех этих верховных благах, изливаемых извне на все творение. И ни слова о чуде, жадно и трепетно чаемом.
Да и разве чудо не нарушило бы молимого установленными словами заученных из детства молитв тихого и безмолвного жития?
Да, воистину, подъемлет бунт всякий, кто дерзновенно молит о чуде.
Но вот и слова о находящихся в темницах и в заточениях, мольба об их освобождении, об их избавлении.
Вот, наконец, это о Боре.
Свободу и избавление…
Но дальше, все дальше бежит молитвенная речь, о чужих, о далеких, о всеобщем; только на миг, только слегка остановилась на своем, на родном, на чаемом.
Потом об усопших, – о тех, других, давно оплаканных, почти позабытых, оживающих в слове только в часы этих общих, по всему душевному аиру быстро скользящих молений.
Окончены молитвы. Елена Кирилловна с минуту медлит. Словно еще что-то забыто необходимое.
Что же еще? Или это и всё?
«Всё», – говорит кто-то тихий, равнодушный и непреклонный.
Тогда Елена Кирилловна поднимается с колен. Подходит к окну. Душа её спокойна и равнодушна. Молитва не оставила в ней молитвенного настроения, а только на краткое время вынула из утомленной души всякое конкретное, особенное, будничное переживание.
XVII
Елена Кирилловна смотрит в окно. Она словно опять возвращается из какого-то темного, отвлеченного мира к ярким, красочным, многозвучным впечатлениям грубой, веселой, немножко милой жизни.
На небе высоко, среди светлой, светлой синевы, медленно тая, плыли белые с розовым легкие тучки. Казалось, что у них сквозь холодные, белые тела просвечивает пламенная, алая, как раскаленный ярко уголь, душа, и, пламенея, сжигая белые тела туч, сгорает и сама, и тает, и тонет в холодном, высоком, голубом. Солнце, еще невидное из-за левого угла дома, уже обливало весь сад теплою и радостною волною веселья, смеха и света, в которой купались суетливые стайки птиц.
Елена Кирилловна думает:
«Ну, что-ж, одеваться пора».
И звонит.
Скоро на звонок является Глаша. Елена Кирилловна одевается.
Наконец она готова. Бросает на себя последний взгляд в зеркало, – все ли в порядке.
Волосы у Елены Кирилловны причесаны тщательно, волосок к волоску, и слегка проглажены черным фиксатуаром. От этого они блестят и кажутся склеенными. При каждом движении Елены Кирилловны по ним против света передвигается вправо и влево узкая серебристая ниточка, – световой рефлекс на перегибе заглаженной прически. На лице немножко, чуть-чуть, пудры.
Платье на Елене Кирилловне всегда какого-нибудь светлого цвета, если не совсем белое, и самого простого покроя. Мягкая, мелкая плойка широкого воротника скрывает шею и подбородок. Туфли уже заменены легкими летними башмаками без каблуков.
XVIII
Елена Кирилловна выходит в столовую. Смотрит, как накрывают на стол к утреннему раннему завтраку. Всегда заметит какой-нибудь беспорядок. Тихо брюзжа, сама переставит с места на место что-нибудь на столе.
Потом она идет в переднюю, пустую и просторную, с запертою дверью на крыльцо переднего фасада. Проходит коридором в сени и на заднее крыльцо. Стоит на высоком крыльце, щурится от солнца, и смотрит, что делается на дворе. Маленькая, совсем прямая, как молоденькая институтка, сухонькая, с желтым морщинистым лицом, на котором изображается строгая хозяйственная внимательность, – стоит, смотрит и молчит, никому здесь ни для чего ненужная. Никто не обращает на неё никакого внимания.
Елена Кирилловна говорит:
– Здравствуй, Степанида!
Степанида, дебелая румяная молодка в ярко-красной юбке, из под которой виден белый подол рубахи и загорелые толстые ноги, возится на дворе у крыльца с самоваром, и старательно раздувает его. На её голове зеленый платочек порядливо подтыкан, закрывая сложенные косы словно повойником.
Пузатые бока самовара красно горят на солнце. Над его напрасно изогнутою трубкою клубится в мреющем воздухе синий дым, от которого резко, едко и слащаво пахнет можжевельником и смолою.
На привет старой барыни Степанида поворачивает к ней широкоскулое озабоченно-веселое лицо с крохотными изюминками темно-карих глаз, и певучим, ласковым голосом протяжно говорит: