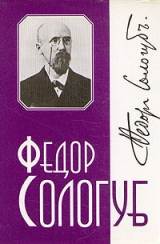
Текст книги "Том 1. Тяжёлые сны"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Барышня с бледными глазами подошла к Анне и заговорила с нею. Логин отошел и встретил Андозерского.
– Ищу визави. Танцуешь? – озабоченно спросил его Андозерский.
– Нет, где мне!
– Так, дружище, нельзя, – что ты кисляем таким? Бери с меня пример. А я тут около Неточки занялся.
– Ну, и что ж?
– А вот надо этого актеришку проучить, Пожарского, – ухаживать вздумал. И какой он Пожарский, – просто буйский мещанин Фролов, и пьяница вдобавок, мразь этакая!
– Не все ли равно! Фролов так Фролов
– Ну да! Да, впрочем, и все здешние актеры-те же золоторотцы, босяки. Надоедят публике, перестанут сборы делать и поплетутся в другой город по образу пешего хождения, на своих подошвах, вздев сапоги на палочку. Ну, пойду искать.
Логин подошел к Нете; она разговаривала с незнакомою Логину барышнею. Сел рядом с Нетою, нагнулся к ее уху и тихо спросил:
– Кто лучше: Пожарский или Андозерский? Нет а вскинула на него глаза и постаралась придать им строгое выражение. Логин спокойно улыбался и настойчиво глядел прямо в ее глаза. Спрашивал:
– Для вас-то кто лучше кажется?
– Послушайте, так нельзя спрашивать, – отвечала Нета с легонькою растяжкою, стараясь выдержать строгий тон.
– Полноте, отчего же нельзя?
– Отчего? Да только вы способны так спрашивать.
– Но, однако, кто же лучше?
Нета засмеялась. Сказала с жеманною ужимкою:
– Андозерский-ваш друг.
– О, я не передам.
– Да, в самом деле? Ах, как вы меня утешили! А я этого-то и боялась.
– Так кто же лучше?
– Знаете, ваш друг чванен и скучен не по возрасту, – сказала Нета.
Сделала капризную гримасу.
– Да. А неправда ли, как мил и остроумен Пожарский?
– Прелесть! – искренним голосом воскликнула Нета.
– А вы не знаете его фамилии?
– Вот странный вопрос!
– Пожарский – по сцене. Настоящая фамилия – Фролов.
– А я не знала.
– Буйский мещанин. В Костромской губернии есть город Буй.
– Что ж из этого? – краснея и досадуя, спросила Нета.
В замешательстве она так сильно, по привычке, щипнула свою щеку, что на ней осталось явственное пятнышко,
– Так, к слову пришлось, – равнодушно усмехаясь, сказал Логин.
Нета замолчала. Логин отошел.
«Я сегодня веду странные разговоры», – подумал он.
Пожарский был первый актер нашего театра. Он нес на своих плечах весь репертуар, играл Хлестакова в «Ревизоре», а иногда и городничего, и Гамлета, и все, что придется, кувыркался в водевилях, умирал в трагедиях, пел куплеты, читал стихи и сцены ид еврейского, армянского, народного и всякого иного быта в дивертисментах. Вне сцены он был разбитной малый, мог выпить водки сколько угодно, мало хмелел при этом и бывал душою общества в компании пьяных купчиков, которых мастерски обыгрывал в стуколку. Состязаться с ним в этом искусстве мог один только Молин.
Публика любила Пожарского, – театр в его бенефисы бывал полон, и ему подносили ценные подарки: иногда серебряный портсигар, иногда роскошный халат с кистями и с ермолкою. Но денег у него не водилось, – все добытое от искусства или от карт немедленно пропивалось. На его счастье, всегда находилась сердобольная вдовушка, которая заботилась об его удобствах. Теперь Нета уязвила его сердце не на шутку – он пил меньше обыкновенного и уже месяца два порвал с своею последнею подругою.
Глава пятнадцатая
Кончилась вторая кадриль. Воздух сделался мглистым. Неприятно пахло духами, потом и ароматною смолкою. Середина залы опустела. Туманными казались неяркие цвета платьев на барышнях. Кавалеры успели проглотить по несколько рюмок водки, но многие из них в антрактах между танцами все еще держались подальше от дам, только глаза их приобретали алчное выражение. Несколько безусых юношей робко вертелись около барышень; они старались быть развязнее и беспрестанно густо краснели. Глаза их блестели, улыбки были пошлые.
Пожарский страстно шептал Нете:
– Видеть вас хоть изредка, хоть издали, чтобы потом унести в памяти ваш милый образ, как святыню, и молиться ему, – и это одно было бы для меня блаженством, для которого стоит жить. Вы одна отнеслись ко мне как к человеку, а не гаеру.
Нета делала актеру нежные глазки. Сказала:
– Но вас здесь так почитают!
– Почитают! Да, пожалуй, даже любят, как шута, как забавника. Никому нет дела до того, что и в груди актера бьется человеческое сердце. Когда мы на сцене, мы заставляем плакать и смеяться, и нам рукоплещут. А в обществе – нас презирают.
– О, неправда!
– Доброе, доброе дитя! Вы еще не знаете людей, они злы и неблагодарны. Актер, по их мнению, всегда ломается, и его чувства не настоящие, и все его поступки – дурацкие выходки. Поскользнись актер на этом паркете – весь зал задрожит от хохота: комедиант коленце выкинул!
– Не все же на свете злые люди, Виталий Федорович.
– Да, да, это верно. Вот, например, господин Логин, – Гамлет, принц датский; он не засмеется, потому что не только актеров – он и весь мир презирает. А вот благородный отец, добродетельный Ермолин, – он слишком высоко парит, чтоб на какого-нибудь фигляра любоваться… Но прочь черные мысли! Пусть толпа командует: смейся, паяц! – передо мною вы, белая голубка в стае черных грачей!
Нета смотрела на актера с восхищением и жалостью; розовые тонкие губы улыбались растроганно; белокурые локоны трепетали над нащипанными украдкой щеками.
Логин сказал Андозерскому:
– Кажется, Неточка находит Пожарского пленительным.
– Ну, это дудки! – самоуверенно отвечал Андозерский.
– Однако взгляни, как они мило беседуют.
– А вот я его спугну.
Андозерский подошел к Пожарскому, бесцеремонно хлопнул его по плечу и сказал:
– Ну что тут лясы точить пойдем, брат, выпьем.
Пожарский быстро глянул на Нету и повел плечом. Его быстрая усмешка и торжествующий взгляд сказали ей:
«Вот видите, я прав!»
Нета вспыхнула и посмотрела на Андозерского гневно засверкавшими глазами. Пожарский встал, принял вид из «Ревизора» и сказал беззаботно, как Хлестаков:
– Пойдем, душа моя, выпьем.
Потом он галантно раскланялся с Нетою и пошел за Андозерским. Нета провожала их опечаленными глазами. Белый веер дрожал и судорожно двигался в ее маленьких руках.
– Пока справки, пока что, – толковал исправник Логину, – меньше года не пройдет.
– Неутешительно, – сказал Логин. – Кто из нас, людей служащих, наверное знает, где он будет через год.
– Что делать, атандеву немножко. Нельзя тяп-ляп да и клетка. Мье тар ке жаме, говорят французы.
– Что, брат, все о своем обществе толкуешь? – спросил хихикая подошедший Баглаев. – Власть предержащую в свою ересь прельщаешь?
– Да вот беседуем о дальнейшем течении этого дела, – ответил за Логина исправник.
– Брось, брат, всю эту канитель: ничего не выйдет. Пойдем-ка лучше хватим бодряги за здоровье отца-исправника.
– Хватить – хватим, только отчего ж ничего не выйдет?
– А вот, я тебе скажу, я тебе в один миг секрет открою. Ну, держи рюмку, – говорил Баглаев, когда они вошли в столовую и протолкались к столику с водкою. – Вот я тебе сначала рябиновой налью, – против холеры лучше не надо, – а потом скажи: кто я таков, а?
– Шут гороховый, – с досадою сказал Логин и выпил рюмку водки.
– Ну, это ты напрасно так при благородных свидетелях. Нет, пусть лучше исправник скажет, кто я.
– Ты, Юшка – городская голова, енондершиш; шеф де ля виль, как говорят французы.
– Нет, не так, а прево де маршан, – поправил казначей, ткнул Юшку кулаком в живот и захохотал с визгом и криком.
– Ну ты, – огрызнулся Юшка, – полегче толкайся, я человек сырой, долго ли до греха. Ну так вот, брат, я – здешняя голова, излюбленный, значит, человек, мозговка всего города, – мне ли не знать нашего общества! Мы, брат, люди солидные, старые воробьи, нас на мякине не проведешь, мы за твоей фанаберией не пойдем, у нас никогда этого не бывало. Вот если я, к примеру, объявлю, что завтра рожать буду, ко мне, брат, весь город соберется на спектакль, в лоск надрызгаемся, а наутро опять чисты как стеклышки, опять готовы «на подвиг доблестный, друзья». Так, что ли, казначей?
– Верно, Юшка, умная ты голова с мозгами!
– Вот то-то. Ну, братвы, наше дело небольшое: выпьем, да ешшо, – чтоб холера не приставала.
– Все это верно, Юрий Александрович, а ты скажи, зачем ты водки так много пьешь? – спросил Логин.
– Ну, сморозил! Где там много, сущую малость, да и то из одной только любви к искусству: уж очень, братцы, люблю, чтоб около посуды чисто было.
– Нельзя, знаете ли, не пить, – вмешался Оглоблин, суетливый и жирный молодой человек, краснощекий, в золотых очках, – такое время-руки опускаются, забыться хочется.
Между тем у другого угла столика Андозерский пил с Пожарским.
– Повторим, что ли, – угрюмо сказал Андозерский. Злобно смотрел на розовый галстук актера, повязанный небрежно, сидевший немного вбок на манишке небезукоризненной свежести.
– Повторим, душа моя, куда ни шло, – беспечно откликнулся Пожарский.
Потянулся за бутылкою и запел фальцетом:
Мы живём среди полей
И лесов дремучих,
Но счастливей и вольней
Всех вельмож могучих.
– Что, брат, не собрался ли жениться? – спросил Андозерский.
Покосился на потертые локти актерского сюртука.
– Справедливое наблюдение изволили сделать, сеньор: публика мало поощряет сценические таланты, – для избежания карманной чахотки женитьба-преотличное средство.
– Гм, а где невеста?
– Невесту найдем, почтеннейший: были бы женихи, а невестой Бог всякого накажет, – такая наша жениховская линия.
– Что ж, присмотрели купеческую дочку?
– Зачем непременно купеческую?
– Ну, мещанскую, что ли?
– Зачем же мещанскую? При наших приятных талантах, да при наших усиках мы и настоящую барышню завсегда прельстить можем, – пройдем козырем, сделаем злодейские глазки, – и клюнет.
– Ну, брат, гни дерево по себе, – со злым смешком сказал Андозерский.
Актер сделал лицо приказчика из бытовой комедии:
– Помилуйте, господин, напрасно обижать изволите. И мы не лыком шиты. Чем мы не взяли? И ростом, и дородством, и обращением галантерейным, да и в темя не колочены. Нет уж, сделайте милость, дозвольте иметь надежду.
– По чужой дорожке ходишь, чужую травку топчешь, – смотри, как бы шеи не сломать.
Актер сделал глупое лицо из народной пьесы, расставил ноги, тупоумно ухмыльнулся и заговорил:
– Ась? Это, то ись, к чему же? То ись, к примеру, невдомек маненечко. Вот, дяденька, обратился он к Гуторовичу, старику актеру на комические роли, – барин серчает, ни с того ни с сего, ажно испужал. Чем его я огорчил? Ей-ей, невдомек.
Морщинистое, дряхлое лицо Гуторовича сложилось в гримасу, которая должна была изобразить смиренную покорность подвыпившего мужичка, и он залопотал, помахивая головою и руками по-пьяному и показывая черные остатки зубов:
– А мы, Виташенька, друг распроединственный, песенку споем, распотешим его высокое– благородие, судию неумытного.
– А и то, споем, старче.
Андозерский пробормотал что-то неласковое и отошел от стола. Пожарский и Гуторович обнялись и запели притворно-пьяненькими голосами, пошатываясь перед столом:
Эх ты, тпруська, ты тпруська бычок,
Молодая телятинка!
Отчего же ты не телишься,
Да на что же ты надеешься?
Эх ты, Толя, ты, Толя дружок,
Молодая кислятинка!
Отчего же ты не женишься,
Да на что же ты надеешься?
Актёров окружила компания подвыпивших мужчин. В середину толпы замешалась развеселая жена воинского начальника; она выпила две рюмки водки с юным подпоручиком, за которым ухаживала. Всем было весело. Гуторович для увеселения зрителей изображал некоторых лиц здешнего общества в интересные моменты их жизни: врача Матафтина, как он осматривает холерных больных на почтительном расстоянии и трепещет от страха; – спесивого директора учительской семинарии Моховикова, как он с неприступно-важным видом и со шляпою в руке расхаживает по классам; – Мотовилова, как он говорит о добродетели и проговаривается об украденных барках; – Крикунова, как он молится, и потом, как дерет за уши мальчишек.
– Вот черт-то! – восклицал Баглаев, – животики надорвешь.
Все это наконец до невыносимости опротивело Логину. Ушел. Гуторович мигнул на него веселой публике, изогнул спину и зашептал:
– Экая беда, – прямо по земле ходить человеку приходится. Пьедестальчик, хоть махонький, а то ведь так же нельзя, господа.
«Господа» радостно захохотали.
Логин вошел в одну из гостиных, где слышался звонкий смех барышень.
«И здесь, наверно, встретится что-нибудь пошлое», – пришло ему в голову.
Увидел Андозерского, – тот успел чем-то насмешить девиц. Среди барышень была Клавдия. Кроме Андозерского, здесь не было других мужчин. Логину показалось, что Андозерский смутился, когда увидел его: круто оборвал бойкую речь. Глаза барышень обратились к Логину, веселые, смеющиеся. Клавдия смотрела задорно; что-то враждебное светилось в глубине ее узких зрачков, и злобно горели зеленые огни ее глаз. Она сказала:
– Мы только что о вас, Василий Маркович, говорили.
И слегка отодвинулась на стуле, чтобы Логин мог сесть на соседний стул, который раньше был прикрыт складками ее юбки.
– Легки на помине! – весело сказала маленькая кудрявая барышня с лицом хорошенького мальчика.
– Любопытно, что интересного нашлось сказать обо мне, – лениво молвил Логин.
– Как не найтись! Вот Анатолий Петрович рассказывал…
– Ну, это шутка, – заговорил было Андозерский.
Клавдия удивленно посмотрела на него. Андозерский сконфуженно повернулся к подошедшей служанке и взял апельсин. Он сейчас же подумал, что апельсин велик и что напрасно было брать его. Ему стало досадно. Клавдия спокойно продолжала:
– Рассказывал, что члены вашего общества должны будут давать тайные клятвы в подземелье, со свечами в руках, в белых балахонах, и что им будут выжигать знаки на спине в доказательство вечной принадлежности. А кто изменит, того приговорят к голодной смерти.
Логин засмеялся коротким смехом. Сказал:
– Какая невеселая шутка! Что же, впрочем, мысль не дурна: одну бы клятву следовало брать, хотя почему ж тайную? Могла бы это быть и явная клятва.
– Какая же? – спросила Клавдия.
– Клятва, – не клеветать на друзей.
– Ну вот, я ведь шучу, – беспечно сказал Андозерский.
– Заешьте клевету сладким, – сказала Клавдия.
Указала Логину на девушку, которая держала перед ним поднос с фруктами.
Логин положил себе на блюдечко очень много, без разбору, и принялся есть. Тонкие ноздри его нервно вздрагивали.
В соседней гостиной тихо разговаривали Мотовилов и исправник. Мотовилов говорил:
– Шибко не нравится мне Логин!
– А что? – осторожным тоном спросил Вкусов.
– Не нравится, – повторил Мотовилов. – У меня взгляд верный, – даром хаять не стану. Поверьте мне, не к добру это общество. Тут есть что-то подозрительное.
– Сосьете, енондершиш, – меланхолично сказал Вкусов.
– Поверьте, что это только предлог для пропаганды против правительства. Надо бы снять с этого господина личину.
– Гм… посмотрим, подождем.
– Он, знаете ли, и в гимназии положительно вреден. К нему ученики бегают, а он их развращает…
– Развращает? Ах, енондершиш!
– Своею пропагандой.
– А!
Хитрое и пронырливое выражение пробежало по лицу Мотовилова, словно он внезапно придумал что-то очень удачное. Он сказал:
– Да я не поручусь и за то, что он… кто его там знает; живет в стороне, особняком, прислуга внизу, он наверху. У меня сердце не на месте. Вы меня понимаете, вы сами отец, ваш гимназист – мальчик красивый.
– Да вы, может быть, слышали что-нибудь? – спросил Вкусов с беспокойством.
– Не слышал бы, так не позволил бы себе и говорить о таких вещах, – с достоинством сказал Мотовилов. – Поверьте, что без достаточных оснований, понимаете, – вполне достаточных! – я бы не решился…
– О чем шушукаетесь? – спросил подходя Баглаев. Мотовилов отошел.
– Да вот о Логине говорим, – печально сказал исправник.
– А! Умный человек! Надменный! Все один! Он, брат, нас презирает, и за дело; мы свиньи! Впрочем, он и сам свинья. Но я его люблю, ей-богу, люблю. Мы с ним большие друзья – водой не разольешь,
Вкусов задумчиво смотрел на него тусклыми глазами, покачивал головою и шамкал:
– Се вре! Се вре!
Глава шестнадцатая
Логин искал, куда бы поставить опорожненное блюдечко, и забрел в маленькую, полутемную комнату. Тоскующие глаза глянули на него из зеркала. Досадливо отвернулся.
– Дорогой мой, какие у вас сердитые глаза! – услышал он слащавый голос.
Перед ним стояла Ирина Авдеевна Кудинова, молодящаяся вдова лет сорока, живописно раскрашенная. У нее остались после мужа дочь-подросток, сын-гимназист и маленький домик. Средства были у нее неопределенные: маленькая пенсия, гаданье, сватанье, секретные дела. Одевалась по-модному, богато, но слишком пестро (как дятел, сравнивала Анна). Бывала везде, подумывала вторично выйти замуж, да не удавалось.
– Что ж вы, мой дорогой, такой невеселый? Здесь так много невест, целый цветник, одна другой краше, а вы хандрить изволите! Ай-ай-ай, а еще молодой человек! Это мне, старухе, было бы простительно, да и то, смотрите, какая я веселая! Как ртуть бегаю.
– Какая еще вы старуха, Ирина Авдеевна! А я очень веселюсь сегодня.
– Что-то не похоже на то! Знаете, что я вам скажу: жениться бы вам пора, золотой мой,
– А вам бы всех сватать!
– Да право, что так-то киснуть. Давайте-ка, я вас живо окручу с любой барышней Какую хотите?
– Какой я жених, Ирина Авдеевна!
– Ну вот, чем не жених? Да любая барышня, вот ей-богу… Вы-образованный, разноречивый.
Подошел Андозерский. Бесцеремонно перебил:
– Не слушай, брат, ее. Хочешь жениться-ко мне обратись: я в этих делах малость маракую.
– Хлеб отбиваете у меня, – жеманно заговорила Кудинова, – грешно вам, Анатолий Петрович!
– На ваш век хватит. У вас пенсия.
– Велика ли моя пенсия? Одно название
– Я, брат, даром сосватаю, мне не надо на шелковое платье. И себя пристрою, и тебя не забуду. Только чур, – таинственно зашептался он, отводя Логин а от Кудиновой, – пуще всего тебе мой зарок-за Нюткой, смотри, не приударь: она – моя!
– Зачем же ты Неточку к актеру ревнуешь?
– Я не ревную, а только актер глазенапы запускает не туда, куда следует, с суконным рылом в калачный ряд лезет. Да и все-таки на запас. Я тебе, так и быть, по секрету скажу: на Нютку надежды маловато, – упрямая девчонка!
– Чего ж ты говоришь, что она-твоя?
– Влюблена в меня по уши, это верно. Да тут есть крючок, – принципы дурацкие какие-то. Поговорили мы с нею на днях неласково. Ну, да что тут много растабарывать: ты мне друг, перебивать не станешь.
– Конечно, не стану.
– Ну, и добре. Вот займись-ка лучше хозяйкой.
– Которою?
– Конечно, молодою. Эх ты, бирюк! Ну, я, дружище, опять в пляс.
Логин остался один в маленькой гостиной. Мысленно примерял роли женихов Клавдии и Неты. Холодно становилось на душе от этих дум.
Нета – переменчивый, простодушный ребенок, очень милый. Но чуть только старался передставить Нету невестою и женою, как тотчас холодное равнодушие мертвило в его воображении черты милой девушки, глуповатой, избалованной, набитой ветхими суждениями и готовыми словами.
«Вот Клавдия – не то. Какая сила, и страстность, и жажда жизни! И какая беспомощность и растерянность! Недавняя гроза прошла по ее душе и опустошила ее, как это было и со мною когда-то. Мы оба ищем исхода и спасения. Но нет ни исхода, ни спасения: я это знаю, она предчувствует. Что нам делать вместе? Она все еще жаждет жизни, я начинаю уставать».
Это были мысли то восторженные, то холодные, а настроение оставалось таким же. Пока вспоминалась Клавдия такою, как она есть, было любо думать о ней: энергичный блеск ее глаз и яркий внезапный румянец грели и лелеяли сердце. Но стоило только представить Клавдию женою, очарование меркло, исчезало.
Иной образ, образ Анны представился ему. Видение ясное и чистое. Не хотелось что-нибудь думать о ней, иначе представлять ее: словно боялся спугнуть дорогой образ прозаическими сплетениями обыкновенных мыслей.
Закрыл глаза. Грезилось ясное небо, белые тучки, с тихим шелестом рожь и на узкой меже Анна-веселая улыбка, загорелое лицо, легкое платье, загорелые тонкие ноги неслышно переступают по дорожной пыли, оставляют нежные следы. Открывал глаза-видение не исчезало сразу, но бледнело, туманилось в скучном свете ламп, милая улыбка тускнела, расплывалась, – и опять закрывал глаза, чтобы восстановить ненаглядное видение. Назойливое бренчанье музыки, топот танцующих, глухой голос юного дирижера, – а над всем этим гвалтом слегка насмешливая улыбка, и загорелые руки в такт музыки двигались и срывали синие васильки и красный мак.
– Однако, вам не очень весело: вы, кажется, уснули, – раздался над ним тихий голос.
Открыл глаза: Клавдия. Встал. Сказал спокойно:
– Нет, я не спал, а так, просто замечтался. Глаза Клавдии, зеленея, светились знойным блеском. Спросила:
– Мечтали о Нюточке?
– Мало ли о чем мечтается в праздные минуты, – ответил Логин.
Натянуто улыбнулся, с чувством странной для него самого неловкости.
– Счастливая Анюточка! – с ироническою улыбкою и легким вздохом сказала Клавдия и вдруг засмеялась. – А я пари готова держать, что вы воображали сейчас Анютку в поле, среди цветов, во всей простоте. Скажите, я угадала?
Логин хмурился и прикусывал зубами нижнюю губу.
– Да, угадали, – признался он.
– Нюточка солнышку рада. Да мотылечки, – говорила Клавдия, и быстро открывала и закрывала веер, и дергала его кружевную обшивку. – А вот теперь она по-бальному. Вам не жаль этого?
– Отчего же?
– Видите, и Нюточка не может стоять выше моды. Глупо, не правда ли? Лучше было бы, если бы мы босые танцевать приходили, да? Однако, прошу вас не задремать: сейчас будем ужинать.
Музыка умолкла. Шумно двинулись к ужину. Ужинали в двух комнатах: в большой столовой и в маленькой комнате рядом. В большой столовой было просторно и чинно. Там собрались дамы и девицы, несколько почтенных старцев скучающего вида и молодые кавалеры, обязанные сидеть с дамами и развлекать их,
Андозерский сидел рядом с Анною и усердно занимал ее. Хорошенькая актриса Тарантина наивничала и сюсюкала, блестя белыми, ровными зубами. Апатичный Павликовский развлекал ее рассказами о своих оранжереях. Биншток говорил что-то веселое Нете, Ната сверкала на него злыми глазами. Гомзин расточал любезности Нате. Каждый раз, когда Ната взглядывала на его оскаленные зубы, белизна которых была противна ей (у Бинштока зубы желтоваты), в ней закипала злость, и она говорила дерзость, пользуясь правами наивной девочки. Мотовилов с суровым пафосом проповедовал о добродетелях. Жена воинского начальника потягивала вино маленькими глотками и уверяла, что если б ей представило случай для обогащения отравить кого-нибудь и если бы это можно было сделать ни для кого неведомо, то она отравила бы. Мотовилов ужасался и энергично восклицал:
– Вы клевещете на себя!
Дряхлый воинский начальник и обе старшие Мотивиловы тихо разговаривали о хозяйстве. Дубицкий рассказывал, как он командовал полком. Зинаида Романовна делала вид, что это ей интересно. Клавдия и Ермолин о чем-то заспорили тихо, но оживленно. Палтусов и жена Дубицкого-она была рада, что муж сидел от нее далеко, – говорили о театре и о цветах.
В маленькой комнате было тесно, весело и пьяно. Здесь были одни мужчины: подвыпивший отец Андрей; Вкусов, беспрестанно восклицавший то по-русски:
– Я, братцы, налимонился! То по-французски:
– Фрерчики, же сюи налимоне!
– И забыл о жене! – попадал ему в рифму Оглоблин. Казначей рассказывал циничные анекдоты; Юшка, красный как свекла; Пожарский и Гуторович, их не забирал хмель, хоть они пили больше всех; Саноцкий и Фриц., неразлучная парочка инженеров; еще штук пять господ с седеющими волосами и наглыми взглядами. Сюда же попал и Логин.
За этим столом пили много, словно всех томила жажда, выбирали напитки покрепче, лили их в самые большие рюмки, не стесняясь тем, что на дне остаются капли иного напитка; ели с жадностью и неопрятно, громко чавкали, говорили громко, перебивали друг друга, переругивались. Разговоры были такие, что даже эти пьяные люди иногда понижали голос, чтоб не услышали дамы. Тогда кружок собеседников сдвигался, сидевшие далеко перегибались через стол, другие наклоняли головы, на короткое время становилось тихо; слышался только торопливый шепот, – и вдруг раскаты разудалого хохота оглашали тесную комнату и заставляли вздрагивать дам в большой столовой.
– Что анекдоты, – сказал с гулким смехом отец Андрей, – слушайте, братцы, я вам лучше расскажу действительное происшествие, бывшее со мною. Какой я на днях сон видел! Вижу я себя в некоем саду, и в том саду стоят все елочки, а на елочках висят лампадочки. В лампа дочках масло налито, светиленки плавают, огонечки теплятся, так это все чинно, благообразно. И вижу я, около тех лампадочек суетятся услужающие. Как только погаснет лампадка, сейчас ее услужающий снимает. Вот я постоял, поглядел, да и спрашиваю, что, мол, это за лампадки. Услужающий и говорит: «Это не простые лампадки, это– судьба человеческая; где ярко горит огонь, там еще много жизни у человека осталось, а где масла мало, тому, говорит, человеку скоро конец». Тут я, братцы, ужаснулся хуже, чем перед архиереем. Однако собрался с духом, да и спрашиваю: «А что, господин, нельзя ли узнать, какая тут моя лампадка?» Повел он меня к одной елочке. Висит там несколько лампадочек, все горят ярко, а одна чуть-чуть теплится. «Вот эта, – говорит, – твоя и есть». Стал я изыскивать средства. Вижу – услужающий отвернулся, Я засунул скорее палец в чужую лампадку, – масло, известно, пристает, – я в свою лампадку его скапнул– огонек опять оживился. И так я несколько раз: как только он отвернется, так я палец в чужую лампадку, а потом в свою, накапываю себе помаленьку. И уж изрядно накапал, только вдруг не остерегся, поторопился, – и попался. Услужающий, как на грех, обернись, и видит, что я пальцем в чужой лампадке колупаюсь. Как он закричит: «Что ты делаешь? Да куда ты лезешь?» Да как хлобыснет меня по роже, аж, братцы, я проснулся.
Гулкое– грохотание носилось вокруг стола.
– И что ж оказывается? Это по морде-то меня жена в сердцах огрела.
Когда хохот затих, Баглаев начал было:
– А вот, господа, когда я служил в сорок второй артиллерийской бригаде…
– Врешь, Юшка, – крикнул Саноцкнй, – никогда ты в артиллерии не служил.
– Ну вот, как не служил?
А ты, голова с мозгами, в каком университете воспитывался?
– В Московском, известно!
– А я так слышал, что тебя из второго класса гимназии выгнали.
– Наплюй тому в глаза, кто тебе это говорил.
– Наплюй сам: вот он здесь, – Константин Степаныч.
– Костя, друг, и это ты? И у тебя язык повернулся? – с укором восклицал Баглаев.
– Знаем мы тебя, городская голова: враль известный, – отвечал Оглоблин. – Вот ты расскажи лучше, как из городской богадельни мальчишки бегают.
– Богадельня-мерзость! – оживился Юшка, – грязь, беспорядок, все крадут, старики и старухи пьянствуют, мальчишки без надзору шляются и шалят.
– Стой, стой, голова с мозгами, – закричал Саноцкий, – кого ты обличаешь? Кто богадельней заведует?
– Известно кто: голова.
– А голова-то кто? За столом хохотали.
– Ловко, Юшка, – восторгался казначей, – забыл, что голова.
– Вовсе не забыл!
– Это он чует, что его прокатят, енондершиш!
– Ничего не прокатят, а я сам не хочу. А богадельню я подтяну.
– Расскажи, отчего у тебя мальчишка дал тягу, – приставал Оглоблин.
– Оттого, что мерзавец: каждый год бегает. Прошлый год убежал, да дурака свалял, – поймали в Летнем саду под кустиком, привели и выдрали; а нынче он опять по привычке, айда в лес, – весну почуял. Негодяй! Не сносить ему головы!
– А ты что ж, нынче в задаток его взъерепенил, что ли? или так, здорово живешь?
– Ничего не в задаток, а не учится! Крикунов пожаловался, а я распорядился.
– Всыпать сотню горячих?
– Ничего не сотню, а всего пятнадцать. При мне и пороли.
– А ты держал, что ли?
– Дурак! Не хочу с дураком и разговаривать!
За столом хохотали, а Юшка злился и бубнил:
– Я голова. Мое дело-распорядиться, а не держать, вот что.
– Юрочка! кричал отец Андрей, – Юрочка, не хочешь ли окурочка?
Логин упрямо молчал, всматривался в пьяные лица и трепет ал от мучительной злобы и тоски. Каждое слово, которое он слышал, вонзалось раскаленною иглою и терзало его. Пил стакан за стаканом. Сознание мутнело. Злоба расплывалась в неопределенно-тяжелое чувство.
Наконец ужин кончился Сквозь шум отодвигаемых стульев, топот ног и весело-оживленный ропот разговоров послышались звуки музыки: молодежь собиралась еще танцевать. Но гости, более отяжелевшие, прощались с хозяевами.
Логин вышел на лестницу вместе с Баглаевым. Юшка увивался вокруг Логина и лепетал что-то. Логин на крыльце протянул руку Баглаеву и сказал:
– Ну, нам в разные стороны.
– Зачем, чудак? Говорю-пойдем пьянствовать.
– Ну вот, мало пили! Да и куда мы пойдем так поздно?
– Уж я знаю, я тебя проведу! Чудород, нас пустят, – убедительно говорил Баглаев. – Даром, что ли, я от жены сбежал? Пусть она мазурку отплясывает, а мы кутнем. Право, чего там, – тряхнем стариной!
Логин подумал и пошел за ним. Скоро их догнал Палтусов. Юшка, хихикая, спрашивал:
– А, волыглаз! Бросил гостей?
– Ну их к черту, – мрачно говорил Палтусов. Твоя жена тебя хватилась, так я обещал тебя найти…
– И напоить, – кончил Логин.
– И доставить домой.
– Ой ли? – хихикал Баглаев. – Так я и пошел домой, держи карман. Нет, черта с два.
– Скажу, не нашел, – говорил Палтусов. – Голова болит, напиться хочется.
– Дело! – сказал Логин.
– Нельзя мне не пить, – объяснял Палтусов. – Жить в России и не пьянствовать так же невозможно для меня, как нельзя рыбе лежать на берегу и не задыхаться. Мне нужна другая атмосфера… Тьфу, черт, здесь и фонари не на месте!.. Исправники, земские начальники, – меня от одного их запаха коробит.
Все колебалось и туманилось в сознании Логина. Сделалось как-то «все равно», С чувством тупого удовольствия и томительного безволия шел за приятелями, прислушивался к их речам и бормотанью. Их шаги и голоса гулко и дрябло отдавались а ночной тишине.
В трактире, куда они зашли через задние двери, дрема начала овладевать Логиным. Все стало похоже на сон: и комната за трактиром, слабо освещенная двумя пальмовыми свечками, – и толстая босая хозяйка в расстегнутом капоте, которая шептала что-то невнятное и, как летучая мышь, неслышно сновала с бутылками пива в руках, – и это пиво, теплое и невкусное, которое зачем-то глотал.
Палтусов говорил что-то грустное и откровенное, о своей любви и о своих муках; имя Клавдии раза два сорвалось у него ненарочно. Юшка лез к нему целоваться и плакал на его плече. Логин чувствовал великую тоску жизни и хотел рассказать, как он сильно и несчастливо любил: ему хотелось бы, чтоб Юшка и над ним заплакал. Но слова не подбирались, да и рассказать было не о чем.
– Зинаида! – воскликнул Палтусов. – Я никогда ее не любил, а теперь она мне ненавистна.








