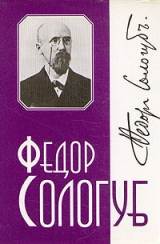
Текст книги "Том 1. Тяжёлые сны"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 39 страниц)
XV
Митя сидел в классе. Был урок истории, и учитель Конопатин спрашивал заданное.
Конопатин был толстый, короткий, быстрый да бранчивый, с пробритым подбородком и длинными седыми баками. У него было как бы два лица: сладко-хитрое для сослуживцев и суровое для учеников. Митя боялся его больше прочих учителей, особенно с тех пор, как он сделался инспектором училища.
Теперь Мите было и страшно, – как бы не спросили, – и скучно, что надо сидеть, молчать и слушать неинтересное. Это утомляло, усыпляло, и уже как будто бы совсем не оставалось своей воли. Мечты роились, – и ничем их было не отогнать.
Что-то бойко рассказывает маленький, рыженький Захаров. Громко сыплет слова, нижнюю губу выставляет вперед, как загородочку, чтобы слова через нее прыгали, а правую руку за пояс засунул. Смешной…
Полупрозрачная, легкая, видится Рая. Томный взор ее спокоен. Митя улыбается ей, – и лицо у него становится неожиданно-радостным…
Потом смуглый, длинный Бодокрасов вышел говорить, – и плохо знает, а хочет припомнить. Ему подсказывают и стараются, чтобы учитель не заметил этого.
Митя улыбается Рае и шепчет:
– Отчего ты далекая? Приди поближе.
Конопатин услышал подсказывание и увидел, что Митины губы шевелятся. Он подумал, что подсказывает Митя.
– Дармостук, ты подсказывать! – закричал он гневно, – давай дневник.
Митя вздрогнул, схватил свой дневник и понес его учителю. Но уже когда дневник был в учителевых руках, Митя вспомнил, что оставил там, вместе с подделанным листом, и лист своего дневника за ту же неделю. Митя испугался и схватился было опять за дневник, – но уже было поздно. По испуганному Митиному движению и по его виноватому лицу Конопатин понял, что дело не ладно, и принялся рассматривать дневник. Два листа на одну неделю, и один из них не вшитый, – и ослабленные нитки, – и разрывы в каждом листе для удобства при вкладывании, – и все сразу бросилось в глаза.
– Те-те-те! – протяжно заговорил Конопатин, – духи малиновые! Это что такое? Ах ты, животное! Дневник подделывать!
И поток бранных слов обрушился на Митю.
XVI
О Митином проступке послали матери письмо. Оно пришло на другое утро, еще пока Митя был в школе.
Митя вернулся, – мать встретила его бранью да колотушками. Барыня, заслышав отчаянные Аксиньины крики, налетела коршуном в кухню.
– Да как ты смел? – кричала она, подступая к оторопелому Мите и тряся его за плечи. – Нет, говори, как ты смел прогуливать! Говори, говори сейчас!
Митя не знал, что сказать, и дрожал от страха.
– Неслуш негодный! – вопила Аксинья, – ты вовсе палец о палец не хочешь делать, а мать из-за тебя из жил тянется. Ты ведь видишь, ты очень хорошо видишь!
– Надо же стараться, ведь ты не маленький, – говорила и Дарья. – Ведь ты хуже всякого животного!
Так они стояли трое против одного, бранили и стыдили его. Лица у них были злые и казались Мите ужасными и отвратительными.
– Выгонят тебя, мерзавца! – голосила мать, – что я с тобою делать буду, с негодяем этаким? Куда ты денешься, образина твоя носастая?
«Умру, как Рая», – подумал Митя. Он молчал и плакал, пожимаясь плечами, как от холода. Из дверей выглядывали, толкаясь, Отя и Лидия, пересмеивались, делали Мите гримасы, – он не замечал их. Отя дразнил его громким шепотом:
– Гуляка-фонарщик! Гуль-гуль-гуль! Гулька! Гульфик! Гуливер! Проходимец!
Урутина услышала и самодовольно усмехнулась: она гордилась Отиным остроумием.
– Я сама пойду завтра в училище, – торжественно объявила она и важно ушла из кухни.
Барынины эти слова произвели большое впечатление. Аксинья, подавленная барыниным великодушием и сыновниным негодяйством, тяжко вздыхала. Дарья говорила с негодованием и укоризной:
– Сама барыня! Из-за этакого, с позволения сказать, ошмётья!
Митя сидел перед учебниками и горько плакал. «Не сон ли это, – думал он, – и школа, и барыня, и вся эта грубая жизнь?»
Он вспомнил, что надо сделать, чтобы проснуться, и с отчаянием ожесточенно принялся щипать себе ноги. Резкое ощущение боли не разбудило его. Он понял, что все это, ужасное, надо пережить. Голова так сильно болела весь день, – хоть бы на миг полегче! Рая утешила. Уже когда свечерело, но еще не зажигали огня, в неверном и таинственном озарении от последних лучей она пришла, поступью легкою и воздушною, незримая ни для кого, кроме одного только Мити. Полупрозрачная, мерцая, она едва застеняла предметы, как застеняют их легкие слезы, сквозь которые трепещет и колеблется мир. Как юная царевна, в одежде белой и торжественной, низанной жемчугами, и в жемчужном кокошнике, с жемчужными подвесками, которые качались под ее ушами и шелестели на плечах о жемчуг на ожерельи, – она стояла перед Митею и глубоким и строгим взором утешала его. Тусклым блеском светились жемчуги и, бледно-желтые, розовели, как белые тучи в небесной высоте при последнем догорании заката.
«Жемчуг – слезы», – робко думал Митя.
– Слезы мои сладкие, – беззвучно ответила Рая.
– Дай мне, Рая, поцеловать твою белую руку, – шепнул Митя.
– Теперь нельзя, мы разные, – нежным голосом сказала Рая, качая головой.
Закачались, зашелестели жемчужные подвески, закачались жемчужные вязи под кокошником, и Рая отошла. Митя увидел, что она не такая, как он. Она – светлая и сильная, он – темный и слабый; он словно заключен в труп, она – вся живая, и вся переливается огнями и светами, и красота ее несказанная смиряет несмолкаемую боль в его бедной голове.
– Останься со мною, не уходи, Рая! – шептал Митя.
– Не бойся, – нежно отвечала Рая, – я буду с тобою, я приду, когда настанет время. И тогда иди за мною.
– Страшно!
– Не бойся, – утешала Рая. – Подумай, – ничего этого не будет. Как легко! И новое небо откроется.
– А Дуня? А мама? – робко спрашивал Митя.
Рая радостно смеялась и озарялась, и жемчуга ее тускло блестели и шелестели. Глубокий взор ее говорил Мите, что надо верить и не бояться, и ждать, что будет, и послушно идти за нею по этой длинной лестнице.
Лестница белая и широкая. Ступени покрыты багряным ковром, на площадках зеркала и пальмы. Рая идет, все выше, и не оглядывается. Белые башмаки ее неторопливо касаются красных ступеней. Вот окно, и за ним светлая дорога, огни, звезды. У Мити крылья, он летит, и тонет в воздухе, и погружается в сладостное забвение.
Вдруг раздался грубый материн голос.
– Дрыхни, сокровище! – кричит она, – дрыхни больше: нагулялся за день.
Толчки, пробуждение, испуг и тоска. Желтые стены, тусклый свет от лампы, ситцевая занавеска, сундуки, самовар. Митино сердце отяжелело.
XVII
Печально ясный длился день. Митя вернулся из училища. Мать молчала и угрюмо возилась у печки. Дарья с таинственным и злым видом ушла зачем-то. Скоро она вернулась. За нею в кухню вдвинулся угрюмый дворник Дементий, рыжий, с неподвижными глазами и широкими сросшимися бровями. Он стал у входной двери, точно прирос. Барыня прошла к нему из коридора мимо Митиной каморки, не взглянув на Митю. Дементий поклонился.
– Здравствуй, голубчик Дементий, – сказала барыня томным голосом. – А где Димитрий? – спросила она, обращаясь к Аксинье и Дарье, которые стояли рядом, словно ожидая чего-то. – Позовите Димитрия! – приказала барыня.
Митя сам вышел из-за перегородки. Все посмотрели на него враждебно, и от этого ему стало страшно.
– Вот, голубчик Дементий, – сказала барыня, показывая на Митю, – возьми ты этого негодяя…
– Слушаю, – с готовностью сказал Дементий и двинулся к Мите.
– Отведи ты его в дворницкую, – продолжала барыня.
– Слушаю, сударыня, – повторил Дементий.
– И накажи его там розгами, да хорошенько. Здесь, при мне, я не могу слышать, у меня нервы, ты сам понимаешь, я – барыня.
Барыня обнаружила признаки волнения и раздражения.
– Слушаю, сударыня, не извольте беспокоиться, – почтительно говорил Дементий.
– Я тебе дам на чай, – сказала барыня и вздохнула.
– Покорнейше благодарю! – радостно воскликнул Дементий, – не извольте беспокоиться, то есть в лучшем виде.
Он взял Митю за локоть. Митя стоял бледный, дрожал и не ясно понимал, что делается. Ужас вдруг охватил его, – словно готовилось что-то невозможное.
– Ну, пойдем, молодчик, – сказал Дементий.
Митя бросился к барыне.
– Барыня, голубушка, миленькая, ради Христа, не надо, – лепетал он, сгибаясь и подымая к барыне полные слезами глаза.
– Иди, иди! – отмахиваясь от него, сказала барыня, – я не могу, у меня нервы. Я барыня, о тебе забочусь, а ты что? Нельзя, иди!
Аксинья стояла, пригорюнившись, вздыхала часто и шумно, и в ее глазах было такое выражение, как у человека, навеки лишенного счастья и надежды. Дарья искоса посматривала на Митю и слегка улыбалась, лукаво и радостно. Митя порывисто стал на колени, кланялся барыне в ноги, целовал ее башмаки, от которых, как и от всей барыни, пахло нежно и сладко, и повторял отчаянные, несвязные слова.
– Возьмите его, я не могу! – воскликнула барыня, не уходя, однако, из кухни и не отымая своих ног.
Она не помнила, чтобы ей так поклонялись; хоть это был только жалкий мальчишка, а все же ей было приятно.
Аксинья и Дементий с ожесточением бросились оттаскивать Митю от барыни. Митя, рыдая и умоляя барыню, упирался и хватался за подоконник, за двери, но Дементий быстро вытолкнул его на лестницу.
Митя почувствовал, что стыдно плакать и сопротивляться: увидят, услышат чужие. Он сказал Дементию:
– Ты хоть не говори, Дементий, никому.
– Ладно, чего мне говорить, – с усмешкой отвечал Дементий. – Ты только не барахтайся, – сам знаешь, надо, – так у меня чтоб без скандала, благородным манером.
Митя старался удержать слезы и принять равнодушный вид. Дементий придерживал его за локоть.
– Голубчик Дементий, – шептал Митя, – иди отдельно хоть сзади, я сам приду.
– Убежишь? – спросил Дементий.
– Куда бежать-то? В воду, что ли? – с досадой сказал Митя.
Дементий участливо посмотрел на него и покачал головой.
– Эх ты, малый, – сказал он, – раньше надо было думать.
Он немного отстал, однако не спускал с Мити глаз. Когда Митя шел по двору, Аксинья и Дарья смотрели на него из кухни в окно. Митя поднял глаза и встретил их неподвижные, враждебные взоры. Он пошел поскорее. «Хорошо, что близко», – смутно думал он; от угловой лестницы надо было пройти несколько шагов вдоль переднего флигеля, по плитяной дорожке, и под ворота…
Вход в дворницкую был из-под ворот. Перед узкою лестницею вниз, в дворницкую, на Митю напал внезапный ужас. Там, за этою дверью, – неужели он сам пойдет туда?
Он метнулся назад, но тотчас попался Дементию.
– Куда? – крикнул Дементий.
Его глаза чаровали Митю, – неподвижные, из-под рыжих, сросшихся, прямых бровей. Дементий захватил Митю в охапку, да так и снес по нескольким ступенькам в дворницкую.
Там охватил Митю кислый запах от овчины и от щей из громадной русской печки. Было тесно и грязно. Большая гармоника красовалась на видном месте. Молодой, недавно нанятый из деревни дворник Василий стоял у окна и снимал кафтан. Его красная рубаха, дюжие руки, румяные щеки, широкие скулы, глупые глаза – все казалось Мите страшным, как у палача. Баба, Дементьева жена, уныло возилась у печки, держа на руках крохотного ребенка, смирного и желтого, как восковая кукла, с неподвижными, как у отца, синими глазами. Дементий поставил Митю на пол. Митя дышал тяжело и боязливо озирался. Подвал с низким потолком, кирпичным полом, небольшими окнами, громадною печью и грубыми запахами казался Мите норою, где живут домовые. Баба невесело поглядела на мужа.
– Барыня из пятого номера мальчонку велела выдрать, – сказал Дементий.
Василий словно обрадовался и оскалил белые, крепкие зубы.
– Что ты? Вот этого? Носастого? – спросил он.
– Этого, – подтвердил Дементий.
– Ай нашкодил? – крикнула любопытная баба. Она сделалась веселою и зарумянилась. Глаза у нее заблестели. Вплотную подошла она к Мите и весело спросила, обдавая его жарким дыханием:
– Да за что это тебя, парень, а?
Митя молчал. Жалость к себе ужалила его.
– Надо быть, недаром, – угрюмо ответил за него Дементий.
– Что ж, разуважим парнишку, – со смехом говорил Василий.
– Посиди пока, паренек, на лавочке, – сказал Дементий Мите, – подожди.
Митя растерянно сел на лавку. Стало невыносимо стыдно. Что-то говорили, двигали какие-то метлы, – прутья шелестели. Дворничиха присела рядом и посмеивалась, заглядывая Мите в лицо. Митя низко наклонял голову и перебирал дрожащими пальцами пуговки у своей блузы. Он чувствовал, что лицо у него красное, и от этого жжет в глазах, красный туман застилает глаза и не дает ничего видеть, и жилы на шее мучительно бьются.
Дементий подошел к Мите…
XVIII
Дома Аксинья встретила Митю грубым смехом и бранью.
– Имею честь поздравить, – злобно сказала она, – с новой баней, с легким паром. Ах ты, скотина долгоносая! Весь-то ты в отца твоего в пьяного. Мало я с одним маялась, другое мне на шею сокровище навязалося.
Злое лицо было у нее и страшное. Пришла и Дарья, смеяться и дразнить.
– Поздравляю вашу милость. Удостоились, нечего сказать. Дурачок, чего ты стоишь? Ай боишься голову на полу потерять, – матери-то чего ж не кланяешься, говорю?
У Мити опять заболела голова, в глазах темнело и кружило.
– Кланяйся, идол, – неистово закричала Аксинья, наскакивая на сына с кулаками.
Митя поспешно поклонился матери в ноги и, припав лбом к полу, тихонько завыл от боли.
Потом повели Митю к барыне. Она сидела в гостиной на диване и раскладывала пасьянс. Заставили кланяться в ноги и ей, но она сказала, что не надо, и сделала ему длинный выговор.
Прибежали барчата, веселые и румяные. Они знали, что сделали с Митей. Барышня думала, что Мите нипочем. Но, увидя, что он плачет и что вообще он жалкий, словно затравленный, она перестала улыбаться и поглядывала на него сострадательно, – ей стало жаль его.
– Так ему и надо, – строго сказал Отя, – хамчик простеганный!..
Лидия рассердилась.
– Ты – злой дурак! – сказала она брату. Он показал ей сразу два кулака и принялся шептать, дразня Митю:
– Насекомый! Березайка! Дрань! Сечка!
Так как барышня пожалела Митю, то Аксинья заставила его и барышне целовать ручки. Барышня была довольна и чувствовала себя очень доброю: вот, мол, я какая, – даже скверного кухаркина сына пожалела!..
«Проклятые, проклятые! – повторял Митя про себя. – Никогда не буду с вами, ничего не сделаю по-вашему».
XIX
Вечерело. Митя сидел на своем обычном месте у окна, глядел в раскрытый учебник и не видел его. Голова страшно болела и кружилась. Предметы, как призраки, то являлись, то снова потухали. Чудилось, что все шатается, все неустойчиво, – и когда красная ситцевая занавеска перед материною кроватью колыхалась, то Митя ждал, что вот сейчас все обрушится и погибнет. Безликие чудища носились над Митею, издевались, и голоса их гудели. Митя заливался горькими слезами.
Вдруг услышал он тихий зов:
– Митя!
Он поднял глаза, – Рая стояла перед ним, белая, светлая и торжественная. Алмазы в ее венце сверкали дивными огнями, багряница была длинная, смарагды и лалы горели на бармах. Яркий луч сиял в Раиной руке. Бледное лицо было торжественно-спокойно и светло. Нежное Раино дыхание колыхало воздух сладостною отрадою. Близко стояла Рая, едва не касаясь Митиных колен. Удивительные слова нежно звучали на ее бледных губах. Она говорила о новых небесах, – там за этими, истлевающими, страшными.
Митя встал и коснулся губами ее лба, – над глазами, повыше бровей.
Рая отошла. Митя сделал было шаг за нею, но наткнулся на сундук и ушиб ногу.
Как здесь тесно! Какая бедная жизнь!.. И понял Митя, что Раи с ним нет, – и никогда не будет…
XX
На другой день был праздник. Митя пел. Толкались певчие, ходил угрюмый дьякон, синий дым от горящего ладана плыл. Рая проходила по солее и глаза ее горели. Образа глядели строго. Утренний свет из широких и высоких окон лился томительно ярко. О каменные плиты на церковном полу стучали каблуки, шаркали подошвы.
Рая вся пламенела тлеющим белым пламенем. Вечерним светом озаряла она предметы, и нездешним, – грубые солнечные лучи не смели спорить с ее кротким сиянием. За ее пламенеющими ризами исчезали предметы.
Головная боль усиливалась и томила Митю.
Раины ризы развевались, колеблемые неземными веяниями. Легкие, прозрачные крылья трепетали за ее плечами. Она была вся ясная, как заря на закате. Ее волосы, сложенные на голове, светлы и пламенны. Нежно говорила она:
– Теперь уже скоро.
Она распростерла крылья и тихо приближалась к Мите. Митя ждал ее, – и вот, она приникла и вошла в него. Сердце его горело…
Церковные песни звали из ненужного, и тесного, и страшного мира. Митя пел, и как чужой звучал ему его голос. Звуки уносились к церковным сводам и там откликались и звали.
Как призраки, двигались люди по каменным плитам. Барыня стояла близ клироса. Она пришла в церковь поздно, – нарочно пришла в эту церковь, последить, чтобы Митя не прогуливал после обедни. Она стояла важная и гордая тем, что так великодушно заботится об этом мальчике, – и все время не спускала с Мити строгих и тупых глаз. Митя подумал, что вот и сегодня опять нельзя идти к Дуне. Ему стало страшно: может быть, в это время Дуню прогонят с чердака, или вовсе погубят, и он никогда ее не увидит.
«Какая злая барыня! – думал он. – Все злые!»
Все предметы хмурились и грозили…
От алтаря, как горний вестник, приближалась Рая, трепеща и сияя дивными крыльями, – яркие, горели ее взоры, – и снова почудилось Мите, что она приникла и вошла в него, – и пламенело его сердце.
Бряцала кадильная цепь, и дым подымался, пахучий и синий…
XXI
На большой перемене Митя грустно стоял в зале у дверей. На солнце набегали тучи, день хмурился. Все утро Митю томила головная боль. От многолюдства и толкотни она грозно возрастала.
Краснощекий Карганов подошел к Мите и хлопнул его по плечу, как большой, хотя сам не дорос до Мити на полголовы.
– Что, брат, невесел, голову повесил? – спросил он, улыбаясь, причем углы у его губ некрасиво оттягивались вниз, и зубы жадно обнаружились, – выстегали, небось? Не беда, заживет до свадьбы! Мне тоже на днях славную баню отец задал, да мне нипочем.
Митя внимательно посмотрел на Карганова: казалось, что на его красных щеках еще слабо синеют полоски, следы от отцовых пощечин. Эти красные щеки, угловатые, полные губы и дерзкие, но беспокойные, словно запуганные, глаза наводили почему-то Митю на мысли о том, как должен был вопить и рыдать Карганов, когда отец его бил. Мите жаль стало Карганова и захотелось утешить.
– Что я тебе расскажу, – ты не разболтаешь? – тихонько спросил Митя.
Карганов так и воткнул в него жадные взоры и принялся уверять:
– Вот, чего мне болтать! Не бойся, рассказывай.
Они сели рядом на скамье. Митя шепотом рассказал, как его наказывали. Карганов слушал с участием.
– Ишь ведь как, в дворницкой, – важно… – сказал он потом и засмеялся.
Он отошел, и Мите вдруг досадно стало на себя: зачем проговорился? Он вспомнил, что Карганов не может не рассказать по всему училищу, и догадывался, что станут дразнить.
Так и случилось. Карганов подходил то к одному, то к другому и с радостным хохотом сообщал:
– Дармостука-то третьего дня в дворницкой пороли.
– Что ты? – с веселым оживлением спрашивали его.
– Ей-Богу, он сам рассказал, – подтверждал Карганов.
Мальчишки радовались, лица у всех оживились, – и маленькие, и большие говорили тем, кто еще не знал:
– Слышал, Дармостука в дворницкой пороли!
Новость разнеслась быстро между школьниками. Мальчишки бодро оправляли пояса и кричали:
– Пойдем дразнить Дармостука!
Они бежали к Мите радостные, оживленные, с торжеством и гамом, и толпились вокруг него. Беленький Душицын засматривал снизу в Митины глаза ласковыми серыми глазками, упираясь руками в колени, кротко улыбался и нежным голосом говорил грубые и неприличные слова, все разные, словно он знал неистощимое множество непристойных речений, относящихся к розгам.
Румяные лица, оживленные искренним весельем, теснились к Мите, а беспощадные глаза жадно всматривались в него. Иные из школьников плясали от радости; иные схватывались по двое руками, бегали вокруг толпы, окружившей Митю, и кричали:
– В дворницкой! Потеха!
Митя порывисто кидался то в одну сторону, то в другую, молча, опустив глаза и виновато улыбаясь. Но маленькие негодяи плотно сгрудились. Увидев, что из этого тесного кольца не выбраться, Митя перестал метаться и стоял бледный и растерявшийся, с потупленными глазами; он казался преступником, отданным на поругание черни. Наконец уже восторг дошел до такого напряжения, что кто-то крикнул:
– Дармостук, ура!
И все мальчишки, звонкими и громкими голосами, закричали:
– Ура! ура! ура! – а-а-а!
По всему училищному дому и на улицу понеслись отголоски звонкого детского веселья.
Из учительской выскочил на шум Конопатин. Навстречу ему побежали несколько школьников и радостно докладывали наперебой:
– Дармостука в дворницкой пороли. Там его дразнят, а он стоит, как филин, глазами хлопает.
Жирное учителево лицо засияло блаженством, широкая улыбка расползлась на его чувственных губах.
– Духи малиновые! – воскликнул он смеющимся голосом, – где же он, покажите, покажите мне его.
Школьники повели Конопатина к толпе, которая расступилась перед ним. Блаженно улыбаясь, Конопатин взял Митю за плечо и повел в учительскую. Мальчишки толпою бежали сзади. Они уже не смели кричать так громко и дразнили Митю вполголоса, – веселые, румяные.
Учителя обрадовались почти так же, как и школьники, – и тоже издевались…
XXII
На другой день Митя ушел с книгами в обычное время и весь день бродил по улицам, медленно и вяло. Все казалось ему тусклым и страшным.
В тягостное самозабвение погружала его все возраставшая головная боль.
Позже обыкновенного, незадолго до заката, пришел он к Власовым. Только взобравшись наверх и перелезая через высокую балку, заметил он, как ноют от усталости ноги и как томительно хочется поскорее сесть.
Власовы радостно суетились, сбирая свои жалкие пожитки: старуха нашла наконец место. От радости руки у обеих дрожали, и улыбки были робкие, словно они еще не совсем смели верить своему счастью.
Митино сердце похолодело от испуга. Они что-то говорили Мите, но он никак не мог связать и понять их слова. Ему казалось, что их гонят с чердака. Отчего же они улыбаются, как безумные, если надо идти на улицу, на жесткие камни?
Дуне жаль было чердака. Она тихо сказала:
– Все лето здесь прожили, все одни. Хоть и впроголодь, зато одни. А как-то теперь Бог приведет жить в людях!
Такая острая жалость пронизала Митино сердце, что он заплакал. Дуня утешала:
– Полно, милый, – даст Бог, увидимся. Приходи к нам, коли пустят. О чем плакать, глупый мальчик?
Она записала карандашом на бумажке свой адрес и дала его Мите. Митя взял бумажку и вертел ее в руках. Так сильно болела голова, что он ничего не мог сообразить. Дуня сказала с ласковой усмешкой:
– Да ты бы в карман положил, – неравно потеряешь.
Митя сунул адрес в карман и тотчас же забыл о нем…
Поздно вернулся он домой. Мать сидела среди кухни на табурете, суровая и печальная, и плакала, вытирая глаза передником. Мите она показалась уродливою и страшною. Она принялась бранить его и бить, и Митя не понимал, за что. Он упорно молчал.
Маленькая лампа тускло светила. Пахло чадом и керосином. Барыня пришла кричать да издеваться. От ее крика звенело в ушах, и точно тяжелые молоты били в голову. Барчата выглядывали из-за двери, Отя гримасничал и дразнился. Дарья протяжно выговаривала укоризненные слова. Тени шмыгали по стенам, – стены, казалось Мите, колебались, потолок нависал и казался близким. Все было как в бреду.
«Как же и зачем же стоять миру, – думал Митя, – если и Дуня погибает!»
XXIII
Утром мать отвела Митю в училище. Дорогой она и плакала, и ругалась, и порой колотила Митю по затылку. От этого Митя наклонялся и спотыкался. Он почти не замечал предметов, погруженный в тупые ощущения невыносимой головной боли. Проблески сознания были мучительны, и тянуло тогда вниз, головой к этим жестким камням, чтобы разбить жестокую боль.
В училище Митя тупо принимал издевки товарищей и учителей. Он был мрачен, как этот день, пасмурный и дождливый. Беду предчувствовал он. Дуня порою печально вспоминалась ему. Уже забыл он, что она оставила чердак, и боялся, что она там умрет с холода и голода.
За час до конца уроков, с большой перемены Митя незаметно убежал из училища, бросив там свои книги. Едва ли сознаваемое им желание укрыться от преследований и поисков влекло его на далекие от училища улицы. Там он долго блуждал, не уставая, не отдыхая. Он заходил во дворы, в сады, в церковь забрел, когда служили вечерню, бежал за шарманщиком, смотрел на марширующих солдат, разговаривал с дворниками, с городовыми, – и все тотчас же забывал.
По временам шел дождь, мелкий, словно просеянный. С деревьев летели мокрые желтые листья.
Уже бред распространился на всю природу, – и все стало сказочным и мгновенным, – вдруг возникали предметы, и вдруг умирали. Яркий Раин взор загорался и потухал…
Наконец Митя пришел туда, где жили Власовы. У чердака внезапный ужас охватил его: чердак был под замком. Митя остановился на последней ступеньке и с отчаянием смотрел на замок. Потом принялся стучать в дверь кулаками. В это время из верхней квартиры вышел дворник, чернобородый угрюмый мужик с ленивыми движениями.
– Чего тебе тут? – спросил он Митю, подозрительно глядя на него. – Чего по чужим лестницам шаришь?
– Тут Власовы жили, – робко сказал Митя, – я к Власовым пришел.
– Никто тут не жил, – ответил дворник, – тут нельзя жить, – тут чердак.
Митя стал спускаться, неловко хватаясь руками за тонкую железную решетку. Дворник внимательно осматривал его, стоя на площадке, и ворчал. Мите было тягостно чувствовать на своем лице и потом на спине его пристальный черный взгляд.
Митя не мог поверить, что Власовых здесь нет. Куда же им деться? – думал он. – Конечно, они погибли на чердаке. Домовые замучили их, этот черный повесил замок и стережет их.
Когда Митя опять шел по улицам, чердак представился ему, – отчетливо, как бы въявь, – и какое-то слабое хрипение послышалось ему. И они представились ему, – на тех же местах, где и раньше сидели. Митя видел, как Дуня умирала, изголодавшаяся, холодная, – мать сидела против нее, закинув кверху цепенеющее, незрячее лицо и протянувши вперед сжатые руки, – обе они умирали и холодели…
И вот они умерли. Неподвижные, холодные, сидят они одна против другой. Ветер из слухового окна струится у желтого старухина лба и колеблет седые, тонкие волоски, выбившиеся из-под платка.
Митя заплакал, – медленные и холодные были слезы. Голод приступами начинал томить его.
XXIV
Митя стоял на берегу над узкой и мутною речкой, опирался локтями о деревянную изгородь и глядел перед собой равнодушными глазами. Вдруг знакомое что-то приковало его внимание. Он увидел вдали, по ту сторону, мать. Она появилась из переулка и шла к мосту, – сейчас будет переходить сюда, где Митя. Она не дождалась сына, испугалась, побежала в училище. Там сказали, что его нет, что он убежал до конца уроков. Тогда она принялась обходить своих знакомых, – не зашел ли к кому.
Митя перебежал через дорогу и укрылся от матери в отворенную калитку, за деревянными воротами. Он прильнул к щели в воротах и тупо ждал. Мать прошла мимо. На ней серый большой платок, старенькая куцавейка. Ее морщинистое лицо, полусклоненное к земле, неподвижно и скорбно…
Жалость к матери томила Митю. Но что же он мог делать, как не таиться?
Она шла быстро, угрюмая и скорбная, и неподвижно смотрела перед собою. Митя высунулся из калитки, смотрел за матерью и глупо улыбался. Не оборачивалась она и уходила в туманную от мелкого дождя даль. Когда она скрылась в далекой влажной мгле, Митя перестал думать о ней и забыл ее. Только жгучая боль от жалости горела в его сердце.
И опять печальные мечтания овладели им. Там, где было так мирно и тихо, где теперь и темно и холодно, они сидят мертвые одна против другой. Дуня держит руки на коленях и смотрит белыми, незрячими глазами, – тонкие веки не замкнули глаз, так она исхудала. Она мертвая. Лампада перед образом погасла. Тишина, холод, мрак на чердаке…
XXV
Всю ночь Митя провел на улицах. Было безлюдно. Кое-где у ворот спал дворник, да изредка извозчик дремал на козлах. Сперва горели фонари. Потом пришел фонарщик и потушил их. Темно и страшно стало. И не найти было ни одного убежища – от жизни, от дождя, от холода, от великой усталости. В сторону от сквозных улиц отходили безнадежные тупики, и трудно было выбираться из них. Митя подходил ко всем воротам и дверям и осторожно пытался открыть их. Напрасно, – люди везде все позаперли. В городе, где не таились ни тигры, ни змеи, люди боялись спать, не оградившись от людей.
Шел дождь, иногда мелкий моросил, иногда польется проливень. Тогда Митя укрывался где-нибудь под навесом, у подъезда. Изредка люди спрашивали Митю, дивясь, что он блуждает в эту пору, и он отвечал почти бессознательно, но подходящими словами. Ему верили, потому что он лгал.
Перед подъездом, где стоял Митя, остановились дрожки. Барин и барыня вышли, позвонили, швейцар их впустил. Он был молодой и любопытный. Зевая, он спросил:
– Чего ты стоишь, мальчик?
– Дождь пережидаю, – ответил Митя, не глядя на него.
– Да куда идешь-то?
– За бабкой послали.
– За бабкой послали, так беги, дура-голова, – озабоченно сказал швейцар, – такое дело не ждет.
– Да я уж назад иду, – спокойно сказал Митя.
– Ну, а бабка? – с удивлением спросил швейцар.
– На извозчике поехала.
– А тебя не взяла?
– Нет, не взяла.
– Тоже, и бабка дура, – решил швейцар. – Ну, уж и бабка!
– Сама села, – рассказывал Митя, – а мне говорит: ты, говорит, и так добежишь.
– Ишь ты, тесно ей, что ли?
– Видно, что тесно.
– Спать, поди, хочешь, мальчик? – участливо спросил швейцар и сладко зевнул.
– Да вот скоро лягу, – сказал Митя, улыбаясь.
Митя побежал по дождю, перепрыгивая через лужи. Он дрожал от холода и от усталости…
XXVI
К рассвету рассеялись тучи. Медленно восходило солнце из-за далекого синего леса за Сновом. Было тихо. Над рекою колыхался туман. Слободы за рекой, нежные и молчаливые, почивали в золотисто-лиловых грезах.
Усталый, бледный Митя стоял на набережной, опершись руками об ее решетку, и радовался тому, что ночь минула, что солнце встало, что над рекою свежесть и туман. И ночь, и все, что было с нею, – ничего не помнил усталый мальчик, радовался и улыбался, и любил каких-то добрых людей, которые там, за рекою, в золотисто-лиловых грезах. Холодно и томно было ему, а в теле разливалась свежая бодрость, – от этой воды, и солнца, и светлого неба, и всей широты поднебесной…
Где-то далеко задребезжали колеса по камням. Эти звуки разбудили все темное в сознании и страшную головную боль. Злые воспоминания заклубились томительным туманом на холодных и влажных камнях. Митя задрожал.








