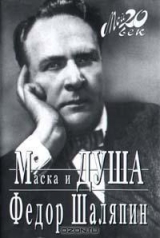
Текст книги "Маска и душа"
Автор книги: Федор Шаляпин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ф.И.ШАЛЯПИН
МАСКА И ДУША
МОИ СОРОК ЛЕТ НА ТЕАТРАХ
Моим детям.

Ф.И.ШАЛЯПИН
(Рисунок Бориса Шаляпина.)
Предисловие
Выпуская в свет мою настоящую книгу, я считаю необходимым обяснить, что побудило меня, певца, никогда литературой не занимавшагося, посвятить мои короткие досуги нелегкому для меня труду – писать. Принято, правда, что люди, достигшие значительной изестности на каком нибудь жизненном поприще, в автобиографии или мемуарах разсказывают своим современникам, в каком году они увидели свет, кто родил их, в какой школе они учились или ленились учиться, как звали девушку, внушившую им первое чувство любви, и как они вышли в люди. Одну книгу добровольцам литературы обыкновенно прощают. Но мой случай сложнее. Этот узаконенный первый грех я уже совершил много лет тому назад. И это меня немного пугает. В детстве я любил красть яблоки с деревьев соседняго сада. Первое воровство садовник мне охотно простил, но когда он поймал меня за этим делом второй раз, то больно отодрал. И вот боюсь, как бы мои доброжелатели не сказали:
– Чего это Шаляпин опять вздумал книгу писать? Лучше бы уж он пел…
Может быть, оно так и есть. Но новую мою книгу я задумал под сильным влиянием одного внешняго обстоятельства, которому противостоять было трудно. Недавно исполнилось сорок лет со дня моего перваго выступления на театральных подмостках в качестве профессиональнаго певца. В это знаменательное для меня юбилейное утро я сделался немного сентиментален, стал перед зеркалом и обратился к собственному изображению с приблизительно такой, слегка выспренней речью:
Высокочтимый, маститый Федор Иванович! Хотя Вы за кулисами и большой скадалист, хотя Вы и отравляете существование дирижерам, а все-таки, как ни как, сорок лет Вы верой и правдой прошли… Сорок лет песни! Сорок лет безпрерывнаго труда, который богам, Вас возлюбившим, бывало угодно нередко осенять вдохновением. Сорок лет постоянного горения, ибо вне горения Вы не мыслили и не мыслите искусства. Сорок лет сомнений, и тревог, и восторгов, и недовольства собою, и триумфов – целая жизнь… Каких только путей Вы, Федор Иванович, не исходили за эти годы! И родныя Вам проселочныя дороги, обсаженныя милыми березами, истоптанныя лаптями любезных Вашему сердцу мужиков, так чудесно поющих Ваши любимыя народныя песни; и пыльныя улицы провинциальных городов родины, где мещане заводят свои трогательныя шарманки и пиликают на немецких гармониках; и блестящие проспекты императорских столиц, на которых гремела музыка боевая; и столбовыя дороги мира, по которым, под мелодию стальных колес, мчатся синие и голубые экспрессы. Каких только песен Вы не наслушались. Какия только песни не пели Вы сами!..
Как в таких случаях полагается, оратор поднес мне приятный юбилейный подарок – золотое автоматическое перо, и так я всем этим был растроган, что дал себе слово вспомнить и передумать опыт этих сорока лет и разсказать о нем, кому охота слушать, а прежде всего самому себе и моим детям…
Должен сказать, что не легко дался мне тот путь, о котором я упоминал в моей юбилейной речи, и не всегда с неба, как чудотворная манна, падало мое искусство. Долгими и упорными усилиями достигал я совершенства в моей работе, бережными заботами укреплял я дарованныя мне силы. И я искренне думаю, что мой артистический опыт, разсказанный правдиво, может оказаться полезным для тех из моих молодых товарищей по сцене, которые готовы серьезно над собою работать и не любят обольщаться дешевыми успехами. Особенно теперь, когда театральное искусство, как мне кажется, находится в печальном упадке, когда над театром столько мудрят и фокусничают. Я смею надеяться, что мои театральныя впечатления, думы и наблюдения представят некоторый интерес и для более широкаго круга читателей.
Не менее театра сильно волновала меня в последние годы другая тема – Россия, моя родина. Не скрою, что чувство тоски по России, которым болеют (или здоровы) многие русские люди заграницей, мне вообще не свойственно. Оттого ли, что я привык скитаться по всему земному шару, или по какой нибудь другой причине, а по родине я обыкновенно не тоскую. Но странствуя по свету и всматриваясь мельком в нравы различных народов, в жизнь различных стран, я всегда вспоминаю мой собственный народ, мою собственную страну. Вспоминаю прошлое, хорошее и дурное, личное и вообще человеческое. А как только вспомню – взгрустну. И тогда я чувствую, глубокую потребность привести в порядок мои мысли о моем народе и о родной стороне. Мысли разнообразныя и безпорядочныя, в разные цвета окрашенныя. От иных плохо спится, от иных гордостью зажигаются глаза, и радостно бьется сердце. А есть и такия, от которых хочется петь и плакать в одно и то же время. Бешеная, несуразная, но чудная родина моя! Я в разрыве с нею, я оставил ее для чужих краев. На чужбине, оторванныя от России, живут и мои дети. Я увез их с собою в раннем возрасте, когда для них выбор был еще невозможен. Почему я так поступил? Как это случилос? На этот вопрос я чувствую себя обязанным ответить. Вот почему я в этой книге уделю немало места воспоминаниям о последних годах моей жизни в России, которая в эти годы называлась уже не просто Россия, а Социалистической и Советской…
Магический кристалл, через который я Россиию видел – был театр. Все, что я буду вспоминать и разсказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а как актер, с актерской точки зрения. Как актеру, мне прежде всего интересны человеческие типы – их душа, их грим, их жесты. Это заставит меня иногда разсказывать подробно незначительные как будто эпизоды. В деталях и орнаментах для меня заключается иногда больше красок, характера и жизни, чем в самом фасаде здания. Этот милый киевский полицейский пристав, дающий мне деловую аудиенцию в ванной, по горло погруженный в воду, и в этом своем безыскусственном положении угощающий меня в не совсем урочный час водкой; этот чудной скверный комиссар, который в два часа ночи будит меня телефонным звонком, чтобы сказать мне, что он хочет непременно и безотлагательно со мною чокнуться и закусить семгой – как не уделит им минуты внимания? Они не менее мне интересны, чем великий князь на спектакле Эрмитажнаго театра, чем первый министр в дворцовом кабинете, чем главнокомандующий армией в своем подвижном салон-вагоне. Это такие же российские люди, такие же актеры на русской сцене, хотя и в различных ролях.
Выше я упоминал о моей первой книге. Хочу в нескольких словах пояснить, чем моя настоящая книга, отличается от той. В «Страницах жизни», написанных много лет назад в России, я дал полный очерк моего детства, но лишь чрезвычайно бегло и неполно осветил мою артистическую карьеру и мое художественное развитие. События, о которых я рассказываю в первой книге, относятся, главным образом, к периоду, предшествующему 1905 г. В настоящей книге я пытаюсь дать полный очерк моей жизни до настоящаго дня. Я тщательно избегаю повторений и упоминаю об иных внешних событиях, разсказанных в первой книге, только мимоходом и лишь постольку, поскольку это необходимо для последовательнаго анализа моей художественной эволюции. Первая книга является, таким образом, внешней и неполной биографией моей жизни, тогда как эта стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства.
Если автору уместно говоришь о качестве своего труда, то я позволю себе указать только на то, что в моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателем без грима…
Часть первая
и. Моя родина
1
В былые годы, когда я был моложе, я имел некоторое пристраспе к рыбной ловле. Я оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на реку. Целые дни до поздняго вечера я проводил на воде, а спать заходил куда попало, к крестьянам. В один из таких отлетов и устроился в избе мельника. Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека в потасканной серой одежде и в дырявых валеных сапогах, хотя было это летом. Он лежал на полу с котомкой под головой и с длинным посохом подмышкой. Так он и спал. Я лег против двери на разостланном для меня сене. Не спалось. Волновала будущая заря. Хотелось зари. Утром рыба хорошо клюет. Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. Скоро начало светать. И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, какето крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошел прямо в дверь. На крыльце он подошел к рукомойнику – к незатейливой посудине с двумя отверстиями, висевшей на веревочке на краю крыльца. С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растер ее, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошел.
Я было собирался со стариком заговорить, да не успел – ушел. Очень пожалел я об этом и захотелось мне хотя бы взглянуть на него еще один раз. Чем то старик меня к себе привлек. Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. Старик уходил вдаль. Долго смотрел я ему вслед. Фигура его, по мере того, как он удалялся, делалась меньше, меньше, и, наконец, исчезла вся. Но в глазах и в мозгу моем она осталась навсегда, живая.
Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. Но они всегда чем то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали где попало. Цель их странствований угадать было невозможно. Я убежден, что если каждаго из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет – он не ответить. Не знает. Он над этимь не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом какомето крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-нибудь бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски – этой совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда безпричинной русской тоски.
В «Борисе Годунове» Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой бродяжной России – Варлаам. На русской сцене я не видел ни удовлетворительнаго Варлаама, и сам я не в совершенстве воплощал этот образ, но настроене я чувствую сильно и обяснить его я могу. Мусоргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги – не то монаха-разстриги, не то просто какого-то бывшаго служителя. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись, а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумать что нибудь разгульно-пьяное, будто-бы смешное. Удивительно изображен Мусоргским горький юмор – юмор, в котором чувствуется глубокая драма. Кргда Варлаам предлагает Гришки Отрепьеву с ним выпить и повеселиться, и он на это получает он на это получает от мальчишки грубое: «пей, да про себя разумей»! – какая глубокая горечь звучит в его реплике: «Про себя! Да что мне про себя разуметь? Э-эх»!.. Грузно привалившись к столу, он запевает веселыя слова – в миноре:
Как едет ён, да погоняет ён,
шапка на ём торчит, как рожон…
Это не песня а тайное рыдание.
Русские актеры обыкновенно изображают Варлаама каким-то отвратительным адкоголиком, жрущим водку, В его страхе перед полицейским приставом актерам обыкновенно мерещится преступность Варлаама: темное за ним, дескать, дело – он боится, как бы его не арестовали. Едва ли это так. Боится ареста? Да он уже арестован, всей своей жизнью арестован. Может быть, он в самом деле уголовный. Зарезал. Плут-то он во всяком случае. Но не в этом суть Варлаама. «Что мне про себя разуметь? – значит, что я и кто я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа Варлаама изранена сознанием своего ничтожества. Куда бы ни ступил он, непременно провалится – в сугроб или в лужу.
Литва-ли, Русь-ли,
Что гудок, что гусли…
Куда бы он ни пошел, он идет с готовым сознанием, что никому он не нужен. Кому нужна мразь?.. Вот и ходит Варлаам из монастыря в монастырь, занимается ловлей рыбы, может быть, в соловецкой обители, шатается из города в город, в прискок за чудотворной иконой по церковным городским приходам. В горсточке держит свечку восковую, чтобы ее не задуло, и орет сиплым басом, подражая протодиаконам: «сокрушите змия лютаго со дванадесятью крылами хоботы». От него пахнет потом, и постным маслом, и ладаном. У него спутана и всклокочена седая борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. Одутловатый, малокровный, однако, с сизо-красным носом, он непременный посетитель толкучаго рынка. Это он ходит там темно-серый, весь поношенный и помятый, в своей стеганой на вате шапке, схожей с камилавкой. Это он зимою «жрет» в обжорном ряду толчка, если есть на что жрать, требуху из корчаги, на которой обыкновенно сидит толстая, одетая в несколько кофт, юбок и штанов торговка: бережет тепло требухи. Это он разсказывает своим трактирным надоедателям, как и за что выгнали его из последняго монастыря:
– Заиокал, заиокал, заиокал и заплясал в корридоре Обители Божьей. Прыгал пьяный, в голом виде, на одной ноге… А Архиерей по этому корридору к заутрени!
Выгнали…
Когда Варлаам крестится, он крестит в сердце своем пятно тоски. Но ничем не стирается оно: ни пляской, ни иоканьем, ни песней… И всего только у него утешения, что читать или петь «Прийдите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и Аз успокою вы». Он знает, что он не труждающийся, но он искренно думает, что обремененный… Да еще подкрепляет он опиумом собственнаго изобретения: есть, дескать, какой-то пуп земли, где живут праведники и откуда его, горемычнаго, не прогонят…
Не знаю, конечно, нужны ли такие люди, надо ли устроить так, чтобы они стали иными, или не надо. Не знаю. Одно только я скажу: эти люди – одна из замечательнейших, хотя, может быть, и печальных, красок русской жизни. Если бы не было таких монахов, было бы труднее жить Мусоргскому, а вместе с ним – и нам всем…
Бездонна русская тоска. Но вдумываясь в образы, которые мне приходилось создавать на русской сцене, я вижу безмерность русскаго чувства вообще, – какое бы оно ни было. Вот в «Хованщине» я вижу религиозный фанатизм. Какой же этот фанатизм сильный и глубокий! Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идуть на смерть во имя своей веры. Стоять у стенки таким образом, что и не думают, повернуть ли им назад. Они головой прошибуть стену и не заметять, что им больно… В «Псковитянке» Римскаго-Корсакова я изображаю Ивана Грознаго. Какое 6езпредельное чувство владычества над другими людьми и какая невообразимая уверенность в своей правоте. Нисколько не стесняется Царь Иван Васильевич, если река потечет не водой, а кровью человеческой…
«И яко да злодеяния бесовсеия да испраздниши. И учеником своим власть давай, еже наступити на змия и скорпия, и на всю силу вражию».
И наступал…
Великая сила в Борисе Годунове, этой наиболее симпатичной мне личности во всем моем репертуаре. Но этот бедняга, хоть и властный Царь, как огромный слон, окруженный дикими шакалами и гиенами, низкая сила которых его в конце концов одолеет. Инстинктивно чувствуя слоновую силу Бориса и боясь этой силы, бояре ходят вокруг да около с поджатыми хвостами, щелкая зубами. Но они смирны только до поры до времени. В удобную минуту трусливая, но хитрая, анархическая и хищная свора растерзает слона. И опять-таки с необузданной широтой развернется русский нрав в крамольном своеволии боярства, как и в деспотии Грознаго.
Размахнется он за все пределы и в разгульном бражничестве Галицкаго в великолепном произведении Бородина «Князь Игорь». Распутство Галицкаго будет таким же безпросветно крайним, как и его цинизм. Не знает как будто никакой середины русский темперамент.
2
Игра в разбойники привлекательна, вероятно, для всех детей повсюду, во всем мире. В ней много романтическаго – враг, опасность, приключения. Но особенно любима эта игра российскими детьми. Едва ли где-нибудь в другой стране разбойники занимают такое большое место в воображении и играх детей, как у нас. Может быть, это потому так, что в России всегда было много разбойников, и что в народной фантазии они срослись с величественной декорацией дремучих лесов России и великих российских рек. С образом разбойника у русскаго мальчишки связанно представление о малиновом кушаке на красной рубахе, о вольной песне, о вольной, широкой размашистой жизни. Быть может, это еще так и потому, что в старыя времена, когда народ чувствовал себя угнетенным барами и чиновниками, он часто видел в разбойнике-бунтаре своего защитника против господскаго засилья. Кто же из разбойников особенно полюбился России? Царь-разбойник, Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и властный, Стенька возстал против властей и звал под свой бунтарский стяг недовольных и обиженных. И вот замечательно, что больше всего в Разине легенда облюбовала его дикий романтический порыв, когда он, «веселый и хмельной», поднял над бортом челна любимую персидскую княжну и бросил ее в Волгу-реку – «подарок от донскаго казака», как поется о нем в песне. Вырвал, несомненно, из груди кусок горячаго сердца и бросил за борт, в волны… Вот, какой он, этот популярный русский разбойник! Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русскаго человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине – просто невозможно. Пусть он и не воплощает России, но не случайный он в ней человек, очень сродни он русской Волге… Находит иногда на русскаго человека разинская стихия, и чудныя он тогда творит дела! Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что мы все – и красные, и белые, и зеленые, и синие – в одно из таких стенькиных навождений взяли да и сыграли в разбойники, и еще как сыграли – до самозабвения! Подняли над бортом великаго русскаго корабля прекрасную княжну, размахнулись по Разински и бросили в волны… Но не персидскую княжну, на этот раз, а нашу родную мать – Россию… «Подарок от донского казака».
Развелись теперь люди, которые готовы любоваться этим необыкновенно-романтическим жестом, находя его трагически-прекрасным. Трагическую красоту я вообще чувствую и люблю, но что-то не очень радуется душа моя русскому спектаклю. Не одну романтику вижу я в нашей игре в разбойники. Вижу я в ней многое другое, от романтизма очень далекое. Рядом с поэзией и красотой в русской душе живут тяжкие, удручающие грехи. Грехи-то, положим, общечеловеческие – нетерпимость, зависть, злоба, жестокость – но такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерныя формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую мятель, когда человека закружит до темноты; не только тоска наша особенная – вязкая и непролазная; но и апатия русская – какая то, я бы сказал, пронзительная. Сквозная пустота в нашей апатии, ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи от такой пустоты, пожалуй, страшно делается.
Не знает, как будто, середины русский темперамент. До крайности интенсивны его душевныя состояния, его чувствования. Оттого русская жизнь кажется такой противоречивой, полной резких контрастов. Противоречия есть во всякой человеческой душе. Это ея естественная светотень. Во всякой душе живут несходныя чувства, но в серединных своих состояниях они мирно уживаются рядом в отличном соседстве. Малые, мягкие холмы не нарушают гармонии пейзажа. Они придают ему только больше жизни. Не то цель высоких и острых гор – оне образуют промежуточныя бездны. Бездны эти, положим, только кажущияся – это, ведь, просто уровень почвы, подошвы гор, но впечатление все таки такое, что тут земля подверглась конвульсиям.
Быть может, это от некоторой примитивности русскаго народа, оттого, что он еще «молод», но в русском характере и в русском быту противоречия, действительно, выступають с большей, чем у других, резкостью и остротой. Широка русская натура, спору нет, а сколько же в русском быту мелочной, придирчивой, сварливой узости. Предельной нежностью, предельной жалостью одарено русское сердце, а сколько в то же время в русской жизни грубой жестокости, мучительнаго озорства, иногда просто безцельнаго, как бы совершенно безкорыстнаго. Утончен удивительно русский дух, а сколько порою в русских взаимоотношених топорной нечуткости, и оскорбительной подозрительности, и хамства… Да, действительно, ни в чем, ни в хорошем, ни в дурном, не знаеть середины русский человек.
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил…
И когда, волнуясь, стоишь на сцене перед публикой, освещенный рампой, и изображаешь это сам, или видишь что вокруг себя, то болезненно чувствуешь каждое малейшее такое прикосновение к своей коже, как лошадь чувствует муху, севшую на живот.
3
И все таки звенит звездным звоном в веках удивительный, глубокий русский гений. Я терпеть не могу национальнаго бахвальства. Всякий раз, когда я восхищаюсь чем нибудь русским, мне кажется, что я похож на того самаго генерала от инфантерии, который по всякому поводу и без всякаго повода говорит:
– Если я дам турке сесть горшок гречневой каши с маслом, то через три часа этот турка, на тротуаре, на глазах у публики, погибнет в страшных судорогах.
– А Вы, Ваше Превосходительсгво, хорошо переносите гречневую кашу?
– Я?!. С семилетняго возраста, милостивый государь, перевариваю гвозди!..
Не люблю бахвальства. Но есть моменты, когда ничего другого сказать нельзя, и вообразить ничем иным нельзя, как именно звездным звоном, дрожащим в небесах, этот глубокий широкий и вместе с тем легчайший русский гений…
Только подумайте, как выражены свет и тень у российскаго гения, Александра Сергеевича Пушкина. В «Каменном Госте» мадридская красавица говорит:
«Приди! Открой балкон. Как небо тихо,
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно, ясно!..
А далеко, на севере – в Париже,
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует»…
Далекое на севере – в Париже. А написано это в России, в Михайловском, Новогородской губернии, в морозный, может быть, день, среди сугробов снега. Оттуда Пушкин, вообразив себя в Мадриде, почувствовал Париж далеким, северным!..
Не знаю, играл ли Александр Сергеевич на каком нибудь инструменте. Думаю, что нет. Ни в его лирике, ни в его переписке нет на это, кажется, никаких указаний. Значит, музыкантом он не был, а как глубоко он почувствовал самую душу музыки. Все, что он в «Моцарт и Сальери» говорит о музыке, в высочайшей степени совершенно. Как глубоко он почувствовал Моцарта – не только в его конструкции музыкальной, не только в его контрапунктах или отдельных мелодиях и гармонических модуляциях. Нет, он почувствовал Моцарта во всей его глубокой сущности, в его субстанции. Вспомните слова Моцарта к Сальери:
«Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать, никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни».
Так именно, а не иначе мог говорить Моцарт. Пушкин не сказал: «силу мелодии», это было бы для Моцарта мелко. Он сказал: «силу гармонии». Потому, что как ни поют звезды в небесах, какия бы от них ни текли мелодии, суть этих мелодий, песен и самых звезд – гармония.
Все противоречия русской жизни, русскаго быта и русскаго характера, образцы которых читатель не раз встретит в моих разсказах, находят, в конце концов, высшее примирение в русском художественном творчестве, в гармонических и глубоких созданиях русскаго гения.








