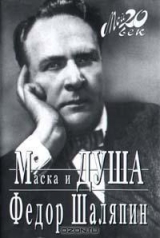
Текст книги "Маска и душа"
Автор книги: Федор Шаляпин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Никакой особенной разницы между первым разом и теперешним я в его пении не заметил. Он только делал какия-то новыя задержания, едва ли нужныя, и пояснял мне, почему они логически необходимы. Я сделал ему некоторыя замечания по поводу его пения и, между прочим, спросил его, что он думает по поводу своей блузы: так ли он к ней привык, что с ней не разстается, или, может быть, у него не хватает денег на другую одежду?…
Вопрос мой, повидимому, смутил молодого человека; однако, улыбнувшись, он сказал мне, что голос звучит одинаково и в блузе, и во фраке. Против этой истины я ничего не возразил. Действительно, подумал я, – голос звучит одинаково…
В то время я играл короля Филиппа ии в «Дон-Карлосе». Молодой человек часто приходил просить билеты на эти мои спектакли: хочет изучить мою игру в «Дон-Карлосе», так как к роли Филиппа ии имеет особое тяготение и надеется, что это будет лучшая из его ролей, когда он начнет свою карьеру. Я ему охотно давал контрамарки. Он приходил затем благодарить меня и говорил, что моя игра переполняет его душу восторгом.
– Вот и чудно, – сказал я ему. – Я рад, что таким образом вы получите несколько наглядных уроков игры.
Прошел еще один учебный год. Снова пришел ко мне молодой певец. В черной блузе, с пояском под животом, снова до боли крепко пожал мне руку.
На этот раз я поступил с ним строго. Я ему сказал:
– Молодой человек. Вот уже 2 года, как вы учитесь. Вы ходили в театр смотреть меня в разных ролях и очень увлекаетесь королем Филиппом ии Испанским. А ходите вы все на кривых ногах в развалку, носите блузу и так от души жмете руки, что потом оне болят. Ваш профессор, очевидно, вам не обяснил, что помимо тех нот, которыя надо задерживать, как вы в прошлый раз это мне логически обяснили, надо еще учиться, как ходить не только на сцене, но и на улице. Удивляюсь, что вы не сообразили этого сами. Голос, конечно, звучит одинаково во всяком костюме, но короля Филиппа ии, котораго вы собираетесь играть, вы никогда не сыграете. Я считаю двухлетний опыт вполне достаточным…
Молодой человек, вероятно, жаловался друзьям, что вот болыше актеры затирают молодых и не дают им дороги… Он этого не говорил бы, если бы понимал, что большими актерами делаются, обыкновенно, люди, с одинаковой строгостью культивирующие и свой дух и его внешния пластичекия отражения.
Высочайшим образцом актера, в совершенстве владевшаго благородной пластикой своего «амплуа», является для меня Иван Платонович Киселевский. Этот знаменитый актер гремел в конце прошлаго века в ролях «благородных отцов», – вообще «джентельменов». Я его видел на сцене, в Казани, когда я был еще мальчик. Лично же я встретился с ним гораздо позже в Тифлисе, в салоне одной знакомой дамы, устроившей раут для гастролировавшей там столичной труппы. Я был еще слишком робок, чтобы вступить с Киселевским в беседу, – я наблюдал за ним издали, из угла. Седые волосы, белые, как лунь, бритое лицо – некрасивое, но интересное каждою морщинкой. Одет в черный сюртук. Безукоризненно завязанный галстук. Обворожительный голос совсем, как бархат. Говорит негромко, но все и везде слышно. Я любовался этой прекрасной фигурой. Киселевскаго пригласили к буфету. Он подошел к столу с закусками и прежде, чем выпить рюмку водки, взял тарелку, посыпал в нее соль, перец, налил немного уксуса и прованскаго масла, смешал все это вилкой и полил этим на другой тарелке салат. Читатель, конечно, удивляется, что я собственно такое разсказываю? Человек сделал соус и закусил салатом рюмку водки. Просто, конечно, но как это сделал Киселевский – я помню до сих пор, как одно из прекрасных видений благородной сценической пластики. Помню, как его превосходная, красивая рука брала каждый предмет, как вилка в его руках сбивала эту незатейливую смесь, и каким голосом, какой интонацией он сказал:
– Ну, дорогие друзья мои, актеры, поднимем рюмки в честь милой хозяйки, устроившей нам этот прекрасный праздник…
Благородство жило в каждой линии этого человка. «Наверное, английские лорды должны быть такими», – наивно подумал я. Я видел потом в жизни много аристократов, лордов и даже королей, но всякий раз с гордостью за актера при этом вспоминал:
Иван Петрович Киселевский…
32
Милые старые русские актеры!
Многих из них – всю славную плеяду конца прошлого века – я перевидал за работой на сцене; но старейших, принадлежавших к более раннему поколенно великаго российскаго актерства, мне пришлось видеть уже на покое в петербургском убежище для престарелых деятелей сцены. Грустно было, конечно, смотреть на выбывших из строя и утомленных болезнями стариков и старух, но все-таки визиты к ним в убежище всегда доставляли мне особую радость. Они напоминали мне картины старинных мастеров. Какие ясные лики! Они были покрыты как будто лаком, – это был лак скрипок Страдивариуса, всегда блистающий одинаково. Эта чудесная ясность старых актерских лиц – секреть, нашим поколением безнадежно потерянный. В ней, во всяком случае, отражалась иная жизнь, полная тайнаго трепета перед искусством. Со священной робостью они шли на работу в свой театр, как идут на причастие, хотя и не всегда бывали трезвыми…
Старый актерский мир был большой семьей. Без помпы и реклам, без выспренних речей и фальшивой лести, вошедших в моду позже, актеры тех поколений жили тесными дружными кружками. Собирались, советовались, помогали друг другу, а когда надо было, говорили откровенно правду:
– Ты, брат, Зарайский, играешь эту роль неправильно.
И как ни был самолюбив Зарайский, задумывался он над товарищеской критикой. И русский актер рос и цвел в славе.
Известно, что русское актерство получило свое начало при Екатерине Великой. Русские актеры были крепостными людьми, пришли в театр от сохи, от дворни – от рабства. Они были вынуждены замыкаться в себе самих, потому что не очень авантажно обращались с ними господа, перед которыми они разыгрывали на сцене свои чувства.
Я сам еще застал время, когда Его Высокопревосходительство г. Директор Императорских театров протягивал самым знаменитым актерам два пальца. Но при этих двух пальцах Его Высокопревосходительство, в мое время, все-таки любезно улыбался, но оте стариков, уже кончавших свою карьеру в Императорских театрах, я знал, что предыдущие директора не протягивали и двух пальцев, а просто приходили за кулисы и громко заявляли:
– Если ты в следующий раз осмелишься мне наврать так, как наврал сегодня, то я тебя посажу под арест.
Не похож ли на анекдот вот этот случай, – подлинный, целиком отражающий печальную действительность того времени.
Я застал еще на сцене одного очень стараго певца, почему-то меня, мальчишку, полюбившаго. Певец был хороший – отличный бас. Но будучи землеробом, он сажал у себя в огородь редиску, огурцы и прочие овощи, служившие главным образом закуской к водк… Был он и поэт. Сам я читал только одно из его произведений, но запомнил. Оно было адресовано его другу, библиотекарю театра, котораго звали Ефимом:
«Фима, у меня есть редька в пальте,
Сделаем из нея декольте,
А кто водочки найти поможет,
Тот и редечки погложет»…
Так вот этот самый превосходный бас, землероб и поэт, перед выступлением в каком-то значительном концерте в присутствии Государя, не во время сделал «декольте» и запел не то, что ему полагалось петь. Директор, который, вероятно, рекомендовал Государю участие этого певца, возмущенный влетел в уборную и раскричался на него так, как можно было кричать только на крепостного раба. А в конце речи, уснащенной многими непристойными словами, изо всей силы ударил по нотам, которыя певец держал в руках. Ноты упали на пол. Певец, до сих пор безропотно молчавший, после удара по нотам не выдержал и, нагибаясь поднять их, глубоким, но спокойным бархатным басом рек:
– Ваше Высокопревосходительство, умоляю вас, не заставьте меня, Ваше Высокопревосходительство, послать вас к … матери.
Как ни был директор взволнован, и в своем гневе и лентах величав, он сразу замолк, растерялся и ушел… История была предана забвению.
Вот почему, в поисках теплаго человеческаго чувства, старые русские актеры жались друг к другу в собственной среде. Не только в столицах, вокруг Императорских театров, но и в провинции они жили своей, особенной, дорогой им и необходимою жизнью. И в их среде, вероятно, ютилась иногда зависть и ненависть – как всегда и везде, – но эти черты не были характерны для актерской среды – в ней господствовала настоящая, хорошая дружба.
Старый актер не ездил по железным дорогам в 1-м классе, как это уже нам, счастливцам, сделалось возможно – довольно часто ходил он из города в город пешком, иногда очень далекия разстояния – по шпалам, а вот лицо его, чем решительнее его отстраняли от высшаго общества, тем ярче и выпуклее чеканилась оно на той прекрасной медали, которая называется «театр».
33
Что же случилось – спрашиваю я себя иногда – что случилось с русским актером, что так стерлось его яркое, прекрасное лицо? Почему русский театр потерял свою прежнюю обжигающую силу? Почему в наших театральных залах перестали по настоящему плакать и по настоящему смеяться? Или мы так уже обеднели людьми и дарованиями? Нет, талантов у нас, слава Богу, запась большой.
В ряду многих причин упадка русскаго театра – упадка, который невозможно замаскировать ни мишурой пустой болтовни о каких то новых формах театральнаго искусства, ни беззастенчивой рекламой – я на первом плане вижу крутой разрыв нашей театральной традиции.
О традиии в искусстве можно, конечно, судить разно. Есть неподвижный традиционный канон, напоминающий одряхлевшаго, склерознаго, всяческими болезнями одержимаго старца, живущаго у ограды кладбища. Этому подагрику давно пора в могилу, а он ко держится за свою безсмысленную, никому не нужную жизнь и распространяет вокруг себя трупный запах. Не об этой формальной и вредной традиции я хлопочу. Я имею в виду преемственность живых элементов искусства, в которых еще много плодотворнаго семени. Я не могу представить себе безпорочнаго зачатия новых форм искусства… Если в них есть жизнь – плоть и дух – то эта жизнь должна обязательно иметь генеологическую связь с прошлым.
Прошлое нельзя просто срубить размашистым ударом топора. Надо разобраться, что в старом омертвело и принадлежать могиле, и что еще живо и достойно жизни. Лично я не представляю себ, что в поэзии, например, может всецело одряхлеть традиция Пушкина, в живописи – традиция итальянскаго Ренессанса и Рембрандта, в музыке – традиция Баха, Моцарта и Бетховена… И уж никак не могу вообразить и признать возможным, чтобы в театральном искусстве могла когда нибудь одряхлеть та безсмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую личность актера, душу человека и богоподобное слово.
Между тем, к великому несчастью театра и театральной молодежи, поколеблена именно эта священная сценическая традиция. Поколеблена она людьми, которые жилятся во чтобы то ни стало придумать что-то новое, хотя бы для этого пришлось насиловать природу театра. Эти люди называют себя новаторами; чаще всего это просто насильники над театром. Подлинное творится без насилия, которым в искусстве ничего нельзя достигнуть. Муссоргский великий новатор, но никогда не был он насильником. Станиславский, обновляя театральныя представления, никуда не ушел от человеческаго чувства и никогда не думал что нибудь делать насильно только для того, чтобы быть новатором.
Позволю себе сказать, что и я в свое время был в некоторой степени новатором, но я же ничего не сделал насильно. Я только собственной натурой почувствовал, что надо ближе приникнуть к сердцу и душе зрителя, что надо затронуть в нем сердечныя струны, заставить его плакать и смеяться, не прибегая к выдумкам, трюкам, а, наоборот, бережно храня высокие уроки моих предшественников, искренних, ярких и глубоких русских старых актеров…
Это только горе-новаторы изо всех сил напрягаются придумать что нибудь такое сногсшибательное, друг перед другом щеголяя хлесткими выдумками.
Что это значит – «идти вперед» в театральном искусстве по принципу «во что бы то ни стало»? Это значить, что авторское слово, что актерская индивидуальность – дело десятое, а вот важно, чтобы декорации были непременно в стиле Пикассо, – заметьте, только в стиле: самого Пикассо не дают… Другие говорят: нет, это не то. Декорации вообще не нужно – нужны холсты или сукна. Еще третьи выдумывают, что в театре надо актеру говорить возможно тише – чем тише, тем больше настроения. Их оппоненты, наоборот, требуют от театра громов и молний. А уж самые большие новаторы додумались до того, что публика в театре должна тоже принимать участие в «действе» и, вообще, изображать собою какого-то «соборнаго» актера…
Этими замечательными выдумщиками являются преимущественно наши режиссеры – «постановщики» пьес и опер. Подавляющее их большинство не умеет ни играть, ни петь. О музыке они имеют весьма слабое понятие. Но за то они большие мастера выдумывать «новыя формы». Превратить четырех-актную классическую комедию в ревю из 38 картин. Они болыше доки по части «раскрытия» намеков автора. Так что, если действие происходить в воскресный, скажем, полдень в русском губернском городе, т. е. в час, когда на церквах обычно звонят колокола, то они этим колокольным звоном угощают публику из-за кулис. Малиновый шум заглушает, правда, диалог; за то талантливо «развернуть намек»… Замечательно, однако, что уважая авторские намеки, эти новаторы самым безцеремонным образом обращаются с его текстом и с точными его ремарками. Почему, например, «Гроза» Островскаго ставится под мостом? Островскому никакой мост не был нужен. Он указал место и обстановку действия. Я не удивлюсь, если завтра поставят Шекспира или Мольера на Эйфелевой башне; потому что постановщику важно не то, что задумал и осуществил в своем произведении автор, а то, что он, «истолкователь тайных мыслей» автора, вокруг этого намудрил. Естественно, что на афише о постановк, например, «Ревизора» скромное имя «Гоголь» напечатанно маленькими буквами, и аршинными буквами – имя знаменитаго постановщика Икса.
Глинка написал оперу «Руслан и Людмилу». Недавно я имел сомнительное удовольствие увидеть эту старейшую русскую оперу в наиновейшей русской-же постановке. Боже мой!.. Мудрствующему режиссеру, должно быть, неловко было говорить честной прозой – надо было во что бы то ни стало показать себя новатором, выдумать что нибудь очень оригинальное. В этой пушкинской сказке все ясно. Режиссер, однако, выдумал нечто в высшей степени астрономическое. Светозар и Руслан, видите-ли, символизируют день, солнце, а Черномор – ночь. Может быть, это было бы интересно на кафедре, но почему публике, пришедшей слушать оперу Глинки, надо было навязывать эту замысловатую науку, мне осталось непонятным. Я видел только, что в угоду этому замыслу – не снившемуся ни Пушкину, ни Глинке – декорации и постановка оперы сделаны были в крайней степени несуразно.
Пир в киевской гриднице Светозара. Глинка, не будучи астрономом, сцену эту разработал, однако, недурно. Постановщик решил, что этого мало, и вместо гридницы построил лестницу жизни по мотиву известной лубочной картины – восходящая юность, нисходящая старость – и гости почему-то пируют на этой символической лестнице. На небе появляются при этом звезды разных величин, а на полу косо стоит серп луны: так, очевидно, полагается. Вместо луны светят лампионы так, что бьют в глаза зрителям и мешают разсмотреть остальныя новшества. Бороду Черномора несут на какой-то особенной подушке, которая должна, вероятно, символизировать весь мрак, окру-жающий бороду, или что-то такое в этом роде. Но самое главное и удивительное это то, что во время самой обыкновенной сцены между Наиной и Фарлафом вдруг неизвестно почему и для чего из-за кулис появляются какия то странныя существа, не то это мохнатыя и кюряво-ветвистыя деревья, не то это те черти, которые мерещутся иногда алкоголикам. Таких сущесгв выходить штук двенадцать, а их неть ни в тексте Пушкина, ни в музыке Глинки.
Или вот, ставят «Русалку» Даргомыжскаго. Как известно, в первом действии этой оперы стоит мельница. Выдумщик-режиссер не довольствуется тем, что художник написал декорацию, на которой изобразил эту самую мельницу, он подчеркиваеть ее: выпускает на сцену молодцов, и они довольно долгое время таскают мешки с мукой, то в мельницу, то на двор. Теперь прошу вспомнить, что на сцене в это время происходить глубокая драма. Наташа в полуобморочном состоянии сидит в столбняке, еще минута – и она бросится в воду топиться, – а тут мешки с мукой!
– Почему вы носите мешки с мукой? – спрашиваю я постановщика.
– Дорогой Федор Иванович, надо же как нибудь оживить сцену.
Что ответить? «Ступай, достань веревку и удавись. А я уже, может быть, подыщу кого нибудь, кто тебя сумеет оживить…».
Нельзя – обидится! Скажет: Шаляпин ругается.
34
Не во имя строгаго реализма я возстаю против «новшеств», о которых я говорил в предыдущей главе. Я не догматик в искусстве и вовсе не отрицаю опытов и исканий. Не был ли смелым опытом мой Олоферн? Реалистичен ли мой Дон-Базилио? Что меня отталкивает и глубоко огорчает, это подчинение главнаго – аксессуару, внутренняго – внешнему, души – погремушке. Ничего не имел бы я ни против «лестницы жизни», ни против мешков с мукой, если бы они не мешали. А они мешают певцам спокойно играть и петь, а публике мешают спокойно слушать музыку и певцов. Гридница спокойнее лестницы – сосредотачивает внимание, а лестница его разсеивает. Мешки с мукой и чертики – уже прямой скандал.
Я сам всегда требую хороших, красивых и стильных декораций. Особенность и ценность оперы для меня в том, что она может сочетать в стройной гармонии все искусства – музыку, поэзию, живопись, скульптуру и архитектуру. Следовательно, я не мог бы упрекнуть себя в равнодушии к заботам о внешней обстановке. Я признаю и ценю действие декорации на публику. Но произведя свое первое впечатление на зрителя, декорация должна сейчас же утонуть в общей симфонии сценическаго действия. Беда же в том, что новаторы, поглощенные нагромождением вредных, часто безсмысленных декоративных и постановочных затей, уже пренебрегают всем остальным, самым главным в театре, – духом и интонацией произведения, и подавляют актера, первое и главное действующее лицо.
Я весьма ценю и уважаю в театральном деятеле знания, но если своими учеными изысканиями постановщик убивает самую суть искусства, – то его науку и его самого надо из театра безпощадно гнать.
Режиссер ставит «Бориса Годунова». У Карамзина или у Иловайскаго он вычитал, что самозванец Гришка Отрепьев бежал из монастыря осенью, в сентябре. Поэтому, ставя сцену в корчме с Гришкой и Варлаамом, он оставляет окно открытым и за окном дает осенний пейзаж – блеклую зелень.
Хронология торжествует, но сцена погублена.
Мусоргский написал к этой картине зимнюю музыку. Она заунывная, сосредоточенная, замкнутая – открытое окно уничтожает настроение всей сцены…
С такого рода губительной наукой я однажды столкнулся непосредственно на Императорской сцене.
Владимир Стасов сказал мне как-то.
– Федор Иванович, за вами должок. Вы обещали спеть как нибудь Лепорелло в «Каменном госте» Даргомыжскаго.
Желание Стасова для меня было законом. Я сказал директору Императорских Театров В.А.Теляковскому, что хочу петь в «Каменном госте». Теляковский согласился. Я пристулил к работе, т. е. стал заучивать мою и все остальныя роли пьесы, как я это всегда делаю. Сижу у себя дома в халате и разбираю клавир. Мне докладывают, что какой-то господин хочет меня видеть.
– Просите.
Входить господин с целой библиотекой подмышкой. Представляется. Ему поручено поставить «Каменнаго гостя».
– Очень рад. Чем могу служить?
Постановщик мне обясняет:
– Легенда о Дон-Жуане весьма стариннаго происхождения. Аббат Этьен на 37-й странице иии тома своего классическаго труда относит ея возникновение к Xии веку. Думаю ли я, что «Каменнаго гостя» можно ставить в стиле Xии века?
– Отчего же нельзя, отвечаю. Ставьте в стиле Xии века.
– Да, – продолжает ученый мой собеседник. – Но Родриго дель Стюпидос на 72-й странице П тома своего не менее классическаго труда поместил легенду о Дон-Жуане в рамки XиV века.
– Ну, что-же. И это хорошо. Чем плохой век? Ставьте в стиле XиV века.
Прихожу на репетицию. И первое, что я узнаю, это то, что произведете Даргомыжскаго по Пушкину ставят ве стиле Xии века. Узнал я это вот каким образом. У Лауры веселая застольная пирушка. На столе, конечно, полагается быть канделябрам. И вдруг постановщик заметил, что канделябры не соответствуют стилю аббата Этьена. Пришел он в неописуемое волнение:
– Григорий! Рехнулся, что-ли? Что за канделябры! Тащи канделябры Xии века… Григорий!..
Появился бутафор. Малый, должно быть, Vии века и о Xии веке не слыхивал.
Ковыряя в носу, он флегматически отвечает:
– Так что, г. режиссер, окромя, как из Хюгенотов, никаких канделябрей у нас нет…
Очень мне стало смешно.
– Бог с ними, – думаю, – пускай забавляются. Приступили к репетициям. Пиршественный стол поставлен так, что за ним не только невозможно уютно веселиться, но и сидеть за ним удобно нельзя.
Вступает в действие Дон-Карлос. По пьесе это грубый солдафон. Для прелестной 18-ти летней Лауры он не находить за пиром никаких других слов, кроме вот этих:
…Когда
Пора пройдеть, когда твои глаза
Впадут, и веки, сморщась, почернеють,
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда что скажешь ты?
Роль этого грубаго вояки должен петь суровый бас, а запел ее мягкий лирический баритон. Она, конечно, лишилась характера. Постановщик же, поглощенный канделябрами, находил, повидимому, безкостный тон певца вполне подходящим – ничего не говорил. Об этом не сказано ничего ни у аббата Этьена, ни у Родрига дель Стюпидоса…
Послушал я, послушал, не вытерпел и сказал:
– Пойду я, господа, в баню. Никакого «Каменнаго гостя» мы с вами петь не будем.
И ушел. «Каменный гость» был лоставлен без моего участия и, разумеется, предстал перед публикой в весьма печальном виде.







