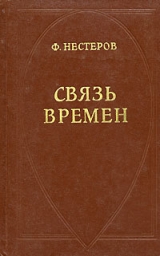
Текст книги "Связь времен"
Автор книги: Федор Нестеров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
При всей жестокости классовой политики царского самодержавия по отношению к так называемым «инородческим» народам она в отличие от колониальной политики Запада не вела к физическому уничтожению местного населения. Герцен, одним из первых подметивший особенность развития России вширь, так писал, сравнивая методы российской и американской колонизации: «Но Россия расширяется по другому закону, чем Америка; оттого, что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир, идущий во все стороны, но крепко сидящий на собственной земле. Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собой все; каждый шаг, приобретенный ими, – шаг, потерянный индейцами. Россия… как вода, обходит племена со всех сторон, потом накрывает их однообразным льдом самодержавия…» [11].
В подтверждение мысли Герцена приведем описание взаимоотношений между коренным сибирским и пришлым русским населением в труде современного советского историка А. А. Преображенского:
«Сосуществование их (народов Сибири) с поселениями русских трудовых людей, увеличение общей численности нерусского населения за это время (исследование охватывает период с конца XVI до XVIII века включительно. – Ф. Н.) – факты, доныне никем не опровергнутые. Одного этого достаточно для того, чтобы сделать вывод о неантагонистичности встретившихся на восточных окраинах социальных отношений русского и местного населения. Автор далек от мысли представлять эти отношения в идиллическом свете, лишенными внутренних противоречий и внешних их проявлений, не всегда бескровных и мирных. Можно было бы привести в дополнение к известным немало новых фактов, свидетельствующих о захватах ясачных угодий русскими новопоселенцами, о жалобах местных жителей на сокращение возможностей охотничье-промыслового хозяйства в связи с этим. Такое хозяйство, как известно, требовало во много раз больших площадей, чем земледельческое. Но малочисленность и разбросанность аборигенов на огромных, крайне слабо заселенных пространствах сводила до минимума всевозможные коллизии на хозяйственной почве. Не думаем, чтобы приукрашивали действительность крестьяне Краснопольской слободы в одной из своих челобитных, когда писали, что после поселения окрестные выгуличи «на озера и на истоки рыбу ловить пускали и в лесе тетерь ловить пускали же, спон и запрену с ними не бывало, жили в совете». В середине XVII века коренные жители южных районов Енисейского края, по словам русских переселенцев-крестьян, «не спорят, дают селиться спокоем». Острота противоречий притуплялась и другими обстоятельствами, содействовавшими развитию скорее центростремительных, нежели центробежных сил даже в той исторической обстановке.
Многоукладность экономического быта пришлого русского населения, преимущественно крестьянский характер колонизации, в общем и целом довольно последовательно проводимая царским правительством охранительная политика по отношению к ясачным людям – эти и другие факторы облегчали совместную жизнь русского и нерусского народов в рамках единой государственности.
…Проводя политику угнетения народов Урала и Западной Сибири на почве главным образом ясачных поборов, Российское государство вместе с тем осуществляло меры, которые не отталкивали бы местные народы от «государевой милости». В литературе очень хорошо знакома формула царских грамот и наказов действовать, имея дело с ясачными людьми, «лаской, а не жесточью». Запрещая аборигенам и русским торговать в ясачных волостях до внесения ясака, правительство, с другой стороны, освобождало нерусских жителей от уплаты наиболее обременительных таможенных пошлин при торговых операциях» [12].
Сопоставим некоторые факты. Ко времени появления англичан в Северной Америке насчитывалось 2 миллиона индейцев, к началу XX века их осталось не более 200 тысяч [13]. В русской Сибири писцовые книги в тот же самый период указывают на неуклонный рост ясачного, то есть коренного, населения [14]. Демократически избранные законодательные собрания колоний Новой Англии назначают цену за каждый доставленный индейский скальп от 50 до 100 ф. ст. – плата варьировала в зависимости от того, снят ли скальп с взрослого мужчины-воина, или с женщины, или с ребенка [15]. Между тем «варварское и тираническое» московское правительство проводит охранительную политику по отношению к нерусским сибирским народам. К примеру, царский указ от 1598 года запрещает местным русским властям брать у тюменских татар подводы для гонцов, освобождает от ясака татар и вотяков бедных, старых, больных и увечных, предписывает зачислять в стрельцы крестившихся ясачных людей, что также влекло за собой освобождение от ясака [16].
Русское государство, постоянно страдающее от недостатка как рабочих рук, так и рук, умеющих владеть мечом и копьем, стремится не вытеснить, а, напротив, поставить себе на службу людские ресурсы побежденного противника. Потому-то Россия, отстаивая свое существование, никогда не вела войн на истребление. Она предпочитала превращать бывших врагов в своих верных слуг.
Великий литовский князь Ольгерд трижды пытался копьем добыть Московский Кремль, а его сыновья уже служат Москве, да как служат! Ольгердовичи во главе своих литовско-русских дружин покрыли себя славой на Куликовом поле. Летопись с похвалой отзывается и о храбрости бывшего татарского мурзы Мелика, командовавшего в той же битве русским Сторожевым полком [17].
Создание многонациональной державы, сочетающей в себе народы различных культур, верований и традиций, предполагает наличие потребности в этом с той и другой стороны. Москва, получив ярлык на великое княжение, потому преуспела в своей объединительной миссии, что умела поставить общерусский интерес выше своего местного: московское боярство без сопротивления уступает ближайшее к трону место потомкам удельных князей; московские дети, боярские и дворяне, покорно покидают свои подмосковные поместья, расселяясь по царскому указу под Новгородом Великим, Новгородом Нижним, Псковом, Рязанью, Тверью, Смоленском, чтобы на равных основаниях с местными помещиками нести службу «головой и копьем». Избранная «тысяча» московского дворянства, своего рода царский гвардейский корпус, «испомещенный» вокруг столицы, на деле состоял из выходцев из всех русских земель. Нет ничего удивительного в том, что правительство многонациональной Российской державы исходит в дальнейшем в своей внутренней политике не из узкорусских, а прежде всего из своих классовых, то есть общегосударственных интересов.
Вот несколько характерных примеров. В середине XV века русские поселенцы в Вятке вместе с князьями из коренного населения грабят московских купцов, чем наносят ущерб государевой казне. В 1489 году царское войско учинило разгром Вятке, весь полон был приведен в Москву. Иван III русских вожаков разбойничьих шаек велел повесить, прочих русских вместе с женами и детьми расселить по другим городам и селам, а местных князей с их разоруженными дружинами «пожаловал», отпустив на родину с миром. В указе князю Хованскому, посаженному воеводой в Новгород Великий в XVII веке, в частности, говорилось о том, чтобы «в осадное время чухнов, латышей и порубежных русских крестьян в город (крепость) не пускать, держать их на посаде во рвах, а жен их и детей пускать в город». Другими словами: никаких различий по национальному признаку не делалось.
В ходе объединения русских земель Москва усиливается сама и обессиливает своих соперников, великих князей тверских, рязанских и нижегородских, стягивая отовсюду к себе на службу основную боевую силу того времени – боярство. Ту же самую политику проводит Московия и по отношению к своим нерусским противникам, оттого родословные русского боярства производили на Ключевского впечатление «этнографического музея»: «Вся русская равнина со своими окраинами была представлена этим боярством во всей полноте и пестроте своего разноплеменного состава, со всеми своими русскими, немецкими, греческими, литовскими, даже татарскими и финскими элементами» [18]. Здесь, очевидно, вопрос об этнической «чистоте» и сравнительном «благородстве» или «низости» национальных элементов никогда не поднимался. Напротив, Иван Грозный с гордостью писал шведскому королю: «Наши бояре и наместники известных прирожденных великих государей дети и внучата, а иные ордынских царей дети, а иные польской короны и великого княжества литовского братья, а иные великих княжеств тверского, рязанского и суздальского и иных великих государств прироженцы и внучата, а не простые люди» [19].
Литовские Гедиминовичи мечтали стать господами всей русской земли – они ими стали, превратившись в русских князей Патрикеевых, Голицыных, Куракиных и других, которые в московской иерархии заняли место лишь ступенькой ниже Рюриковичей. И они повели русскую рать на Вильно. Ливонский крестоносный орден видел смысл своего существования в борьбе против неверных и в натиске на Восток; в этом смысле Иван Грозный предоставил ему столь широкое поле действий, о котором самые смелые и честолюбивые магистры не смели и мечтать. Царь поселил пленных рыцарей вдоль Оки, чтобы они с мечом в руке стояли против татарских орд, защищая границы Московского государства, а заодно и европейскую христианскую цивилизацию. Под московским кнутом рыцари очень скоро возродили свою утраченную было ими воинскую доблесть, и Грозный пожаловал многих из них за исправную службу, испоместив под столицей и включив в отборную «тысячу» московского дворянства. Других «дранг нах Остен» увлек еще дальше. В отряде воеводы Воейкова, которому пришлось после гибели Ермака добивать хана Кучума, русские стрельцы и казаки составляли лишь ядро; большая часть была из служилых татар, пленных литовцев, поляков и немцев. Далеко в Сибирь от стен Ревеля и Риги занесло свой крест крестоносное воинство. Но и обратно, то есть с Востока на Запад, под знаменем Москвы шли вольные дети степей. Касимовские, ногайские и казанские татары вторгаются во владения Ордена и доходят до Балтийского моря. Итак, все действуют в соответствии со своими природными наклонностями, унаследованными от предков стремлениями, заветными желаниями.
Кстати сказать, после завершения Ливонской войны пленные немцы, поляки, литовцы, латыши, эстонцы получили возможность вернуться на родину. Эмиссары польского короля разыскивали их по всем русским городам и весям, следя за тем, чтобы не чинилось никаких препятствий к их репатриации, однако лишь меньшая их часть пожелала уехать. После Северной войны порядком обрусевшие в плену солдаты и офицеры Карла XII отказываются возвратиться в Швецию. После войны 1812–1813 годов та же картина: пленные французы в большей своей части остаются в России навсегда.
Даже верность исламу не препятствовала достижению высокого служебного положения в Московском государстве. Иван III, отправляясь в поход на Новгород, оставляет управлять землею и стеречь Москву татарского царевича Муртазу – имя показывает ясно, что его владелец остался мусульманином.
Коренному населению Казанского ханства не грозило насильственное обращение его в христианство после падения Казани. Первому архиепископу, отбывающему в недавно завоеванный город, в Кремле даются совершенно четкие указания: «страхом к крещению отнюдь не проводить, а проводить только лаской»; [20]. Москва, очевидно, была гораздо больше заинтересована в том, чтобы сабли казанских татар, хотя бы и мусульманские, были на ее стороне, нежели в православной «чистоте» города.
В следующем, XVII веке послы Алексея Михайловича разъясняют в Варшаве: «…Которые у великого государя подданные римской, люторской, кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем никакой тесноты в вере не делается, за верную службу жалует их великий государь» [21]. Европейцы, к этому времени уже получившие от Генриха IV и Ришелье первые уроки веротерпимости, одобряли подобный подход московского правительства к «римской, люторской и кальвинской» верам, но не к «калмыцкой» и не к «татарской». Яков Рейтенфельс, проживший в Москве с 1671 по 1673 год, с явным отвращением пишет о том, что там «татары со своими омерзительными обрядами… свободно отправляют свое богослужение» [22]. В XVIII веке Петр I в воинском уставе наставляет своих генералов, офицеров и солдат: «Каковой ни есть веры или народа они суть, между собой христианскую любовь иметь» [23].
Тот же узел, что связал воедино все русские земли, стал завязью и для более широкого, многонационального Российского государства. Лорд Керзон писал:
«Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в чужие дела; и терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности. Замечательная черта русификации, проводимой в Средней Азии, состоит в том применении, которое находит завоеватель для своих бывших противников на поле боя. Я вспоминаю церемонию встречи царя в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва… в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии, которая сама является лишь ответвлением от теории «объятий и поцелуев после хорошей трепки» генерала Скобелева. Ханы были посланы в Петербург, чтобы их поразить и восхитить, и покрыты орденами и медалями, чтобы удовлетворить их тщеславие. По возвращении их восстановили на прежних местах, даже расширив старые полномочия… Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов» [24].
Не так уж трудно вскрыть исторические корни такого различия. Вспомним, что Московское царство было неправовым государством, требовавшим от своих подданных военной службы и тягла, но не предоставлявшим им взамен прав. Но там, где не было прав, не могло быть и неравенства в правах. Русское бесправное население не могло смотреть свысока на новых, нерусских, подданных; в условиях непрекращавшейся борьбы на два-три фронта всякий встающий в строй или впрягающийся в общее тягло быстро становился товарищем. Встающий в строй сливался с правящим классом, трудовые же массы разных народов также постепенно сближались и смешивались друг с другом. Россия росла сплочением народов, причем собственно русский элемент с природной пластичностью играл роль цемента, соединяющего самые разнообразные этнические компоненты в политическую общность. Мозаичная Российская империя обладала перед лицом внешних угроз твердостью монолита.
На совсем иных основаниях строились многонациональные империи Запада. Отношения между английскими, французскими, голландскими и т. д. плантаторами и их работниками, отношения между остзейскими баронами и эстонскими и латышскими крестьянами, между польской шляхтой и ее белорусскими, украинскими и литовскими холопами, между французскими колонистами и алжирскими феллахами, между израильтянами и палестинцами, между английскими поселенцами и коренным населением Ирландии и т. д. – все это не более чем вариации на одну и ту же тему отношений между победителями и побежденными, между народом господ и народом рабов. Великолепным символом такого рода межнациональных отношений служат ежегодные демонстрации оранжистов в Ольстере.
В 1690 году англичане под предводительством Вильгельма Оранского нанесли поражение ирландским католикам, и с тех пор каждый год в день битвы проходят они сплоченными колоннами по улицам североирландских городов, демонстрируя свою силу, волю к господству, бросая свое ликование и презрение в лицо сыновей, внуков, правнуков, праправнуков побежденных. И так везде, где в области отношений между народами торжествуют принципы западной цивилизации. Друг против друга стоят народы господствующие, ревниво цепляющиеся за малейшие привилегии, которыми отделяют себя от людей «низшего сорта», и народы побежденные, подавленные, унижаемые ежедневно, ежечасно, но сжимающие кулаки и ждущие своего часа, чтобы свести счеты.
Почти хрестоматийным считается утверждение, что угнетенная нация стремится сбросить с себя зависимость при первом удобном случае. Так, ирландцы всегда смотрели на любого противника Англии как на своего естественного союзника и оказывали посильную помощь всякой антибританской борьбе, следуя правилу: «Враг моего врага – мой друг». Исходя из этой общепризнанной истины, легковерный историк, приступающий, например, к изучению Смуты в Русском государстве, должен априорно заключить, что Казань, еще хорошо помнившая свою самостоятельность и вековую вражду с Москвой, постаралась воспользоваться тем обстоятельством, что Московское государство переживало глубочайший кризис. Но вот он углубляется в первоисточники и обнаруживает документ, гласящий:
«Митрополит, мы и всякие люди Казанского государства согласились с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми (то есть по обоим берегам Волги. – Ф. Н.), с горными и луговыми татарами и луговою черемисою на том, что нам быть всем в совете и соединении, за Московское и Казанское государство стоять».
Казанский митрополит, глава русского национального меньшинства, обращается к татарам и марийцам с призывом освободить Москву от поляков – и они, мусульмане и язычники, толпами вливаются в ополчение Минина и Пожарского.
В 1812 году татарская, башкирская и калмыцкая конница снова идет на помощь Москве. Что-то не видно здесь того непримиримого антагонизма, который бросается в глаза на любой из страниц многовековой истории англо-ирландских отношений.
Россия никогда не была матерью-родиной только для русских, а для остальных народов злою мачехой. Еще задолго до присоединения Армении к Российской империи армяне чувствовали себя в Астрахани, Москве, Петербурге так же дома, как и на родных склонах Арарата.
Князь Багратион, рассорившись с Барклаем де Толли, просит военного министра: «Ради бога пошлите меня куда угодно… Вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет» [25]. В следующем письме, озлобленный сдачей Смоленска, он восклицает:
«Скажите, ради бога, что наша Россия – мать наша – скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное отечество отдаем сволочам?.. Чего трусить и кого бояться?» [26].
Гордый потомок грузинских царей не отделял любви к родной Грузии от верности к общему отечеству всех россиян. Он не старался быть русским. Он им действительно был без всяких усилий со своей стороны, поскольку могучее чувство, объединявшее русский народ, владело и им. И то, что он был русским, нисколько не мешало ему оставаться грузином полностью – не было противоречия между тем и другим.
Великий русский писатель Н. В. Гоголь, отвечая на вопрос, кем он себя считает, украинцем или русским, пишет своей приятельнице:
«Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую» [27].
А. И. Куприн, по свидетельству Бунина, больше всего гордился тремя вещами: во-первых, тем, что был русским офицером, во-вторых, тем, что приходился внуком татарскому хану; только на третье место он ставил свою литературную известность [28].
Нам, советским людям, чувствующим себя единым народом, несмотря на различие национальной принадлежности, связанным узами верности к единой великой Родине, не кажется особенно странным, что нечто схожее с этим чувством и с этим понятием долга обнаруживаем и в прошлом. Нам не кажется странным, что Куприн мог чувствовать себя одновременно татарином и русским, Гоголь – украинцем и русским, Багратион – грузином и русским и т. д. Не нужно упускать из виду, однако, что этот великий процесс межнационального синтеза, начавшийся в глубине веков, всегда представлялся буржуазному западному сознанию как нечто противоестественное, отталкивающее и непонятное. Ведь жителю насильственно германизуемой Богемии невозможно было чувствовать себя одновременно и чехом и немцем – приходилось выбирать. Для ольстерцев красивое слово «британец» начисто лишено смысла, ибо в условиях длящейся веками сегрегации, в атмосфере ненависти, царящей в отношениях между двумя общинами, можно быть либо англичанином и протестантом, либо ирландцем и католиком. Даже в двуязычном, немецком по крови и французском по культуре, Эльзасе, где Франция никогда не проводила политики ни насильственной ассимиляции, ни искусственной сегрегации, даже там быть немцем значило не быть французом и наоборот. О взаимоотношениях между несчастными «цивилизуемыми» азиатами, африканцами, краснокожими американцами, австралийскими аборигенами и «матерью-родиной» их колонизаторов говорить не приходится.
Исторически и политически было бы неправильно отрицать или затушевывать национальный гнет в царской России: было деспотическое русское самодержавие, была безответственная в своих действиях русская по преимуществу администрация, которая пыталась вбить клин в добрые взаимоотношения между русским и «инородческим» населением (и часто это ей удавалось сделать). В конце XIX – начале XX века в империи усиливается национальный гнет, запрещаются издания на родных языках, ведется политика русификации, преследуются деятели национальных культур. Наличие остро стоящего национального вопроса в стране обусловило появление национальных программ у всех крупных политических партий, действовавших в дооктябрьской России. Ленинская национальная программа партии большевиков, творчески вобравшая в себя многовековой исторический опыт, строила национальные отношения на доверии, на объединении через уважение к национальным интересам, поставив в повестку дня российской политической жизни вопрос о праве наций на самоопределение. Ее осуществление сыграло роль катализатора интернационального объединения трудящихся масс России.
Однако положение русских в российской «тюрьме народов» отличалось от положения англичан в Британской империи, немцев в империи Габсбургов, японцев в империи Восходящего Солнца и т. д. В России бесправие не было уделом только «инородцев». Крепостное право являлось «привилегией» русских, украинцев и белорусов, то есть «природных русских», с правительственной точки зрения. Рекрутчина всей тяжестью ложилась на тех же «природных русских» и лишь в годы чрезвычайных наборов распространялась также на народы Поволжья [29]. Русский народ в «тюрьме народов» был не тюремщиком, но заключенным.
В любой многонациональной империи Запада даже низший социальный слой господствующей нации имеет ряд привилегий по отношению к подчиненному народу в целом. Последний клерк Ост-Индской компании чувствовал свое превосходство перед сиятельным махараджей; беднейший из французских колонистов в Алжире был бы до глубины души оскорблен, если бы его назвали феллахом, немецкий рабочий в Австро-Венгрии, интернационалист в теории, все же голосовал против приема чешских, польских, хорватских пролетариев в его, немецкий, профсоюз, в его, немецкую, социал-демократическую партию. Националистические предрассудки, активно насаждаемые идеологами империализма, проникли во все сферы социальной и политической жизни капиталистических государств.
Моральные нормы, обязательные в отношениях между членами господствующей общины, теряют всякую силу при их сношениях с представителями низшей общины. Р. Киплинг отмечает, что нравственные запреты, действующие в метрополии, сами собой отпадают к востоку от Суэца. В своей «Истории английской революции» Гизо описывает, с каким напряженным вниманием и сочувственным интересом все английское и шотландское общество следило за судебным процессом по делу маркиза Монтроза и его четырех сподвижников: обсуждались юридические тонкости судопроизводства, заботились о праве на защиту подсудимых, передавали последние слова, с которыми осужденные приняли смерть на эшафоте, и т. д. В то же самое время ирландцев, таких же сторонников Стюартов, как и Монтроз, без всякого суда и следствия, едва они попадали в плен, десятками связывали и топили в море, сотнями расстреливали, вешали, рубили головы. На эти массовые казни никто в английском обществе не обращал внимания. Говорить о них было просто неприлично.
Непреодолимая пропасть между нациями господствующей и подчиненной, замкнутость каждой из них в самой себе исключает классовую солидарность между эксплуатируемыми классами обеих наций. Алжирская коммуна, провозглашенная вслед за Парижской в 1871 году, не разделила ее славной и трагической судьбы; французские пролетарии и ремесленники города Алжира сложили оружие перед эмиссаром Версаля, когда он разъяснил им, какой опасности подвергают они свое национальное господство над мусульманами [30]. Габсбурги без труда давили непокорные Милан и Венецию копытами венгерской конницы, заливали пожар восстания в Вене славянской кровью, царили в чешской Праге, опираясь на немецкое меньшинство, – и немецкие горожане и крестьяне не шли на объединение со своими иноплеменными братьями по классу для общей борьбы против феодального деспотизма.
Вот такой гнусности российская история никогда не знала. Русский народ никогда не чувствовал себя господином других народов, никогда не придерживался двойной морали, никогда не стремился отгородиться от иноплеменников. И судьба его была неотделима от них.
При Екатерине I обер-прокурор Ягужинский докладывал Сенату, что русские крепостные (заметим для себя – представители господствующей нации) не то что дворами, а целыми деревнями снимаются с места, «бегут. в Башкирию, чему и заставы не помогают» [31]. Многие из них спускаются к Каспию, усиливая собою непокорную казацкую голытьбу, занимаются промыслами беспошлинно, чем наносят ущерб государственной казне, якшаются с соседними калмыцкими ордами и без соизволения православной церкви берут у них девок в жены.
Правителей России обрядовая сторона бракосочетания их бывших крепостных, возможно, волнует меньше всего, но то, что из некоторых помещичьих имений крестьяне сбегают все без остатка [32], то, что вскоре не с кого будет брать ни рекрутов, ни податей, не позволяет сохранять олимпийское спокойствие. Выход один – «прижать башкир» к построенному за их спиной Оренбургу. Башкир прижали, калмыков прижали, яицких казаков прижали, беглых крестьян прижали. Сжимали горючую смесь до тех пор, пока в далеких Оренбургских степях не пробежала искра и не грянул взрыв такой силы, что дрогнул императорский трон в Зимнем дворце. Вокруг русского ядра повстанцев Пугачева сплотились и башкиры, и калмыки, и татары, и чуваши, и мари, и мордва. Ничего подобного ни в самой Европе, ни в ее колониях никогда не было, но в России такое случалось и прежде, произойдет и позднее – в годы великой революции и гражданской войны.







