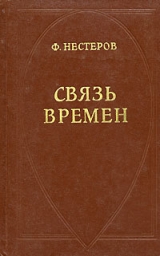
Текст книги "Связь времен"
Автор книги: Федор Нестеров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Но никакой анархии, никакой растерянности, никакого пораженчества теперь, когда речь шла о том, чтобы грудью своей прикрыть нарождавшуюся революцию, в Балтфлоте не было. Адмирал Развозов, которому Центробалт поручает командование боевыми действиями, спрашивает, будут ли его распоряжения выполняться беспрекословно, и получает ответ: «Ваш приказ в бою – закон. Тот, кто осмелится не исполнить боевого приказа… будет расстрелян» [50]. И в самом деле, офицеры, верные воинскому долгу, обнаруживают в командах, полностью вернувшихся на борт с берега, не только безусловное повиновение, но необычайное рвение в исполнении боевых приказов.
Восемь дней на штормящем море продолжалось Моонзундское сражение. Восемь ночей команды заделывали пробоины, чинили поврежденные механизмы, чтобы с рассветом вновь выйти на боевые позиции и встать насмерть против трижды (!) превосходящего по силам противника. Восемь дней и ночей русский Балтийский флот вел безнадежную, как казалось, борьбу. С самого начала он потерял поддержку береговых батарей: разложившиеся войска отказались сражаться с немецким десантом, высадившимся на островах Эзель и Даго. «Союзный» английский флот мирно стоял в своих хорошо защищенных гаванях. Временное правительство продолжало травлю балтийских моряков. В. И. Ленин так характеризовал политическую обстановку Моонзундской морской битвы: «Наступательные операции германского флота, при крайне странном полном бездействии английского флота и в связи с планом Временного правительства переселиться из Питера в Москву вызывают сильнейшее подозрение в том, что правительство Керенского (или, что все равно, стоящие за ним русские империалисты) составило заговор с англо-французскими империалистами об отдаче немцам Питера для подавления революции таким способом» [51].
Ради того чтобы сорвать этот заговор, сто русских кораблей изо дня в день и вели артиллерийскую дуэль с тремястами немецкими, тридцать русских аэропланов делали вылет за вылетом, имея против себя свыше сотни германских [52]. Радиостанция Балтфлота бросает в эфир драматический призыв не к «союзным» флотам за помощью и не к правительству в Петрограде, но «К угнетенным всех стран»:
«Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем к вам свой голос, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание. Атакованный превосходящими германскими силами наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг перед великой революцией… В час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются темные воды над их трупами, мы возвышаем свой голос… Да здравствует всемирная революция! Да здравствует справедливый общий мир! Да здравствует социализм!» [53].
Это были не только слова. П. Е. Дыбенко, тогда председатель Центробалта, вспоминает: «Последней жертвой геройской борьбы на подступах к Петрограду стал доблестный броненосец «Слава». Весь израненный, он медленно опускался в морскую пучину. Море уже собиралось скрыть в своих объятиях броненосец. Раздался последний выстрел с носовых башен; корабль содрогнулся в последний раз. Моряки, геройски сражавшиеся до последней минуты и не хотевшие расстаться со своим гибнущим кораблем, постепенно в кипящих, волнах уплывали к спасательным шлюпкам и миноносцам. Гордо развевавшийся на реях «Славы» красный стяг захлестнуло волной» [54].
До конца не был спущен красный флаг и на эсминце «Гром», потерявшем в ходе боя управляемость и боеспособность. Его команда перешла на канонерку «Храбрый». На палубе изувеченного миноносца остался по собственному желанию лишь матрос Самончук, и, когда стало ясно, что не русские, а немцы возьмут судно па буксир, он бросил в пороховой погреб горящий факел [55].
…Мы до конца не спустили
Славный Андреевский флаг.
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»!
Отныне и впредь над Красным флотом будет реять не Андреевский флаг, но отношение к своему флагу, символу воинской чести, останется таким, каким его выработала морская история России. За подвигом «Славы» и «Варяга», «Грома» и «Корейца» стоит высокое понимание воинского долга. «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели…» – петровский завет, передававшийся из поколения в поколение русских моряков, теперь служил делу революции.
Германский флот, потерявший при прорыве первой оборонительной линии свыше тридцати боевых кораблей, не решился штурмовать вторую, закрывавшую вход в Финский залив. Гроза над Балтикой затихла, и сквозь тучи орудийного дыма на востоке, над Питером, взошла красная заря Октября. Большая часть русского флота оставалась на боевых позициях, готовая к отражению новой немецкой атаки. Эскадра особого назначения со сводным – от всех экипажей – десантным отрядом в 4500 человек на борту взяла курс на столицу. Моонзундское сражение стало прологом к взятию Зимнего.
В другом отношении этот пролог – эпилог. Эпилог, ибо в нем окончательно слились воедино две могущественные традиции русской истории – революционная и боевая. Выше было показано, что и для одной и для другой взаимосвязанных линий преемственности характерна абсолютизация долга, то есть категоричное требование его безусловного выполнения, требование, не смягчаемое никакими объективными обстоятельствами: как бы ни был неравен бой, нет прощения для уклонившихся от него; то, что борьба безнадежна, не служит оправданием капитуляции; бессмысленность сопротивления еще не причина для того, чтобы его не довести до конца. В Моонзундском сражении и то, и другое, и третье было налицо. В словах посланной из Гельсингфорса радиограммы о том, что русский Балтийский флот гибнет, не было и грани преувеличения.
Балтийский флот погибал, но, странное дело, в нем совсем не было видно моральных симптомов поражения. Команды поврежденных судов, отведенных в Ревель и в Гельсингфорс для ремонта, работали по ночам с остервенением, как будто дело шло о спасении их жизней. И это для того, чтобы не пропустить поутру очередного свидания со смертью. Вся русская армия бежала с фронтов, рассыпаясь по деревням, но здесь дезертиров не было! Не было, ибо «бессмысленное сопротивление» имело здесь свой высокий смысл. Когда уже замолкли пушки, адмирал Развозов заявил: «Я не верил до этих дней в боеспособность флота. Теперь я преклоняюсь перед геройством флота и знаю, что новый немецкий поход нам не страшен, – мы сумеем отстоять честь России» [56].
Именно здесь, в Балтийском флоте, цитадели большевизма, накануне Великого Октября было найдено решение и коренного противоречия между патриотизмом, верностью русского народа своему национальному государству, и классовой чуждостью, даже прямой враждебностью того же государства к чаяниям народных масс. Теперь, в Моонзундском сражении, матросы не только грудью стояли за честь России (как это было и всегда), теперь они под руководством большевиков защищали Петроград, колыбель Советского государства, которое станет выразителем их национальных и классовых интересов одновременно. Соединение классового сознания с патриотизмом и дало тот результат, о котором с гордостью говорил старый адмирал.
Если бы иностранные послы и главы военных миссий, в силу своих служебных обязанностей следившие, конечно, за ходом Моонзундского сражения, дали себе к тому же труд еще и анализировать его политический смысл, то, наверное, не стали бы так спешить с живописанием радужных перспектив вооруженного вмешательства держав Антанты в русские дела.
Они могли бы, например, констатировать, что процесс разложения, уже приведший к распаду старой армии, остановился там, где была сосредоточена компактная масса вооруженного пролетариата в морских бушлатах. Совсем нетрудно было предположить, что обратный процесс, процесс возрождения и обновления России, начнется оттуда же. Все, за что ни хваталось в последних попытках спасения буржуазное правительство, фатальным образом оказалось гнилым и трухлявым – вокруг Смольного стояли поистине железные батальоны пролетариата. Те, кто за броневиком с винтовкой наперевес бежал к Зимнему – безразлично, был ли он в бушлате, солдатской шинели или в цивильном пальто красногвардейца, – готовы были отдать за социализм всю кровь и жизнь свою без колебаний, как это делали их братья по классу в Моонзунде. И кого же эти грозные бойцы, действительно прошедшие сквозь огонь и воды, видят перед собой за баррикадами дворца? Трясущийся от ужаса женский батальон да бледных от страха мальчишек в юнкерских шинелях. Это все, на что сумела опереться буржуазия в решающий для ее судеб час. Подобно гнилому плоду, падающему при первом порыве ветра, Временное правительство выпало из министерских кресел от одного холостого выстрела «Авроры». Штурм Зимнего дворца революционными отрядами довершил падение власти буржуазии.
Пролетариат при капитализме не имеет отечества, но, захватывая власть, он его обретает и, опираясь на патриотизм широких непролетарских масс, защищает это обретенное им социалистическое Отечество. Непролетарские слои переносят, конечно, ударение с первого слова на второе. Им дорог пока не социализм, а по-прежнему Отечество. Но когда «Социалистическое Отечество – в опасности!», такое различие не играет роли.
В условиях иностранной вооруженной интервенции и гражданской войны для судеб социализма, помимо революционной энергии рабочих, огромное значение приобрел характер исторического воспитания всего народа, степень его патриотичности. Сословные интересы Офицерского корпуса, безусловно, были тесно связаны с эксплуататорскими интересами помещиков и буржуазии и толкали его целиком и полностью в лагерь контрреволюции. События, однако, показали картину, весьма отличную от той, что можно было бы нарисовать на основании априорного социологического анализа. Далеко не все и даже не большая часть русского офицерства стала белой. В статье «Все на борьбу с Деникиным!» В. И. Ленин отмечал: «Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их – вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке» [57]. Разумеется, добрая воля бывших царских офицеров, призванных по мобилизации в ряды Красной Армии, могла быть поставлена под вопрос, но вот что мы читаем в воспоминаниях одного из командиров партизанской армии, боровшейся против колчаковщины в Восточной Сибири: «Чтобы бить врага и побеждать его малой кровью, партизанские отряды Сибири должны были иметь самое современное оружие и пользоваться современной наукой побеждать. И это они имели: их старшими командирами были опытные офицеры царской армии, ставшие на сторону революции, а оружие добывалось в боях» [58]. Командный состав народно-революционной армии ДВР, действовавший под политическим руководством коммунистов, также в большинстве своем состоял из старых кадровых офицеров.

Опыт морских боев на Балтике с 29 сентября по 6 октября семнадцатого года давал внимательному наблюдателю достаточный материал для того, чтобы предугадать поведение офицерства в масштабе всей страны в ближайшие по крайней мере годы. Именно во флоте, вспомним это, классовые противоречия достигали пика своей остроты, поэтому-то процесс разложения старых порядков, старой дисциплины, старой структуры власти протекал там более стремительно, бурно, сопровождаясь более мощными взрывами, и быстрее завершился, чем тот же процесс, разрывавший сухопутные части. Во флоте раньше, чем в армии, были изжиты розовые иллюзии мелкобуржуазной демократии, раньше была проведена непримиримая грань между белым и красным цветом.
В июльские дни в Ревеле «их благородия» были готовы выполнить секретный приказ Временного правительства о потоплении большевистских кораблей. Но именно потому, что столь цинично-резко был здесь поставлен выбор между эгоистическим классовым и общенациональным интересом, политическое размежевание среди морского офицерства к концу сентября было уже полным.
Многие бежали из-под власти Центробалта и от «засилья матросни». Но для тех, кто остался (а их было не так мало), слова старого адмирала о готовности любой ценой защитить честь России выражали смысл жизни. И они поднимались в капитанскую рубку, чтобы под контролем комиссара Центробалта вести корабль на смертный бой в защиту революционного Петрограда. Их выбор был сделан: живыми или мертвыми, они навсегда останутся со своим народом. Разве трудно было понять тогда, в октябре 1917 года, что эти же старорежимные офицеры будут без малейших колебаний топить и английские суда, если те осмелятся войти в воды Финского залива, как это и произошло в 1919 году? А приняв во внимание, что офицерский корпус в целом был более разночинным по социальным корням и менее проникнут аристократическим кастовым духом, чем во флоте, можно было бы и предположить, что армия пролетарской диктатуры не останется без военных специалистов, работающих не за страх, а за совесть.
В феврале 1918 года едва рожденная Красная Армия воспроизвела на более широкой основе то, что показал Балтийский флот в Моонзундском сражении: чисто пролетарский состав боевого ядра (первыми красноармейцами были питерские рабочие и балтийские матросы, младшие братья и сыновья тех же рабочих), военное руководство в руках бывших царских генералов и офицеров, высшее политическое осуществляется институтом комиссаров, и главное – тот же боевой дух. «Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести. Царские генералы говорят, что наши красноармейцы переносят такие тяготы, какие никогда не вынесла бы армия царского строя» [59] – эти слова В. И. Ленина по справедливости могут быть отнесены к участникам уже первых боев Красной Армии под Нарвой.
Здесь проявилась с особой отчетливостью закономерность, общая для всех революционных эпох: чем более решителен и полон разрыв с проклятым прошлым, тем более народ получает возможность в борьбе за светлое будущее опереться на свое славное прошлое. Боевые традиции России, военной державы, пришлись как нельзя более кстати и Советской России, в лице Красной Армии возродилась на новой классовой основе великая русская армия и приумножила свои боевые традиции как Советская Армия.
Решающие свои победы над интервентами и белогвардейцами Красная Армия одержит, однако, только тогда, когда, расширив первоначальную социальную базу, превратится из чисто пролетарской в рабоче-крестьянскую, то есть в массовую армию всего народа. Но, для того чтобы такое превращение произошло, необходимо было, чтобы крестьянин-середняк пожелал сражаться в ее рядах. Принудительная мобилизация сама по себе еще ничего не решала. Белые генералы также проводили ее на огромных территориях, да только белая гвардия, превратившись в армию, неизменно теряла после этого высокие боевые качества, которыми, вообще говоря, отличались добровольческие части. Боеспособность же Красной Армии по мере ее численного роста возрастала. В нее после некоторых колебаний крестьянин-призывник пошел с охотой, и, когда российское крестьянство весь свой огромный вес бросило на левую чашу весов, исход гражданской войны был предрешен в пользу красных.
Вообще говоря, колебание крестьянина между диктатурой пролетариата и диктатурой буржуазии обусловливается двойственной его природой – труженика и собственника. Говоря же конкретно о русском крестьянстве эпохи великой революции и гражданской войны, нужно к этим повсеместно действующим причинам прибавить еще и местные, национальные. Анализируя причины «наибольшего успеха контрреволюционных движений, восстаний, организации сил контрреволюции» весной – летом 1918 года в широкой территориальной полосе, протянувшейся от Волги до Тихого океана, В. И. Ленин отмечал:
«Колебания мелкобуржуазного населения там, где меньше всего влияние пролетариата, обнаружились в этих районах с особенной яркостью:
сначала – за большевиков, когда они дали землю и демобилизованные солдаты принесли весть о мире. Потом – против большевиков, когда они, в интересах интернационального развития революции и сохранения ее очага в России, пошли на Брестский мир, «оскорбив» самые глубокие мелкобуржуазные чувства, патриотические. Диктатура пролетариата не понравилась крестьянам особенно там, где больше всего излишков хлеба, когда большевики показали, что будут строго и властно добиваться передачи этих излишков государству по твердым ценам… В последнем счете именно эти колебания крестьянства, как главного представителя мелкобуржуазной массы трудящихся, решили судьбу Советской власти… (выделено мной. – Ф. Н.)» [60].
Несомненно, существовала материальная заинтересованность, привязывающая крестьянство к белым режимам особенно там, где помещичье землевладение не получило в прошлом развития. В. И. Ленин указывал: «Колчак держится тем, что, взявши богатую хлебом местность… он там разрешает свободу торговли хлебом и свободу восстановления капитализма» [61]. «…Свободная торговля хлебом есть экономическая программа колчаковцев, расстрел десятков тысяч рабочих (как в Финляндии) есть необходимое средство для осуществления этой программы, потому что рабочий не отдаст даром тех завоеваний, которые он приобрел» [62].
Ни при одном белом режиме не ставились преграды спекуляции хлебом: она била только по рабочим, а крупная буржуазия была достаточно богата, чтобы уплатить временную дань мелкой и тем купить ее. Но почему в таком случае союз буржуазии с крестьянством в отличие от Франции 1871 года оказался здесь столь хрупким, что первый же порыв ветра сорвал и увлек с собою фиговый лист со «свободой, равенством и братством», и буржуазная диктатура, представ перед Россией во всем своем препохабии, принялась пороть и расстреливать не только рабочих, но и мужиков? Какая черная кошка пробежала между ними? По сю сторону Урала, положим, все было ясно: дворяне, составлявшие основной костяк Добровольческой армии, восстанавливали по мере ее продвижения вперед помещичье землевладение и тем отбрасывали крестьянство в лагерь красных. Ну а по ту сторону Уральского хребта?
«Мы знаем, – писал В. И. Ленин, – что там живут зажиточные крестьяне, которые не знали крепостного права, которые поэтому не могут быть благодарны большевикам за избавление от помещиков. Мы знаем, что там организовано было правительство и для начала туда были посланы прекрасные знамена, которые изготовляли эсер Чернов или меньшевик Майский, и на них были лозунги – Учредительное собрание, свобода торговли – чего хочешь, серый мужичок, все тебе напишем, только помоги свалить большевиков!» [63].
Что же произошло там, в Сибири и на Дальнем Востоке? Ведь Колчак и не помышлял посягнуть на крестьянскую землицу, а крестьяне под рукой «верховного правителя России» могли всласть наслаждаться свободой торговли. А из всей этой белой идиллии вышло вот что: крестьянская война под руководством пролетариата против белых и истребительная война белых карателей против этого зажиточного крестьянства.
Для того чтобы постичь столь неожиданный поворот событий, сосредоточим временно наше внимание на одном из тех богатых торговых сел, которые в силу экономических факторов могли бы стать опорой белой власти, да так и не стали.
Казанка – одно из первых поселений в Сучанской долине среди девственной Уссурийской тайги. Ее «отцы-основатели», чтобы выжить и вырвать под пашню землю из-под вековых сосен, кедров и лиственниц, должны были сплотиться в крепкую и дружную земледельческую общину. Она очень скоро разрослась в большое и богатое село, ставшее опорным пунктом в дальнейшей колонизации края. «Стодесятинники»-казанковцы, получившие надел по 100 десятин на мужскую душу, сдавали мягкую землю в аренду новожилам из соседней деревни Хмельницкой, пока те не поднимут целину, китайцам и корейцам, не имевшим российского подданства, а следовательно, и права на землю. «Не менее половины своих земель казанковцы сдавали в аренду корейцам и получали от них столько хлеба, что им можно было прокормить не только жителей деревни, но и скот. Многие крестьяне сами не обрабатывали землю и жили исключительно за счет аренды» [64], – свидетельствуют руководители партизанского движения в Сучанской долине Н. К. Ильюхов и И. П. Самусенко.
При таком положении дел Октябрьская революция большого восторга в Казанке вызвать не могла. Радовались, конечно, возвращению фронтовиков по домам, но требование Советов сдавать хлеб на ссыпные пункты по твердым ценам раздражало, а слухи о готовящемся переделе пахотной земли и прочих угодий тревожили. И худшие опасения казанковских справных мужиков подтвердились. В апреле 1918 года IV Дальневосточный съезд Советов вынес решение об общем переделе земель казаков и «стодесятинников», причем в пользу не только русских «долевиков» (имевших по 15 десятин на едока), но также корейцев и китайцев. В газете так черным по белому и было напечатано: «…9. Все население иностранное (корейское и китайское) имеет право на землю и получает наделы распоряжением сельских и волостных земельных комитетов» [65]. Старожилам это казалось чудовищной несправедливостью: дескать, много их, дармоедов, охочих до чужой мягкой земли; пусть лучше поднимут твердую – порасчистят тайгу да повыкорчевывают пни своими руками, как это делали сами казанковцы и их отцы.
Казанка колебалась. Она не примыкала к контрреволюционным мятежам, но и не посылала в отличие от соседей – сучанских шахтеров и деревень «долевиков» – своих мужиков в Красную Армию для их подавления. Она следила за событиями, а события развертывались стремительно. В апреле на причалах Владивостокского порта промаршировали первые роты японских интервентов. В мае поднял антисоветское восстание чехословацкий корпус, растянувшийся своими эшелонами вдоль Сибирской железной дороги от Волги до Байкала. В течение июня, июля и августа продолжалась отчаянная борьба дальневосточной Красной гвардии, плохо вооруженной и насчитывавшей в своих рядах не более 16 тысяч штыков и сабель, против напиравшей с трех фронтов 150-тысячной регулярной армии интервентов и белоказачьих банд. В сентябре ее сопротивление было сломлено окончательно, и Советская власть на всем Дальнем Востоке пала. Сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских «освободителей России» и казачья шашка, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных «поездах смерти», морили голодом в концлагерях.
Ни о каком переделе земель не было уже и речи, свобода торговли и частной инициативы воцарилась полная.
Довольна ли осталась Казанка таким оборотом, что, не пролив еще сама ни капли крови за белое дело, получила возможность спокойно пожинать его плоды? Она очень даже умела и любила торговать, умела и любила считать и пересчитывать денежки, ее сытые крестьяне по своей хозяйственной сметке и хватке больше походили на свободных американских фермеров, чем на своих забитых и нищих собратьев по классу в Европейской России. Официальное издание «Азиатская Россия» (1914 г.) отмечает: «Дают понятие о зажиточности приамурских крестьян также и сведения сберегательных касс, указывающие, что в Амурской и Приморской областях сельское население является лучшим вкладчиком, чем в других губерниях и областях, несмотря на малое количество еще этих касс» [66]. Вклады здесь делались и после сделок по поставкам хлеба (Владивосток рос быстрее, чем сельское население Приморья, его высокая потребность в зерне поддерживала постоянно соответствующий уровень цен, урожаи здесь были в среднем почти в два раза выше, чем в черноземных областях Европейской России), и после расчетов за работу на лесозаготовках (строительный лес направлялся в Китай, Японию и Австралию), и после очередной продажи американским закупщикам партии беличьих и собольих шкурок. Снимали деньги со сберегательных книжек главным образом для закупки у тех же американцев сельскохозяйственной техники – образованная американскими акционерами «Международная компания жатвенных машин в России» имела в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке более двухсот складов и магазинов [67].
Была, таким образом, некая материальная база для взаимопонимания между дальневосточным зажиточным крестьянством и генералом Гревсом, лично направленным сюда президентом США Вудро Вильсоном во главе экспедиционного корпуса. Вопрос состоял только в том, возобладает ли сила притяжения американского доллара, прочность рыночных связей над национальными узами, поймут ли жители таких богатых торговых сел, как Казанка, язык взаимной выгоды.
Ответ не заставил себя долго ждать. 15 декабря 1918 года Казанка восстала. Поднялась под красным знаменем за власть Советов и увлекла за собой все окружающие деревни. С быстротой лесного пожара партизанское движение охватило долину Сучана, а потом и все Приморье.
Менее всего это выступление можно объяснить личной обидой или личной местью казанковцев. Боевые действия интервентов на Уссурийском фронте обошли Казанку стороной, и ни разу еще каратели не посещали ее – не было причины.
И совсем напрасно искать объяснения непосредственно в экономике. Обнищания масс, обычно предшествующего вооруженному восстанию народа, в Казанке заметно не было. Напротив, осенью 1918 года село очень выгодно продало урожай приезжим заготовителям. Не было оснований сомневаться в том, что процветание продлится и в ближайшем по крайней мере будущем. Чем же казанковцы остались недовольны?
Многим. Очень многим. Владивосток стал каким-то чужим от великого множества красивых иностранных мундиров. На рынке, правда, английские, американские, японские, французские, итальянские, чехословацкие офицеры, а иногда и солдаты за каждую беличью и соболиную шкурку давали в два-три раза больше, чем обычные скупщики, но даже эта самоуверенная манера брать, не поторговавшись как следует, почему-то не нравилась. А тут еще рассказы соседей по прилавку о том, что на прошлой неделе американский матрос в порту застрелил русского мальчика, что несколько японцев на глазах у всех среди бела дня забили прикладами до смерти дряхлого старика корейца, что местные жители должны теперь, когда в трамвай входит иностранный военный, вставать и уступать ему место, что по селам, где располагаются японские гарнизоны, расклеены распоряжения комендатуры, предписывающие русским при встрече с японцем остановиться, снять шапку, поклониться и сказать «здравствуйте!», что радиостанция на Русском острове передана американцам, что склады казенного имущества перевозятся в Японию, что в Хабаровске ежедневно расстреливают десятками пленных красногвардейцев, что по ночам желтый поезд Калмыкова останавливается на мосту через Амур, и там личная охрана атамана кавказскими кинжалами и шашками рубит и сбрасывает в реку заключенных, которых устала пытать, что… – да мало ли чего наслушаешься теперь в городе? Им-то, казанковцам, какое до всего этого дело? Их село стоит с краю, не его грабят, не в их малолеток стреляют, не их стариков избивают, не их жен и дочерей насилуют, не их сыновей берут на прогулку калмыковцы в свой поезд. А что до казенного имущества, то только дурак не урвет его, коль представится случай. Какая им до него печаль? Так-то оно так, да только ласковый шелест долларов и иен почему-то больше не веселил слух, и – что за наваждение! – все чаще представлялось мужичкам, что пересчитывают они не рубли, не доллары и не иены, а иудины сребреники.
…В тот памятный день, 15 декабря, казанковцы по приглашению Н. К. Ильюхова, учителя из соседней Хмельницкой, собрались на сход в своей школе. Они наперед, конечно, знали, о чем пойдет речь. В деревне тайны долго не удержать: быстро становится известным, кто о чем при этом говорит, даже если бабы выпроваживаются из горницы. Так вот, было известно, что Ильюхов и еще трое хмельничан, к которым вскоре присоединились трое из деревни Серебряной, да два шахтера-сучанца из красногвардейцев, прятавшихся неподалеку в тайге, образовали «Комитет по подготовке революционного сопротивления контрреволюции и интервентам». Известно было также, что комитет за двумя исключениями состоит из унтер-офицеров старой армии и солдат-фронтовиков, а сам Ильюхов как бывший прапорщик, то есть старший по званию, назначен командующим всеми вооруженными силами. Люди все это были серьезные и пользовались всеобщим уважением. Ильюхов в последнее время частенько наведывался в Казанку к местным фронтовикам, да и они, по делу и без дела бывая в Хмельницкой, не обходили его дом стороной. Об остальном легко можно было догадаться.
Так коммунистическая ячейка (Ильюхов и его товарищи были большевиками) исподволь, искусно и упорно расширяла свое влияние на село, подыскивая все новых и новых верных людей, и готовила его к восстанию.
Но почему именно Казанка была выбрана комитетом для своего выхода из подполья? Н. К. Ильюхов объясняет: «С казанковцами враждовали «долевики» деревень Хмельницкой, Бархатной и Серебряной. Тем не менее казанковцы ввиду своей зажиточности и относительно высокой общей культуры пользовались в округе несомненным влиянием» [68]. О причинах антагонизма упоминалось выше: казанковцы по праву первооткрывателей заняли самые удобные земли и лучшие угодья; на каждого из них приходилась большая площадь пашни, чем на нескольких прибывших позднее «долевиков». Но в то же время это село в определенном смысле приходилось матерью всем окружающим ее деревням: новоприбывшие оставались под кровом старожилов и сидели с ними за их столом до тех пор, пока не обзаводились своим хозяйством и не пускали в небо первый дым из трубы нового дома. Богатая и культурная Казанка оставалась не только предметом зависти всей округи, но и образцом культуры быта и хозяйства, на который равнялись, и источником помощи, к которому еще не раз прибегали. Вот почему многое в Сучанской долине зависело от того, как поступит она.
Прибывших хмельничан и серебрянцев, членов комитета, встретили с почетом и усадили в президиум собрания – хороший знак! Местного богача, кулака Симонова, которого, вообще говоря, почитали на селе за хватку и ум, на этот раз выставили за дверь, чтобы не перечил. Здесь хорошо знали друг друга, знали, от кого чего можно ждать. Многое было продумано и обсуждено заранее – в долгие зимние вечера за самоваром при свете керосиновой лампы. Теперь решение каждого должно было совпасть с решением всех, воля «общества» всегда единодушна.







