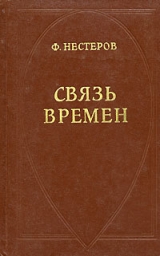
Текст книги "Связь времен"
Автор книги: Федор Нестеров
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Только такому государственному устройству было по плечу создание вооруженных сил, способных в течение нескольких столетий вести боевые действия одновременно на два-три фронта. И это в стране, уступавшей по крайней мере своему главному противнику по уровню социально-экономического развития и по численности населения.
С точки зрения военного потенциала капитальное значение имеет тот факт, что Россия даже после избавления от золотоордынского ига на протяжении длительного исторического периода, с конца XV по середину XVIII века, оставалась, по европейским критериям, малонаселенной страной. Если к 1500 году в Италии и Германии жило по 11 миллионов человек, а население Франции превышало 15 миллионов, то в России в 1678 году, по последним исследованиям Я. В. Водарского, имелось всего лишь 5,6 миллиона жителей, из которых 0,8 миллиона составляло население недавно воссоединенной Левобережной Украины [18].
Население Речи Посполитой, по данным на 1700 год, то есть после потери ею Украины, равнялось примерно 11,5 миллиона человек [19]. Однако не Польша, а Россия добивалась постоянно численного превосходства на полях сражений. Численность русской армии во второй половине XVII века определяется современными историографами примерно в 160 тысяч воинов [20] – это в несколько раз больше того, что собирала когда-либо Речь Посполитая под своими знаменами.
Несмотря на свое относительное малолюдство, Русское государство и ранее выставляло в поле поистине огромные армии. Если верить летописям, на Куликово поле вышла русская рать в 150 тысяч воинов, а веком позже войско Ивана III, противостоявшее татарам вдоль реки Угры, насчитывало 200 тысяч. Иван IV, по данным проживавших в Москве иностранцев, пытается противопоставить качественному превосходству наемного войска Стефана Батория подавляющий численный перевес и сосредоточивает на Ливонском направлении 300 тысяч ратников [21].
Современные историки военного искусства считают данные летописей и оценки иностранными резидентами численности Московского войска сильно преувеличенными. Скорее всего так оно и есть. Однако не вызывает никакого сомнения тот факт, что по степени напряжения своих боевых сил Московия постоянно превышала как своих противников, так и вообще любое другое европейское государство. В качестве сравнения полезно привести здесь характеристику европейских войн в XVI веке, данную английским историком Роузом: «Мы не должны смотреть на войну той эпохи как на нечто подобное тотальной войне современного общества: она была скорее способна поглотить избыток жизненной энергии общества, нежели обескровить его; она в основном занимала только тех, кому нравилось ею заниматься. И она не была продолжительной: она то вспыхивала, то угасала, особенно на море, где были длительные интервалы, когда ничего не происходило» [22]. Контраст в этом смысле между Западом и Востоком одного континента прямо-таки бьет в глаза.
И еще одно уникальное свойство московского государственного порядка проявляется постоянно в беспрерывной череде войн. Рассмотрение этого свойства мы начнем с высказывания польского историка XIX века М. Бобржинского о войнах между Литовско-Польским государством и Московским в начале XVI века:
«Перевес в вооружении, в военном искусстве, в таланте такого вождя, как Константин Острожский, был на стороне литвинов и поляков, в дисциплине же (подчеркнуто мной. – Ф. Н.), численности и неутомимой настойчивости – на стороне их противников… После поражения одних отрядов Василия (имеется в виду великий московский князь Василий III. – Ф. Н.), на их место являлись другие, и взятого ими в 1513 году Смоленска не удалось уже отнять» [23].
Бобржинский не ошибался, усматривая перевес русского войска в дисциплине.
Именно дисциплина, военная и политическая, и явилась тем «тайным оружием», которое Москва бросила на чашу весов истории и которое склонило эту чашу в пользу России.
В эпоху средневековых государств «король, – по замечанию Ф. Энгельса, – представлял собой вершину всей феодальной иерархии, верховного главу, без которого вассалы не могли обойтись и по отношению к которому они одновременно находились в состоянии непрерывного мятежа…» [24].
Московское государство, конечно, не составляло исключения из общего правила. Вспомним смуту XV века, поднятую галицкими князьями против Василия Темного, столкновение Ивана III с его братьями, удельными князьями, в момент приближения Большой Орды, своевольство бояр-княжат в малолетство Ивана Грозного, их оппозицию, вызвавшую опричнину. Имелось, однако, и серьезное отличие в этом отношении России от ее непосредственных противников и вообще от других европейских стран: зависимость русской феодальной знати от власти великого московского князя и царя была несравненно сильнее, а амплитуда ее центробежных колебаний неизмеримо короче, чем где бы то ни было. Общую причину такого исторического своеобразия, как здесь уже неоднократно подчеркивалось, угадать нетрудно. Высший интерес обороны государства от внешних врагов заставлял русское феодальное общество соблюдать лояльность по отношению к царю.
В том-то все и дело… В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей, возглавив войско в 120 тысяч сабель, обманывает бдительность русских сторожевых полков, прорывает оборону на Оке и, широко раскинув крылья своей конницы, проходит огнем и мечом срединные области Московского царства. Сама Москва была сожжена, бежать из нее было некуда – в поле татары, так что погибло, по утверждению иностранцев, 600 тысяч. Цифра эта, несомненно, в несколько раз завышена, но, во всяком случае, живых осталось гораздо меньше, чем мертвых. Не хватало рук на то, чтобы рыть братские могилы, и потому стали спускать трупы по течению Москвы-реки. Но и реке эта работа оказалась не по силам: в некоторых местах образовались заторы, и их приходилось растаскивать баграми [25]. В следующем, 1572 году Девлет-Гирей со всей ордой повторил нападение, но русские на этот раз были готовы к встрече татар. Во главе объединенных земских и опричных полков был поставлен воеводой князь Михайло Воротынский, известный своим умом, опытом и личной храбростью командир. Еще недавно он был в опале, тюрьме и ссылке, потерял братьев на плахе и сам стоял на ступенях, ведущих к ней. Возвращенный в столицу и обласканный царской милостью воевода оправдал высокое доверие: он завлек крымско-турецкую армию в ловушку (неудача его плана, несомненно, навлекла бы на него обвинение в измене и стоила бы ему головы) и разгромил ее полностью при Молодях на реке Лопасне в 45 верстах от Москвы. Москвичи еще долго после этого истребляли остатки крымского войска, мелкие татарские отряды, блуждавшие среди лесных засек. Пленных на этот раз не брали [26].
Подобной школы политической лояльности класс феодалов ни в одной из стран Западной Европы не проходил. И какая разница в поведении! Во Франции Людовик XI (1461–1483) одновременно с русским Иваном III завершает территориальное и политическое объединение страны. Это не препятствует коннетаблю Бурбону открыто поднять оружие против Франциска I в начале XVI века, гугенотской аристократии – против Карла IX и Генриха III в середине того же столетия, католическому дворянству – против Генриха III и Генриха IV во второй половине XVI века, объединенной гугенотской и католической знати против Людовика XIII в начале XVII века (1610–1620), местным феодалам и принцам крови – против того же государя в 30-е и начале 40-х годов, принцам королевского дома – против Людовика XIV во время «новой Фронды» (1650–1653). История Англии на каждой своей странице дает по нескольку примеров такого же рода выступлений. О Германии, так и оставшейся децентрализованной страной до XIX века, вообще говорить не приходится.
В России же после ликвидации удельной раздробленности при Иване III бояре-княжата, несмотря на все свои претензии быть «государями земли Русской», редко осмеливались так вот открыто и дерзко бросить вооруженный вызов царской власти, как это постоянно делали по отношению к власти королевской их собратья по классу на Западе. И причина здесь не в различии национальных темпераментов и не в недостатке личной храбрости. Чего-чего другого, а мужества русским боярам было не занимать; его хватало и на поле боя, и под топором палача.
Причина совсем иная. Если на Западе бургиньоны и арманьяки, приверженцы Колиньи и сторонники Гизов, поборники Алой розы и Белой розы, гвельфы и гибеллины и т. д. и т. п. могли самозабвенно, в полное свое удовольствие резать друг друга и мериться силами с короной, не ставя при этом под вопрос существование общества в целом, то Россия, эта огромная осажденная крепость, таких вольностей своему господствующему классу предоставить не могла, если только хотела жить. Здесь бунт могущественных вассалов против своего сюзерена не выходит за пределы боярского заговора, дворцовой интриги, тайной крамолы, выражающейся в замыслах бежать подобру-поздорову в Литву, а чаще всего принимает форму бунта на коленях, то есть высказывания своих оппозиционных настроений в челобитных царю. Шуйские и Вельские могли еще сводить между собой счеты, пользуясь малолетством Ивана IV, но открытый мятеж той или иной феодальной клики против царя, командующего гарнизоном и коменданта крепости одновременно, когда противник у ворот и приставляет к стенам штурмовые лестницы, должен был вызвать решительный отпор всех и в первую очередь всех прочих фракций того же феодального класса.
Опричнина гипнотически притягивает к себе взоры исследователей своим безысходным трагизмом. Современные западные историографы стремятся даже представить опричные погромы Грозного как наиболее характерные для русского самодержавия методы управления. Это, разумеется, столь же честно и умно, как усматривать в злодействах Ричарда III характерную черту английской монархии или изображать всех французских королей в образе Карла IX, стоящего в Варфоломеевскую ночь у окна Лувра с аркебузой в руке и выбирающего, кого бы подстрелить из пробегающих мимо парижан. Опричнина была, конечно, исключением, частным, хотя и наиболее ярким проявлением «кризиса верхов», производного от того общего глубокого кризиса, в полосу которого вошла Россия, надорвавшись на решении непосильной ей задачи в Ливонскую войну. Поинтересуемся же теперь, как регулировались в обычные, некризисные времена отношения между царем и верхушкой феодального класса, представленного в боярской думе.
Потомки удельных князей, родовитые Рюриковичи и Гедиминовичи, отодвинувшие на второе место от трона старое нетитулованное московское боярство, служили первое время великому московскому князю по договору как «вольные слуги». Законность их прав не отрицалась и самим государем до тех пор, пока эти устаревшие права не пришли в противоречие с нуждами обороны. Так, сам Грозный называл себя «государем над государями земли Русской», и в этом смысле гораздо больше походил на французского короля во главе своих герцогов и графов, чем на «восточного владыку», каким его привыкли в последнее время изображать на Западе. Когда же противоречие по вопросу о Ливонской войне обострилось до предела, тогда тот же Грозный, опираясь на поместное дворянство и на старомосковские, боярские роды, заявил этим «государям земли Русской», что они такие же «холопи государевы», невольные слуги, как и другие слои феодального класса. Старомосковская политическая традиция, таким образом, победила, распространившись и на знатных пришельцев. В целом страшное и постоянное давление извне, осадное положение, превратившееся в обыденный образ жизни, общественные порядки, по необходимости воспроизводящие порядок полка, занявшего круговую оборону, сплотили класс русских феодалов вокруг царской власти с силой, неизвестной в других, менее злосчастных краях Европейского континента.
Верность вассала сеньору в Западной Европе и верность вольного слуги своему князю в домосковской Руси определялись условиями договора, заключенного между обеими сторонами (безразлично, письменного, устного или даже только подразумеваемого общим обычаем). Эта верность не безгранична, все обязанности точно установлены, и сеньор не вправе требовать службы за пределами предусмотренного в соглашении. Феодальный барон на Западе получал от сюзерена и земельное держание за то, что служил; московскому дворянину поместье с землею, угодьями и крестьянами давалось для того, чтобы он нес исправную службу. С точки зрения экономики и в отношении феодальной эксплуатации крестьянства разницы здесь нет ровно никакой, но в юридическом и морально-политическом смысле она огромна. Западноевропейский феодал или старорусский боярин мог отъехать от своего сеньора, вернув ему его собственность, и превратиться в странствующего рыцаря, предлагающего свое копье и меч любому государю в обмен на соответствующий земельный надел. (Так, польские рыцари оседают на землях Тевтонского ордена, оказываются в рядах испанцев, воюющих против мавров, нанимаются на службу к итальянским владетельным князьям и т. д.) Наконец, в случае нарушения самим сеньором одного из условий договора обиженный вассал мог, не нарушая долга чести, отказать ему в службе, удерживая в то же самое время силой оружия полученный от него надел. Ничего этого в Московской Руси не было, так как место договора в ней заняла разверстка односторонних обязанностей военного сословия по отношению к царской власти. И из этого принципиального различия вытекают очень важные практические следствия.
На Западе продолжительность военной службы вассала точно определена. Так, в Англии XIII века ее срок колебался от 21 до 40 дней в году [27], причем в некоторых районах страны существовал обычай, по которому рыцарь брал с собой в поход свиной окорок, и с последним его куском истекал и срок службы. Средневековая история заполнена примерами того, как рыцарские ополчения расходились по домам во время осады, после битвы, еще до того, как кончался срок вассальной службы.
Феодальное ополчение Московской Руси служило бессрочно. Разумеется, и оно находилось в зависимости от взятого провианта, и царские воеводы неоднократно обращались в кремлевскую ставку с челобитьем о необходимости распустить по поместьям отощавшее от голода войско, но вопрос о том, когда садиться на коня, когда с него слезать и сколько недель или месяцев сидеть в седле, решался только в Кремле. Ополчение как созывалось, так и распускалось по царскому указу. Иван III, когда ему было доложено о том, что несколько детей боярских самовольно на несколько дней покинули ряды войска, велит виновных бить кнутом на рыночной площади [28].
О том, какой боевой дух царил в московском войске, можно судить по свидетельствам иностранцев. Английский путешественник Ченслор пишет: «Русские не могут сказать, как говорят ленивцы в Англии: я найду королеве человека служить вместо себя или проживать с друзьями в доме, если есть достаточно денег. Нет, это невозможно в этой стране; русские должны подавать низкие челобитные о принятии их на службу, и чем чаще кто посылается в войны, тем в большей милости у государя он себя считает» [29]. А вот известия из вражеского источника. Польский шляхтич немецкого происхождения Рейнхольд Гейденштейн, проделавший вместе со Стефаном Баторием все его войны, описывает русских: «…Считая верность к государю в такой же степени обязательной, как и верность к Богу, они превозносят похвалами твердость тех, которые до последнего вздоха сохранили присягу своему князю». Переходя к характеристике Ивана Грозного, он замечает: «Тому, кто занимается историей его царствования, тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями только посредством снисходительности и ласки… Причем должно заметить, что народ не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков вообще очень мало. Много, напротив, нашлось и во время этой самой войны (Ливонской. – Ф. Н.), таких, которые предпочли верность к князю, даже с опасностью для себя, величайшим наградам» [30].
Подведем же некоторые итоги. Русь (Россия) и страны Западной Европы прошли через одни и те же этапы развития своей государственности. Империи Карла Великого соответствовала, по выражению К. Маркса, «империя Рюриковичей», то есть Киевская Русь. Феодальной раздробленности там – удельная система здесь. Домену первых Капетингов – вотчинная монархия Ивана Калиты и вообще первых московских князей. И там и здесь патриархально-вотчинная монархия развертывается в сословно-представительную с ее генеральными штатами, парламентами, кортесами, сеймами, земскими соборами, а последняя, в свою очередь, перерастает в абсолютную, опирающуюся на постоянное войско и бюрократический аппарат.
Однако в рамках одной и той же общественно-экономической формации, в русле единого исторического процесса Московская Русь выделяется все же явным своеобразием своего государственного устройства. «Это устройство, – отмечает В. О. Ключевский, – целая политическая система, которой нельзя отказать ни в стройности и последовательности, ни в практической пригодности. Пригодность системы доказали ее результаты: она помогла государству в продолжение двух веков с лишком, с половины XV и до второй четверти XVIII века, выдержать трехстороннюю борьбу на западе, юге и юго-востоке, с которой по тяжести ни в какое сравнение не могут идти внешние затруднения, испытанные в те века государствами Западной Европы» [31].
Основные черты своеобразия этого устройства, на наш взгляд, сводятся к следующему. На каждой ступени экономического развития русских земель (и России в целом, начиная с середины XVII века) Москва всякий раз достигает максимума в сосредоточении государственной власти над страной, максимума возможной политической централизации в данных экономических условиях, что обеспечивает ей способность мобилизовать в случае военной необходимости гораздо больше боевых сил и материальных средств, чем это могли себе позволить враждебные ей державы, несмотря на все их многолюдство и богатство. Вот это гораздо более полное использование Русским государством своего довольно-таки скудного военно-экономического потенциала и давало ему возможность в конце концов всякий раз выходить победителем из тех долгих исторических споров, которые оно вело с Золотой Ордой и ее наследниками, татарскими ханствами, с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитою, с крестоносным Орденом, с Швецией и Турцией.
Другой стороной этой централизации, этого беспримерного для всей остальной Европы напряжения военных и хозяйственных сил русского общества был беспримерно же высокий уровень политической дисциплины всех составлявших это общество классов и сословий. Сословия отличались одно от другого здесь не правами по отношению к государственной власти, а всего лишь обязанностями, которые государство разверстывало между ними и которые при надобности верховная власть могла увеличивать по своему произволу.
Итак, централизация и дисциплина – вот ответ Москвы на исторический вызов, брошенный русскому народу. Ответ суровый, но единственно правильный в той неравной борьбе, что вел этот народ за существование, за национальную независимость, за удовлетворение насущнейших потребностей своего экономического развития.
«Необходимость централизации, – писал А. И. Герцен, – была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства… События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой – но какой ценою?…Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» [32].
Историческая цена, заплаченная русским народом за могущество и величие своей родины, была и в самом деле поистине огромной. Помимо рек крови, пролитых на полях сражений, он вынужден был отдать Москве и еще кое-что чрезвычайно важное: свои вольности, свое вечевое устройство, свои возможности политического развития по пути городов-республик. Новгород Великий и Псков лишь дальше других продвинулись по этому пути, а шли по нему и все прочие русские земли; ко времени основания Москвы авторитет князя и политический вес его дружины почти повсеместно падают перед возросшим значением веча. Но начинается взлет Москвы – и вечевые колокола замолкают один за другим: вместо граждан ей, по уже приведенному выражению Ключевского, нужны лишь «работники» и «солдаты». Это трагическое превращение и совершается.
При перерастании сословно-представительной монархии в абсолютизм в середине XVII века чиновничье управление в России, как и повсеместно в Европе, постепенно вытесняет общинное, однако здесь этот процесс затягивается до XX века. Только столыпинская реформа разрушила крестьянские общины, объединявшие в себе уже в XIX веке до 80 процентов всего русского населения.
А разве можно из истории России вычеркнуть славную казацкую вольницу? Или широкий разлив мирной крестьянской колонизации на просторах европейского русского Севера, Поволжья, Сибири? Или движение раскола? Или народный подъем 1612 года?
Все это, конечно, никак не укладывается в рамки истории государства Российского, ибо имело источником не государственную инициативу, а историческое творчество народных масс. Да ведь и история русского народа гораздо шире и глубже, чем история созданной его потом и кровью державы. Вот почему главу «Ответ Москвы» было бы логично завершить вопросом: а был ли ответ этот достаточным условием побед России над сильнейшими противниками? Централизация и дисциплина, наложенные Москвой на русский народ, – это в самом деле необходимые и важнейшие предпосылки торжества России. Но только ли благодаря им, благодаря государственной централизации и политической дисциплине, были одержаны ее решающие победы? На наш взгляд, было бы и фактически неверно, да и весьма несправедливо по отношению к этому героическому народу ограничиться рассмотрением только этих двух факторов. На протяжении всей нашей многовековой истории действовал также третий могущественный фактор величия России – сила народного патриотизма.







