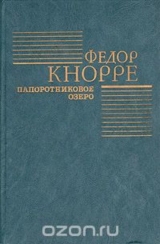
Текст книги "Папоротниковое озеро"
Автор книги: Федор Кнорре
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Ну да, ну да!.. – убежденно подтвердил Палагай. – Так было, было… Да ты хоть поцеловал ее, а, Ваня? – Этот вопрос у него уж как бы с тревогой, даже робостью вышел.
– Да весь остаток наших дней мы, кажется, одним только этим и жили. Целовались и радовались, а я все любовался ею.
Палагай опять остановился, крепко ухватился за основание толстого соснового сука, совсем отвернувшись от Тынова. С каким-то стоном великого облегчения, громко выдохнул:
– Верил бы я в бога, так и сказал бы: слава богу!
Встревоженный Тыпов стоял и растерянно смотрел ему в спину. Бархан, бежавший далеко впереди, воротился и полез в кусты, проверить, пет ли чего интересного в чаще, куда уставился хозяин.
– Детка моя, – как-то без памяти бормотал Палагай. – Все-таки хоть немножко радости, а досталось и на твою долю… на короткую твою долю… А чего это мы остановились?.. Надо идти…
Пойдем, Ваня. – Он оторвал руку от ветки и тщательно стал сковыривать с ладони прилипшую смолу.
Вечером, только на третий день, они распили наконец привезенную Ты новым водку. Палагай, конечно, нисколько не пьянел, только, полуприкрыв глаза, усмехался, покуривая, кажется, старался почувствовать себя и выглядеть, как полагается подвыпившему человеку.
– Даже не знаю, как это я надумал тебе письмо послать. Месяц ответа нет, два – нет, и так далее. И наконец я решил, что это даже очень прекрасно. Одно к одному, и Ванька Тынов такая же равнодушная сволочь, как и те… Ну, неважно, какие те… Ведь я теперь тебя как нашел. Совсем уж потерял, и вдруг ты опять у меня нашелся. Ты вспомни, как мы прожили войну. Боевые вылеты, бомбежки и сводки Совинформбюро, и все мы жили одним: только бы довести дело до конца, покончить войну, а тогда уж разом все плохое кончится и на земле все станет хорошо и прекрасно… Я сейчас уже не помню в точности, как я тогда воображал. Понимал, конечно, что нужно будет заново поднимать города, все разрушенное восстанавливать и так далее… Это все ясно. Но жила во мне… как-то скрытно, в самой глубине существовала такая мысль, или вера… все равно, как ее назвать, что, главное-то, люди после войны станут совсем другими. Не могу объяснить, какими другими. Открытыми, честными, благородными?.. Может быть, радостными, добрыми друг к другу?.. Не знаю! В войну ведь все до того было просто! Враг? – стреляй, бей, сбивай. Свой? – спасай, прикрывай, хоть своим телом, потому что он свой! Вот, брат… и не успел я вовремя отделаться от этой своей несуразной ребячьей мечты… Отделался. Да очень уж поздно. И потому-то и проистекли у меня одно за другим самые безобразные столкновения. Все на почве… это кто-то очень удачно про меня выразился, моей «нетерпимости к людям».
– Это когда ты овцу притащил?
– И овцу тоже. Почему-то именно этот мой подвиг наделал шуму. Именно вследствие несуразности факта: полудохлая овца – и вдруг в районном зале заседания… Да не думай, я ведь не сразу взбесился. Я сперва к телефону. Поднял всех на ноги, заставил склад в нерабочее время открыть. Водителя отыскал и погнал его за сорок километров за кормом! Все наладил, и тут бы мне и уехать, а я остался. Жду, когда машина вернется. Стою и смотрю на этих овец, они в кучу жмутся, стиснулись, очень мерзнут, терпят. Потом у одной какой-нибудь ноги подогнутся… бряк об пол, и больше не встает. Ну что делать? Одной овцой меньше. Неприятность. Кому-нибудь строгий выговор. А овцу спишем… Нечаянно полез я в карман за папиросами, вытащил платок, и вдруг какая-то дура овца оживилась, голову повернула и тупыми своими глазами живо уставилась мне на руки: что это я собираюсь делать? Может, ей чего-нибудь съедобного собираюсь дать?.. И вот тут на меня оно и нашло. Затмение пли просветление… не знаю, как определить, только вдруг как-то дошло, что вот они передо мной толпятся, беспомощные, точно кем-то обманутые, ведь даже теплую шерсть с них состригли и бросили их тут трястись в ознобе, умирать с голоду… В общем, у меня в башке вдруг все спуталось до того, что я уж не различал, кто они: овцы, козы или дети все смешалось, и одно только открылось: живое погибает в мучениях, и кто-то виноват перед ними. Вот тут-то я выхватил из толпы одну какую-то животину, и втащил в машину, и рванул с места. Дорога обледенелая, заносит мои газик во все стороны, я газа не сбрасываю, видишь ли, мне, дураку, на заседание бы… Не опоздать! Чуть не на триста градусов крутануло, почему только вверх колесами не перевернуло? Не знаю.
Палагай тяжело закашлялся и засмеялся так, что долго никак не мог удержать трясущейся рукой папиросу, чтоб прикурить над огоньком керосиновой лампочки.
– Надо уж заодно тебе сказать, как я машину-то наладил за кормами! Тоже эпизод достойный! Я не говорил? На ферме догуливали третий день прошедший праздник. Зоотехник пьян, как змей, сидит за столом, кусок холодца по тарелке вилкой ловит, поймать не может. Я бегом по дворам, искать водителя. Везде шум, крик, песни, топот. Наконец мне показали дом, где водитель, Шафранов какой-то, живет. Я прямо без стука врываюсь. Слава богу, там хоть тихо. На кухне баба чем-то на сковородке шипит, а сам Шафранов уже завалился, лежит в постели, рожа багровая, однако вроде в своем уме, человеческую речь понимает. Я на него набрасываюсь: вы тут пьянствуете, а овцы дохнут. Вам, дармоедам, корма выделили, так некому поехать. И Шафранов даже приподымается на постели и начинает вместе со мной возмущаться таким безобразием, и его баба тоже ахает: «Ах, да как это можно! Как же это допустили! Неужели они овец без корму оставили! Это позор!» И я из себя выскакиваю: лежа на боку, возмущаться многие любят! Ты вставай живей да одевайся! Он вроде обалдел, потом из-под одеяла высовывает ноги в подштанниках и сидит, потом нехотя, вяло начинает одеваться, но все как в глубокой задумчивости, и баба его вдруг бросается удерживать: «Да как ты поедешь! Да ты не доедешь, на полдороге свалишься» – и тому подобное, да штаны у него отнимает, а я у нее вырываю и Шафранову в руки обратно их сую. И он потихоньку штаны на себя натягивает и еще виновато оправдывается: «Да разве я отказываюсь? Сейчас, сейчас!..» – и наконец баба ему шарф семь раз вокруг шеи наматывает, сама кругом все на нем застегивает, подтыкает, как на маленьком каком! И провожает его чуть не со слезами, с причитаниями, точно на фронт. Шафранов уже машину благополучно со двора вывел и загудел по шоссе, уже и красный огонек пропал, я прислушался нечаянно, чего это баба все бормочет: «Тридцать девять да тридцать девять…» Ну, в общем, оказывается, это медсестра приходила, еще днем у него температура была тридцать девять с чем-то. С тем он оделся и поехал… Тоже один из моих подвигов!
Это единственный раз был, когда Палагай разговорился так надолго. И все, что говорил он о себе, как о каком-то постороннем и не очень приятном человеке. С недоброй насмешкой над самим собой. В последующие дни опять они вместе ходили в обходы по лесу, и все больше молча. Тынов осторожно пытался раза два закинуть удочку: не уехать ли им вместе, не лучше ли будет ему?.. Но Палагай обрывал на полуслове:
– Возможно, что мне в другом месте будет и лучше! Не хочу спорить… А ты спроси: хочу я, чтоб мне было лучше? Не осталось у меня этого желания – устроиться так, чтоб мне было лучше. А тебе пора отсюда уезжать, ты и не задерживайся.
Действительно, уже и отпуск у Тынова подходил к концу. И уезжать было нужно, и оставлять Палагая одного в лесу было нехорошо. Так и сошлись они на странном неустойчивом договоре. Устроить жизнь вместе на один год. А там видно будет. За год многое может в человеке измениться.
Тынов договорился без всякого труда в лесничестве, его брали с великим удовольствием.
Палагай все время его отговаривал оставаться, но видно было, что ему великое облегчение было бы в жизни – знать, что Ваня Тынов где-то недалеко, рядом, в том же лесу.
– Это подлость с моей стороны! – морщился он. – Честное слово, подлость, что ты из-за меня все бросишь и в лесную берлогу залезешь! Нелепое предприятие.
– Так ведь на год договорились!
Палагай ругался, но как-то обрадованно вдруг начинал смеяться. Потом мрачнел, но и не так беспросветно, как в первые дни приезда Тынова.
В неустойчивом равновесии они простились, когда решено было Тынову ехать в Москву: забирать документы.
– Подлость делаю, Ваня, – виновато, неуверенно улыбаясь, Степа Палагай на прощание обнял, крепко поцеловал Тынова и неожиданно спросил: – А ты Тамару помнишь? Из Старой Руссы? Что ж ты ни разу не спросишь? Боялся? Чего уж бояться. Там же она, где и Соня. И та, помнишь, еще у меня была? Все там. На Пискаревском, на блокадном кладбище… Ну-ну, я и говорить тебе не хотел, на дорогу вот зачем-то огорчил…
Вот и все о Палагае. Больше ничего и не было. Благополучно съездив в Москву, Тынов уладил свои дела, купил кое-чего из полезных вещиц. Но Палагай его не встречал на автобусной станции. Люди говорили, что он застрелился. Но мог произойти и несчастный случай. Очень-очень маловероятный несчастный случай в лесу.
С тех пор и застыла, замерла без движения жизнь самого Ивана Тынова в этой, подсунутой ему неласковой судьбой, глухой лесной сторожке, где неудачно пробовал когда-то укрыться от самого себя Степан Палагай.
Перед самым рассветом он задремал ненадолго, продолжая и в полусне думать все о том же самом. Начинало светать, когда он снова открыл глаза. Ночные воспоминания расползались клочками, как облака на ветру. Ему не хотелось их отпускать. Он попытался ясно вспомнить Соню. Вслух повторил ее имя, и на сердце у него как-то нежно помягчело, но тут же он вдруг заметил, что опять совсем не может вспомнить ее лица. Вспоминалось что-то неясное, светящееся радостью, ускользающее. Он продолжал напряженно вдумываться, повторяя про себя: Соня… Соня… и, странное дело, как всегда, он яснее вспоминал ее такой, какой она была в двенадцать, даже в десять лет, чем взрослой. Как будто в его памяти она не хотела взрослеть, а потихоньку отодвигалась к детству…
Он встал и пошел убирать со двора белье. Дождик так и не состоялся. Из-за реки по-прежнему тянуло горькой гарью лесного пожара.
Они с Барханом неторопливо двинулись в свой обычный обход.
И на другой день было все то же самое. И ночь такая же, и мысли. Но покоя все-таки не было. И от плеча его рубашки, продолжал едва слышно доноситься совсем замирающий запах духов.
Он так устал от мыслей, что махнул рукой на все и злой, почти с отвращением к себе, вдруг собрался и зашагал по просеке к автобусу.
– Сто пятьдесят с приветом? – обрадованно, по привычке развязно-шаловливо, спросила Дуся. Не отрываясь от него взглядом, протянула назад на ощупь руку за бутылкой. – Еще не сбесился там один в лесу? Погоди, сбесишься.
Он смотрел на ее руки, как они наливали, как всегда, сверх меры ему водку из стакана в стакан, и вдруг понял, что пришел сюда по привычке, что ли. Или по ошибке.
– Съемки-то у вас наконец кончились? Уехали?
– Возятся еще. Во дворе монастырском чего-то ковыряются.
Она была как справочное бюро. Все городские новости так или иначе проходили через нее.
– Наборный все еще около съемок толчется, наверно?
– Нет, сегодня ведь суббота, значит, он газету выпускает. По субботам он дежурный… А я с утра тут троих клиентов едва выперла. Вот уж надоели, только хлебнут, сейчас опять схватятся, идиоты, в спор, что такое есть Сарбернар!.. Об заклад бились, до двух литров. И тогда Хвазанов приволок книжку и тычет в нос: действительно, там портретик в рамочке и подпись как будто правильная, Сарбернар. Два литра выиграл. А после – хуже: Суглинков, кривоносый, приводит двух свидетелей, что была и у Лазебникова Динка, собака, тоже подлинный Сарбернар, хотя он ее потом увез. Крыть нечем. Тоже два литра выиграл. Тут я их выгнала, они где-нибудь под кустом все четыре вместе пропивают, черти… Ну, идиоты?..
– Ладно, – остановил ее Тынов, – ты мне потом все доскажи. Я это на обратном пути дослушаю лучше. Ладно? Мне к Наборному заглянуть!
Он поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж деревянного дома, где помещалась редакция газеты. В коридоре было безлюдно, тихо, только голос Наборного за закрытой дверью бушевал. Жизнь в районной газете была довольно тихая, но когда представлялась малейшая возможность, он бушевал, окунаясь в клокочущую бездну кипучей, нервной, лихорадочной жизни той воображаемой газеты, с ее телетайпами, ночными звонками, сенсациями и катастрофами, мечта о которой все еще тлела в его душе, несмотря на то (или именно потому) что было ему уже за пятьдесят и он давно уже осел, обзавелся семьей, друзьями и родней в своем районе.
Он стоял без пиджака, в старомодных подтяжках, кричал в телефонную трубку. Большим пальцем он подцеплял лямку на груди, далеко оттягивал ее и вдруг разом отпускал. Она громко щелкала, и тогда он хватался за трубку обеими руками. Потом, как бы в соответствии с напряжением разговора, снова начинал оттягивать и спускать резиновую тетиву подтяжек.
– … Что? Что?.. почему он позвонил именно в редакцию? Дурак, вот и звонит в редакцию… Ну вот, теперь я передам вам. Всё? Все!
Он бросил трубку и в изнеможении вытер сухой лоб платком. Тынов смотрел на него с порога, сдерживая усмешку.
– Что ты тут разбушевался? Со двора слышно.
– Ах, это ты? – не сразу остывая от запальчивого крика и возвращаясь в тихую районную субботу, отозвался Наборный.
– Сенсация? ЧП?
– Да! – с достоинством, вызывающе сказал Наборный. – Да!.. Но лучше бы ее не было. Минуточку! – Он опять схватился за трубку, вызвал номер и напряженно стал ждать. Два раза щелкнул подтяжкой и тихо отложил трубку. – Не отвечают. Наверное, уже вылетели. Ты никуда не торопишься?
«Вот уж нет», – подумал Тынов и пожал плечами.
– Тогда пойдем со мной вместе, сходим на место действия… ну, в аэропорт. Я должен проследить с места событий, еще успею тиснуть в последние известия по району. Пошли, пошли, вернемся вместе, посидим, сдам номер, ко мне зайдем выпьем того или иного чаю.
– Куда ты меня, желтая пресса, тянешь?
Что такое «аэропорт», он знал. Взлетно-посадочная площадка с деревянным павильоном, похожим на длинную будку.
Они уже шагали по улице. Наборный рассказывал довольно громко, но таинственно, все время дергая за рукав Тынова, подтаскивая его, ради секретности, к себе поближе. Это было у него еще от «той» газеты, где сенсации хранятся в строгой тайне, чтобы взорваться, как бомба. Раза два из оттопыренных карманов пиджака у него вываливались небрежно засунутые туда пачки каких-то газет. Он на ходу подбирал их с тротуара и, не глядя, засовывал обратно, продолжая говорить:
– Понимаешь, этот баран, этот овцебык и кретин, лесник с Долгой Поляны, – ты знаешь пост на Долгой Поляне? – ну, вот. Сам он там где-то с пожарным отрядом. И вот этот болван вдруг названивает к нам в редакцию. По телефону откуда-то из сплавконторы, что ли? Сообразил вдруг, что у него на Поляне, в сторожке, семья осталась и сидит… Жена, понимаешь, и мальчик… или девочка, и, главное, корова, на корову он особенно напирал. Ему, конечно, приказали семью вывезти, а тут дождь! Он и понадеялся. А дождь попрыскал и хрю! И вот теперь сукин сын названивает – ах, караул, туда ни пройти ни проехать… Да, да, он в сплавконторе, добрался туда, и сидит сейчас, и названивает. И куда? В редакцию! Вспомнил, что семья!.. Ну, я передал куда надо, сказали, пошлют туда самолетик. Он сейчас уже туда вылетел.
– А мы туда зачем премся?
– Посидим, подождем, с чем он вернется… Ты же знаешь пост на Долгой Поляне?
– Был там раз… Так, по карте, знаю. Километров сорок, на той стороне реки.
– Пойдем, пойдем, ты меня не бросай, посидим, походим часок. Сводки о ходе борьбы с пожаром мы в газете каждый день печатаем. А тут живой эпизод… Но остолоп-то каков? В газету! Напечатать, что после проверки жалоба на пожар подтвердилась, что ли?
За старинной монастырской стеной вдруг вспыхнуло живое голубое сияние. Среди бела дня полыхнуло, плеснуло по белой известковой стене храма и осталось чудным гудящим заревом. Шла съемка.
Они оба остановились. Стоило обойти угол монастырской стены, заглянуть сквозь решетчатые кованые ворота, войти в калитку, и сразу окунешься в этот сияющий, ослепительный мир. Только минуту ясно и четко ее увидеть, потом закрыть глаза, отвернуться и уйти. Еще больней будет, но это не беда, он же не удовольствия, не покоя ищет, пускай. Ему бы только взглянуть еще разок, спокойно, без помех, чтобы унести с собой, что увидел. Все равно – будет она в парчовом сарафане с кокошником или в будничном платьишке. Она может его и не заметить, пускай, даже лучше. Только взглянуть внимательно, чтоб потом навсегда осталось, что вспоминать.
– Может быть, заглянем туда? Так, на минутку?
Наборному и самому хотелось. Он поколебался, почти соглашаясь. Без него туда соваться было совсем нелепо: могли просто не пустить или отогнать прочь, окриком, со съемочной площадки, и она, занятая своей работой, сосредоточенная, только досадливо обернулась бы, кинув отсутствующий взгляд, – «чего еще этот явился?..».
– Успеем еще, заглянем попозже! – бодро решил Наборный, и они пошли дальше. – Тебе на почте опять какое-то письмо. Не брал? Ясно. Ты хоть из тех, прежних, хоть одно распечатал?.. Честное слово? Ни одного? Ну, знаешь, я про тебя напишу новеллу: «Человек, который не распечатывает писем». Ведь целый год уже, а? Нет, брат, ты эдак окончательно превратишься во что-нибудь такое: неандертальца, каннибала или аборигена, честное слово, так нельзя… Вот я приду к тебе и сам распечатаю. А?
– Печатай. Мне наплевать. Ничего мне интересного там быть не может.
Свернув с дороги, наискосок через березовую рощу вышли на просторный загородный луг. В те времена, когда тут держали еще коров, это был выгон для скота.
Около старого двухместного самолета паслась коза.
Наборный ахнул и схватил Тынова за руку:
– Что же это такое? Он стоит!.. С ума они сошли, что ли? Ваня! – медленно, от волнения на согнутых ногах, он побежал к аэровокзалу – длинному павильону сарайного вида, но с двумя колонками у входа.
В жилом отсеке стояли, как в казарме, в ряд с одинаковыми интервалами четыре койки, со шкафчиками у изголовья.
Два мужика спали вповалку на койках. На стене, не переставая, звонил телефон.
Наборный всплеснул руками, схватился за голову и вдруг с ожесточением набросился на мужика, тяжело храпевшего, уткнувшись носом в серую подушку.
– Хвазанов! Ах, сволочи… Телефон звонит! Вставай, мерзавец!
Тынов, стоя в дверях, равнодушно наблюдал за тем, как Наборный трясет, дергает и наконец с трудом переворачивает лежащего. Сперва на бок, потом, ухватившись за свесившуюся с койки босую ногу, на спину.
– А-а, вот это кто! Красавец! – брезгливо усмехнулся Тынов. – Чего ты над ним надрываешься?
– Как чего? – Наборный прерывисто дышал от борьбы с бесчувственным телом. – Как чего? Да это же Хвазанов, ну, съемочной группе его самолет выделили, вон он стоит. Хорош пилот, скотина, ведь ему лететь нужно… Как на грех, директор съемочной группы ему два выходных, кажется, дал… Ну, что с ним делать, ведь его и на ноги не воткнешь!
Он в отчаянии оглядывался, не зная, на что решиться. Котелок с сырой картошкой стоял на столе. Придерживая ладонью, чтоб не вывалились картошки, Наборный слил всю воду из котелка прямо на морду Хвазанову. Тот захрипел, когда вода залилась в горло, Послышался мерзкий звук пьяного откашливания.
Опять зазвенел замолкший было телефон. Наборный опрокинул и с силой вытряхнул котелок. Мокрые картошки застучали по лбу, посыпались на подушку.
Тынов стоял и думал. Какое-то веселое отчаяние поднималось у него к сердцу. Еще ничего не решив, он вдруг шагнул к стене и сорвал телефонную трубку.
– Слушаю!.. Да, он… Точно… Понятно… Вас понял!
Наборный смотрел на него, онемев от изумления. Сам голос, движение, быстрое и точное, каким повесил трубку Тынов, было как будто перед ним вдруг оказался другой человек. Все, что было дальше, осталось в памяти Наборного как бредовый, гипнотический сон, туман, наваждение, в которое он сам попал и действовал помимо своей воли.
– Кто это говорил с тобой?.. С кем ты разговаривал?
– А я откуда знаю? – Тынов сунул руку в карман куртки, висевшей над головой Хвазанова, обшарил его и ощупал другой карман. – Звонил какой-то. Требовал вылететь… Да вот, то самое, что ты говорил, семья лесника отрезана там.
– Да может, они сами давно ушли?
– А может, сгорели. Пошли, пошли!
Полный растерянности и недобрых предчувствий, Наборный покорно подчинился. Они дружили с Тыновым, но дружба их была неравная: Наборный давал положительные советы, заступался, оказывал поддержку, а Тынов всегда был на втором месте, упрямо, нерасчетливо, равнодушно уступающий. И вот все вдруг переменилось: Тынов стал командовать, а Наборный пугался, ахал, умолял опомниться, не сходить с ума, а тот делал свое дело, отцеплял крепления, освобождал колеса и, взобравшись в открытую кабину самолета, что-то там дергал, проверял и вдруг скомандовал: «Принеси очки!»
– Я тебе не позволю! Не смей даже думать об этом! – кричал Наборный и побежал за очками. Когда он вернулся, еще раз убедившись, что оба пьяных не скоро вернутся на этот свет, Тынов водил пальцем по планшетке, запоминая карту, и, посвистывая сквозь зубы, приговаривал: – Так… значит, так!..
– Сейчас же слезай обратно! – повелительно вскрикнул Наборный, подавая и отдергивая обратно очки.
Беспощадное, веселое, злое лицо, в полумаске громадных очков, глянуло на него сверху. Голос командовал:
– Гони козу! Бегом, гони к черту…
И вместо того чтобы запрещать, удерживать, образумливать, препятствовать, Наборный побежал по полю перед самолетом, размахивая руками и крича на совершенно постороннего мальчишку с удочкой, стоявшего в позе остолбенелого наблюдателя.
– Чертенок! Гони козу с лётного поля, очумел, что ли! Я тебе сейчас уши нарву.
Коза уперлась, мальчишка ее тянул за веревку, потом за рога, тогда она стала бодаться, мальчишка увернулся, а коза бросилась вдогонку.
Наборный, задыхаясь от беготни, к которой он был отнюдь не приспособлен, и от нарастающего волнения, совсем уже не понимал, кого он слушается и с кем борется, по команде Тынова ухватился за лопасть пропеллера. Он видел в кино, как это делают.
– Да ты, дурак, крутни и отскакивай, под винт сам-то не попади!..
– Нет, я не попаду! – без памяти кричал Наборный. – Но я тебе не позволю этого делать! Слышишь! Я запрещаю!
Он потянул опасливо за край винта и с ужасом отскочил, чувствуя, что какая-то сила уже родилась в этом винте. Мотор взревел, но самолет не тронулся с места, а коза опять щипала траву прямо перед самолетом.
Наборному хотелось одной рукой удержать самолет, чтоб он не взлетел, а другой отпихнуть с дороги козу, чтоб она не мешала взлететь. Все перепутанные чувства его слились в одну неистовую ненависть к козе, к ее насмешливо болтающейся бороденке. На рев мотора она не обращала ни малейшего внимания. Мальчишка стоял как дурак с обрывком веревки в руке и пялил глаза на самолет.
– Ко-озу, сволочь!.. – подбегая на заплетающихся ногах, издали кричал Наборный.
Теперь он и мальчишку возненавидел. К тому же и слов не было слышно. Мальчишка был ближе, чем коза, и он, ухватив его за плечи, стал трясти изо всех сил, крича: «Козу! Убери, чертенок!» Мальчишка испугался, но быстро пришел в себя и сам вцепился в Наборного. Они стали трясти и пинать друг друга.
– Отстань, сатаненок! – беззвучно кричал уже Наборный, отдирая от себя мальчишку, и тут какая-то большая тень накрыла их, звук мотора совсем приблизился и изменился, они оба увидели, что самолет уже повис в воздухе, идет над полем, коза, тряхнув бороденкой, скосив нахальную морду, глянула вверх и принялась опять за траву.
Они долго смотрели вслед самолету. Шум мотора затихал. Визгливый бабий голос где-то протяжно выводил:
– Китя… китя, китя, китя!..
Коза прислушалась, сказала гнусным голосом: «Мэ-ээ» – и затрусила на голос.
Еще один раз самолетик комариной точкой возник где-то вдалеке, над излучиной реки, и Наборный смог разглядеть, как тот круто повалился набок и пошел вниз, к земле. Может быть, это лучше. Он, кажется, упал в реку. В воде он все-таки может спастись.
Когда Наборный проходил на обратном пути мимо павильона, там опять безответно названивал телефон. Он чувствовал, что лучше ему уходить поскорее из этого места, что не надо ему прикасаться к телефонной трубке, но не выдержал, взял.
– Что самолет, спрашиваю! Самолет вылетел? – кричал крепкий голос в трубку так громко, что казалось Наборному, тот совсем рядом и может даже увидеть его.
– Куда-то улетел… кажется…
– Кому кажется? – вонзился ему в ухо ожесточенный голос. – Кто это отвечает?!! Кто говорит?
– Это… один из случайных прохожих, – подлым голосом пролепетал Наборный. Он вдруг так явственно почувствовал себя преступником, что сделался противен самому себе.
Бросил трубку и, воровато оглядываясь, не видел ли его кто, поскорее нырнул в березовую рощицу и зашагал к городу.
День в редакции тянулся как резиновый, и работы, как назло, было очень мало. Несколько раз, выбрав момент, когда никого рядом не было, Наборный воровски снимал трубку, звонил, замирал от волнения. Никто не отвечал. Слушая гудки в трубке, ему казалось, он видит двух храпящих мужиков.
Уже начинало темнеть, когда он неторопливо, как бы прогуливаясь, беззаботно здороваясь со знакомыми, отправился туда, куда его тянуло весь день: на место своего преступления. Давным-давно погасло уже волшебно-голубое зарево за монастырской стеной. Сумерки наползали на рощу. Хоронясь за редкими березовыми стволиками, он крадучись осмотрел все кругом: павильон и безнадежно пустое место на просторном выгоне, где стоял когда-то самолет. Мальчишка с удочкой, помахивая жестяной банкой на веревочке, вдруг возник на том самом месте, где была когда-то коза. Наборный попятился, наткнулся спиной на дерево, втянул голову в плечи и, отворачивая лицо, чтоб мальчишка его не узнал, стал уходить.
Минуту спустя он почувствовал, что у него одеревенела шея, до того он боялся нечаянно оглянуться. Он плюнул и помотал головой, стараясь расслабиться. Глупо. И мальчишка-то, кажется, вовсе не тот. Но ужас сознания своего соучастия продолжал его томить и мучить. Как мог он допустить, чтоб все это с ним случилось? Как он-то поддался бесшабашному порыву, охватившему этого полоумного Ваньку Тынова… Что это было? Минута паники, путаницы? И вот теперь Ваня скорее всего погиб, то есть, может, и не погиб, нет, скорее погиб… его, конечно, жалко, то есть, вернее, потом его будет очень жалко. Еще будет время о нем пожалеть. А вот собственный страх, весь кошмар этой неправдоподобной, нелепой истории, в которую он оказался впутанным, был сейчас. С ним. Давил на него, не давал покоя.
Боже мой, до чего все было бы хорошо, если бы ничего этого не случилось… Такой тихий вечер. Он уже почти свободен, осталось только на всякий случай выспаться на клеенчатом диване в редакции, и утром кончится само собой его дежурство… Киношники звали вечерком заглянуть, чаю попить. Досадно будет не пойти. Кроме того, это будет выглядеть странно. Даже подозрительно, почему это стал избегать показываться на людях. Как будто что-то случилось!.. Тьфу, черт, бред все еще продолжается, он в нем завяз, как в трясине, вот уж опять рассуждает, как настоящий преступник, обдумывает свои поступки, точно заботится об алиби!
В конце концов, что он Сам-то сделал?.. Да, принес и подал ему очки… крутанул пропеллер и гонял козу с этим окаянным мальчишкой… Правда, ведь еще коза!.. Ну и что, коза!.. Надо же так размалодушничаться… До козы дошел! Тоже мне свидетель обвинения… В конце-то концов Тынов ведь хотел что-то полезное сделать, и эти скоты действительно перепились, это и Дуся подтверждает, она про все сарбернарство в подробностях рассказала, как они с Суглинковым шальной заработок на ушкуйнических съемках пропивали.
Да черт его подери, все еще обойдется, и Тынов может прекрасно выплыть, если он в реку… Может, сидит сейчас, сушится… А самолет-то тогда ведь утонул? Нет, лучше бы уж не в реку. А то ведь пойдет разбирательство, комиссия, экспертиза… а он, старый осел, помогал заводить мотор… Ну и что? Побудительная причина ведь, можно сказать, даже благородная!..
Он вышвырнул все газеты из карманов на «дежурный» клеенчатый диван, вздернул подбородок, почувствовал себя отважным и несгибаемым и, как очки, перед выходом на улицу надел самоуверенную усмешку на лицо.
В школе его ждали к чаю.
Антоша с Мариной Осоцкой жили в учительской. Викентий, который прихлебывал не чай, приветствовал его добродушным «а-а-а!», но Осоцкая только глянула на него, так и остановилась, широко раскрыв глаза, тихо спросила упавшим голосом:
– Что это с вами?
Он все еще оживленно потирал руки и думал, что улыбка надежно сидит у него на лице, но на него уже, как из ведра, плеснуло мучительной путаницей, смесью всех нерешенных, недодуманных мыслей, сомнений, беспокойством мучительного ожидания, тягостных предчувствий. Неужели так вот, с первого взгляда, людям видно, что с ним что-то не так! Опять в голове мелькнула мысль: как надо держаться и что отвечать. От имени безмятежно спокойного, невозмутимо уверенного, ни в чем не замешанного человека. И конечно, с этой же секунды он стал до нелепости неестествен. До того, что и Викентий заметил:
– Котик, да на вас просто лица нет. Одна рожа. Вы что?
В дурмане? Вот я вам налью, от дурного глаза. Выпейте. Жизнь прекрасна, рыбонька. Конечно, если не очень присматриваться! – Он быстро налил в три разнокалиберные маленькие посудинки. – Марина, ты по обыкновению за рулем?
– За рулем. Так что же с вами такое, голубчик? – пытливо спросила Марина. Она сидела в кресле, рядом с большим зеленоголубым глобусом, положив на него руку, и медленно потихоньку поворачивала его па осп равномерным движением пальцев.
Наборный следил за тем, как послушно поворачиваются океаны, и континенты, и горные хребты, по которым нервно, затаенновыжидательно пробегают ее тонкие пальцы, и сразу совсем пал духом, уверился, что она все равно дознается, уже почти знает. В последней попытке бодро увильнуть, ляпнул, хуже не придумаешь:
– Со мной? Ничего! Решительно ничего!
– Ас кем?.. Что случилось? – Как будто он уже ответил, с кем.
– Я и сам не знаю, что с ним, честное слово. Нелепая история. Боже мой, что за нелепость. Конечно, все может кончиться благополучно. Только, пожалуйста, имейте в виду, вообще никто еще ничего не знает, и все вдруг обойдется. Только не надо никому ничего пока говорить. Понимаете? Вы должны дать мне слово, что будете молчать.








