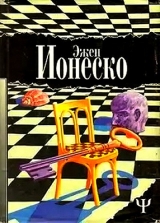
Текст книги "Наедине с одиночеством. (сборник)"
Автор книги: Эжен Ионеско
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Я сделал над собой усилие, сосредоточился, постаравшись забыть все дороги, которыми ходил прежде, все города, улицы, предметы, всех людей. Я бросился в мир и сделал это в первый раз. Я хотел вновь увидеть загадочность мира, добиться того, что мне иногда удавалось. Я будто присутствовал на спектакле, наблюдая со стороны, на расстоянии, не принимая участия в происходящем действе, не будучи ни актером, ни статистом, то есть не исполняя ни одной из тех ролей, в которых мы обычно выступаем. Окружен людьми – и вместе с тем не среди них. Иногда это усиливало мою тревогу, но чаще она исчезала. Никаких невольных или привычных оценок либо обобщений: мол, эти люди, улицы некрасивы или красивы, хороши или плохи, подходящи или неподходящи, опасны или безопасны. Мне удалось достичь определенной нравственной нейтральности. Или эстетической нейтральности. «Они» не были мне подобны, сделав еще одно усилие, я перестал понимать значения слов, которые произносили люди в ресторане. Как будто они разговаривали на незнакомом мне языке. Все это было не реальностью, а лишь призрачным видением, иллюзией того, что есть ничто. Тарелки и ножи, вилки и автобусы все превратилось в нечто такое, с чем не знаешь, что делать, чем не умеешь пользоваться. Таинственные, почти неразличимые существа двигались вдоль чего-то, напоминающего улицу, перемещались в некоем подобии пространства, проходили и исчезали в первый и последний раз. Реально существовал лишь я один. Я снова оказывался перед глухой стеной непостижимого. Где находится эта стена? Где нахожусь я? Я чувствовал себя чем-то уникальным в призрачном круговороте. Реальным было лишь пространство, которое заполнял собою я. Причем я разрастался, что было своего рода эйфорией. Чем более нереальным казалось мне «все это», тем больше крепла моя уверенность в том, что я – существую. Однако эту эйфорию следовало тормозить – не разрушать, но сдерживать. Иначе я принял бы такие размеры, что, заняв все экзистенциальное пространство, вновь очутился бы у невидимых стен непостижимого. Не знаю, насколько точно мне удается выразить то, что я хочу сказать. Трудно подобрать слова, чтобы передать это состояние. Голос разума нашептывал мне, что я не один, что подобных мне много, но я пытался его заглушить. Только когда я чувствую себя одиноким, космически одиноким – собственным создателем и собственным богом, творцом всех этих видений, – только в такие моменты я чувствую себя вне опасности. В таком одиночестве, как правило, не чувствуешь себя одиноким. Оно не абсолютное, а космическое, и многое уносишь с собой; есть еще другое, малое одиночество – социальное. В абсолютном одиночестве нет ничего постороннего – чьего-то присутствия, воспоминаний, образов, которые мучают вас, надоедают вам. Бывает одиночество невыносимое, наполненное тоской и скукой, и тогда ты нуждаешься в других людях, зовешь их, обращаешься к ним, некоторых боишься, но устремляешься к ним, как будто собираешься разоружить, или же, напротив, бежишь от них – в общем, веришь в их существование… Я не был богом, не создавал все эти скоротечные видения – мне их являли, показывали. Кто-то, а не я, был творцом. Я же терпел, и все же пытался сопротивляться, пытался держаться осторонь, быть лишь наблюдателем, не входя в игру, и вместе с тем не мог со всем этим не считаться.
Еще несколько мгновений я находился – вне. Голоса все еще звучали неразличимым шепотом, а люди выглядели призраками. Затем было падение – я возвращался в реальность. Вещи вновь обретали свою идентичность. Я предпринял еще одно усилие, чтобы вернуться в «другое место», туда, где все это не имело имени. Я стал пристально разглядывать пятно от красного вина, расплывшееся на скатерти. Я уже с успехом проделывал такой эксперимент. Он заключался в том, чтобы смотреть на что-то до тех пор, пока не перестанешь понимать, что это такое. Пятно, например, должно стать «я не знаю, чем», не знаю, на чем – на скатерти, которая не была больше ни скатертью, ни белым пространством, ни местом, на котором расплылось пятно. Однако сейчас я не мог сосредоточиться. Может быть, из-за официантки, которая, проходя мимо меня, бросила:
– Вы не будете больше есть бифштекс?
А ведь мне удалось комфортно расположиться в «другом» месте, все втянув в это другое место – даже бесцветные фразы, шаги, жесты людей, которые походили на жесты, но уже не были жестами. Нередко мне достаточно было многократно и быстро повторить слово «лошадь» или «стол», чтобы понятие освободилось от своего содержания, чтобы исчезло всякое содержание. Но в этот вечер дело не шло.
– Нет, не буду, – ответил я официантке, – вы можете принести десерт, а потом кофе, нет, принесите все вместе.
Голоса стали твердыми и горькими, а потом слились в неразборчивый шепот.
Все остальное было на своих местах: подвешенные к потолку лампы не шевелились, даже земля не дрожала. Когда я только начинал свои эксперименты, в пятнадцать или семнадцать лет, другое место появлялось быстрее. Чаще всего возникало нечто вроде светящегося ореола. А когда это состояние уходило, со мной оставалось воспоминание о светящемся мире. Я старался сохранять это радостное воспоминание как можно дольше – несколько дней, а может, и недель. Теперь, когда я вхожу в это состояние с гораздо большим трудом и гораздо реже, оно оставляет ощущение неуверенности, удрученности на грани с тоской. Я не был уверен – на самом ли деле я чувствовал то, что чувствовал.
Итак, все вернулось на круги своя, вещи стали называться своими именами. Я съел десерт, выпил кофе. Что делать теперь? Простая мудрость учит нас радоваться любым мелочам, которые дарит жизнь. Я долго исповедовал этот принцип. Потом я научился также не слишком расстраиваться ни из-за малых, ни даже из-за больших вещей. Но повседневность переносить нелегко; наконец, труду легче предпочесть праздность. Между усилием и настоящей скукой лежит состояние маленькой скуки – его я и выбирал, ему отдавал предпочтение. Мне страшно не хотелось покидать ресторан. Я заказал стаканчик виноградной водки. Кроме меня в зале оставались лишь двое молодых людей, влюбленных друг в друга, как миллионы других.
Ничего не поделаешь, нужно уходить. Я ведь уже заплатил. Я снял с вешалки шляпу. Сказал «до свидания» официантке, которая, думаю, вздохнула с облегчением, хотя и выказывала мне свое расположение. Быть может, она собиралась пойти в кино или провести вечер у телевизора со своим другом, кстати, нужно купить телевизор, чтобы коротать вечера, чтобы легче было засыпать.
– О, мсье, я так устала, я возвращаюсь домой, чтобы только поспать… – сказала мне официантка; вид у нее, однако, был довольно бодрый. Не может быть, чтобы она ложилась только для того, чтобы отойти ко сну. Ее зовут Ивонна, сообщила она мне, вот только времени поболтать у нее нет, ну ничего, будет еще время – завтра, послезавтра. Я вышел из ресторана, повернул направо, на хорошо освещенном проспекте было еще довольно много людей. Но уже меньше. Я повернул за угол направо. И оказался на маленькой улочке с редкими прохожими. Спали еще далеко не во всех домах, по многих горели окна. Наконец я подошел к своему дому, вошел, прошел по коридору, мимо комнаты консьержки. Начал подниматься по лестнице на второй этаж. Дверь комнаты открылась, и выглянула консьержка. Сняв шляпу, я сказал ей: «Добрый вечер!». Не ответив, она шмыгнула назад.
Я дам ей на чай или сделаю какой-нибудь подарок, чтобы она почаще улыбалась, сказал я себе, снова надевая шляпу на голову. Недоверчивое выражение лица мне не нравится. Я взошел на третий этаж, за дверью квартиры справа залаяла собака. Я поднялся на четвертый этаж, подошел к своей квартире, открыл дверь, закрыл ее. Включил свет, повесил шляпу на вешалку. Зажег свет в большой комнате. Затянул шторы. Вытянулся на диване. Затем встал. Уселся в кресло. «Ты у себя дома, тебе хорошо». Так ли это? Да, все-таки хорошо. Есть страны, где нужно быть готовым ко всему: полиция, например, может войти к вам в дом в любой час дня или ночи. Воров я не боялся. Я не жил ни в богатом квартале, ни в богатой квартире. Но мне следовало бы чем-то заняться. Получше узнать квартал, например. А может, завязать какие-нибудь знакомства? Здесь я сомневался. Новые знакомства могут нарушить привычный уклад жизни. И о чем говорить? Сам я ничего интересного не расскажу. То, что смогут рассказать другие, меня не интересует. Чье-либо присутствие меня стесняет: возникает что-то вроде невидимой перегородки. Правда, не всегда. В конце концов, пять-шесть физиономий будет достаточно. Моя новая жизнь может наладиться в самое ближайшее время. У меня возникла мысль выпить еще немного коньяку. Но я подумал о завтрашнем дне, о возможной тошноте, о чугунной голове. Посмотрим, как все образуется, сказал я себе. Жизнь увлекательна, может произойти столько неожиданных событий! Маленьких, не больших. Я не люблю большие приключения, от них только устаешь и ничего больше.
Когда я лучше узнаю квартал и все уголки своей квартиры, я смогу заметить какие-то изменения – маленькие метаморфозы света. Я не изучил еще как следует свою мебель, цвета и оттенки ее обивки. Я встал и подошел к месту, где поставил свои книги. Все они были прочитаны, и не раз. Некоторые из них я уже довольно давно не перечитывал. Но только откроешь первую страницу, как почти всегда вспоминаешь содержание. И тем не менее я любил перечитывать книги. Замечаешь, что в них есть куча вещей, которые не задержались в памяти. Такое-то событие или такая-то сцена. Но сейчас ни одна книга меня не привлекла. Я погасил свет в большой комнате и прошел в коридор, где свет уже был включен, потом в спальню, открыл дверь, зажег лампу, погасил лампу в коридоре и начал раздеваться.
«Впервые в жизни я сплю в этой спальне и в этой большой кровати». Я подумал, что никогда не забуду это первое прикосновение. Разве не так начинается новая эра? Будильник больше не нужен, сказал я себе. Все-таки они должны мне завидовать, мои бывшие коллеги по бюро. Я потушил свет. Я очень люблю забываться во сне. Эта фраза часто звучала в моей голове, но я не понимал ее смысла: забываться – от чего? Я всегда вижу сны. В моих снах отражается лишь то, что происходит со мной в жизни. Мои сны серы и безлики, в них нет ни желаний, ни страха. А ведь на самом деле желания у меня есть, и очень сильные. Два или три раза я видел страшные сны. Видел и такие, которые очень хотелось бы запомнить, и я жалел, что не запомнил, – от них остаются лишь тени, исчезающие на рассвете, убегающие тени, тающие в первых лучах зарождающегося дня. И вся наша жизнь состоит из каких-то обрывков. Нужно смириться, чтобы не страдать. Смириться. Я все время убеждаю себя, что нужно смириться. Довольно часто мне это в какой-то мере удается. Хотя это не глубокое, не настоящее смирение: через некоторое время во мне просыпается недовольство. Оно растет, усиливается, душит, переполняет меня, иногда превращается в ярость. Нет, я никогда не утешусь, никогда не смогу забыть об этой, стене, никогда ничего не увижу из-за этой стены, достигающей до неба. Как можно смириться с незнанием, в котором мы утопаем, несмотря на развитие всяческих наук, несмотря на все теологии, на все премудрости?! Со дня своего рождения я ничего не узнал и, знаю, что ничего не узнаю. Я хотел бы сместить границы воображения. Взорвать стены воображения. Но нет, они никогда не рухнут, и я умру таким же невеждой, каким родился. Это непостижимо – невозможность постичь непостижимое. Как они могут так беззаботно жить внутри этих стен, все эти техники, политики, ученые, крестьяне, рабочие, бедные и богатые? Речь не о гордыне. Я не хочу знать больше других, я желаю, чтобы все знали. «Это не является невообразимым; значит, будем воображать себе лишь то, что не является невообразимым», – написал один философ; я прочитал как-то несколько страниц из его книги, стоя в книжном магазине и приподнимая неразрезанные листы. Я никогда не возвращался к этому состоянию первозданного удивления перед миром, старался не возвращаться и к вопросам, на которые нет ответа. Нам говорят: избавьтесь от этого удивления, вырывайтесь за пределы этого круга. Но на чем же основывать, например, нравственность? Во всяком случае такой основой не может быть незнание, а мы пребываем именно в незнании, у нас есть лишь одна отправная точка – ничто. Что можно построить на этом «ничто»? Можно провести несколько практических экспериментов. Я знаю, что могу перемещаться в пространстве. Знаю, что могу пойти в ресторан. Знаю, что есть рестораны. Знаю, что есть различные механизмы, техника. Меня бесконечно удивляет, что есть техника, которая основывается на абсолютном «ничто». Вот еще один уровень моего удивления: как это может быть? Я в который уже раз говорю себе: ограниченное знание не есть знание. Вселенная, все сущее, все мы подчиняемся инстинктам, руководствуемся неглубокими размышлениями, вложенными в нас. Нами манипулируют, сами же мы недееспособны. Я ем не потому, что мне этого хочется: мною управляет инстинкт самосохранения. Я люблю и занимаюсь любовью не ради себя – я делаю это всего лишь для продолжения рода, повинуясь законам, которые управляют мною. «Законы» – я употребляю это слово, потому что у меня не хватает воображения, чтобы иначе назвать эти принципы, манипулирующие мною. Мы предопределены социально, но это еще не все – мы предопределены биологически, космически. И эти слова тоже прозвучали во мне до того, как я их произнес, – они посеяны во мне. Но этот способ говорить и думать – я называю это так – не охватывает действительности, потому что я, по сути, не знаю, что такое действительность, не знаю совершенно, не знаю, является ли она выражением чего-то, не знаю, что под этим подразумевается.
Я пытаюсь реализовать свое решение перестать мыслить, если только это можно назвать мышлением и если мысль действительно является мыслью.
Мы терпим. Я терплю. И должен быть удовлетворен тем, что терплю. Вот уже и смирение. Всякий раз, когда во мне появляется хотя бы толика смирения, я чувствую облегчение. Я успокаиваюсь, отдыхаю. Я засыпаю.
И вдруг, совершенно неожиданно, как и всегда, в голове у меня возникла мысль: сейчас я умру. Я не должен бояться смерти, потому что не знаю, что это такое и, потом, разве я не сказал, что все должно идти своим чередом? Бесполезно. Я вскакиваю с кровати, меня охваты наст жуткий страх, я зажигаю свет, мечусь из угла в угол, выхожу из спальни, вхожу в большую комнату, включаю в ней свет. Я не могу больше ни лежать, ни сидеть, ни стоять неподвижно. И я двигаюсь, двигаюсь, перемещаюсь по всей квартире, всюду зажигаю свет и хожу, хожу, хожу. Миллиарды живых существ охвачены той же тревогой. Почему же нами так манипулируют? Не помогают никакие рассуждения, никакие увещевания. Я мокрый от страха. Как другие, как многие другие. В каждом из миллиардов живых существ гнездится этот страх, можно сказать, что в каждом человеке умирают миллиарды живых существ. Почему так происходит? Несомненно, тот факт, что я поменял место проживания, что больше не хожу в бюро, способствовал пробуждению этой тревоги, я ведь уже довольно давно ее не испытывал – и расслабился. Я изменяю образ жизни, вступаю в новую жизнь, и мною овладевают тревоги и страхи, которые давно уже стерлись привычным однообразием прежних будней. Тревога вспыхивает во мне с новой силой, меня словно отбрасывает назад, в тот день, когда она впервые посетила меня вместе с первым удивлением. Каждый есть никем, и в то же время каждый – это вселенная. «Надо лечь в постель и не думать больше, не думать больше». И тут меня настигает усталость, она приходит с первыми лучами солнца, на заре, сладкая усталость, я наконец-то могу лечь в кровать, укрыться и уснуть.
Каждый рассвет – начало или возобновление. Воскресение. Смерть отдаляется, прячется ото дневного света. Да, утро – воскресение, и это не просто символ. Его ощущаешь, видишь и слышишь. Я хорошо помню то время, когда был маленьким и меня уже мучили первые тревоги. Вечерами, после работы, к матери приходили соседки по лестничной площадке; они тихонько разговаривали в соседней комнате, дверь моей комнаты мать оставляла открытой. Я, верно, тогда уже боялся темноты и тишины, потому что был счастлив от того, что в полусне слышу этот шепот взрослых, успокаивающий шепот. Я сладко засыпал под его аккомпанемент. Теперь перед тем, как встать, я люблю подремать, прислушиваясь к утренним звукам и запахам: шаги соседа сверху, скрип открывающегося окна или двери, радиоприемника, аромат кофе. Но что мне нравится больше всего, так это грохот первой электрички, доносящийся из метро, или шум первого автобуса. Но в этом пригороде я не услышу грохота электрички; этот грохот, от которого слегка дрожат стены, этот приглушенный грохот успокаивал меня, и я засыпал. Затем, увы, звенел будильник. Но здесь его у меня не будет. За исключением звона будильника, никакие звуки на меня не действуют. Шум отбойного молотка, машин, пил не задевает меня, не раздражает, я даже не пытаюсь не слышать его: он сам по себе – я сам по себе. Так складывается нечто вроде звукового пейзажа.
Разбудил меня звонок в дверь. Было уже одиннадцать часов. Пришла Жанна, домработница. Она извинилась за то, что опоздала: обычно она приходит в десять часов, но у нее было много работы, да и муж приболел. Видно, однако, было, что она не слишком переживает: благодаря тому, что она опоздала, я смог поспать на час больше. Я сказал ей, чтобы она начинала с большой комнаты, а сам пошел в ванную. Не очень-то она светлая, моя ванная, потому что окно ее выходит во внутренний двор, но и не слишком мрачная. И все-таки свет нужно зажигать. Что за ярмо – этот ежедневный туалет! Я всегда стараюсь отодвинуть эту повинность, насколько это возможно. По воскресеньям, когда я не ходил в бюро, случалось, что я был готов к тому, чтобы выйти в ресторан, не раньше чем в два часа дня – более того, к этому времени я еще не успевал побриться! Но в обычные дни я должен был приводить себя в порядок как можно быстрее. Теперь каждый мой день будет воскресеньем. Я боялся, что слишком расслаблюсь. Здесь таилась опасность: эта лень, это утреннее безволие погружали меня в состояние тревоги. Теперь мне это грозило ежедневно. Я сказал себе, что нужно попросить Жанну приходить пораньше – в восемь часов, нет, все-таки в девять, – так я буду вынужден заниматься собой не слишком поздно. Закончил я свой туалет довольно быстро и даже ощутил некую радость. Я говорил себе: я выхожу – выхожу посмотреть на улицу, на людей, погрузиться в свою новую жизнь. Я представлял себе шум улицы в свете дня. Нужно будет погулять и по улочке пенсионеров. Выйти, смотреть на людей со смешанным чувством интереса и безразличия. У меня были основания чувствовать себя счастливым. Почему не насладиться всем тем, что вы можете видеть своими глазами, слышать своими ушами? Быть окруженным всем этим – и в то же время вне. Зритель на сцене среди актеров. Все что угодно может быть увлекательным, захватывающим, драматическим, необычным, таинственным; можно, например, наблюдать за собакой, которая бежит неизвестно куда и зачем. Люди тоже спешат неизвестно куда и неизвестно зачем. Наблюдать за людьми. Кем придумано это зрелище? Господом Богом? Признаюсь – я в это верю. Хоть и не знаю всех обстоятельств. Возможно, Бог предоставил людям свободу: делайте все совершенно самостоятельно. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не так: Он ограничивает нас во всем, что мы делаем. О да, достаточно поднять легкий занавес, скрывающий этот мир от обыденности и банальности, источник которых – только в нас самих; в нашей жизни нет ничего банального – если присмотреться внимательнее, наша жизнь – это одновременно и драма, и комедия. Я что-то не то говорю, какие-то глупости… Спектакль, который разыгрывают люди, всего лишь жалкий суррогат великого театра мироздания.
Завтракать уже слишком поздно. Но ничего. Пойду в кафе, выпью аперитив. Обед уже скоро, я могу побыть на улице, если не слишком холодно, или остаться в кафе, почитать газету. Я отдал ключ Жанне и попросил положить его под коврик у двери. Мне показалось, что она немного разочарована тем, что я так быстро ухожу. Ей хотелось поговорить. Я еще вчера заметил, что ей не терпится рассказать о своей жизни. Должно быть, она хотела, чтобы и я поведал ей историю своей жизни. Но я предпочитаю на эту тему не распространяться. Это мой секрет. А почему, собственно, секрет, спросил я себя. Вовсе это не секрет, и даже не полусекрет. Наконец мне надоело болтать. Я вышел. Легко, посвистывая, стал спускаться по лестнице. На втором этаже остановился. Нужно было приготовиться ко встрече с консьержкой: принять как можно более достойный вид. На первый этаж я спустился медленно, чинно. Консьержка отодвинула занавеску, приоткрыла дверь, окинула меня суровым взором. Решив, что отныне буду стараться ходить мимо нее как можно тише, я несмело поздоровался. Вообще, все это раздражало: она ведь, можно сказать, у меня на службе, и ничего плохого я не делал. Смотри-ка, соизволила ответить чем-то вроде легкой улыбки. А может, и нет. Во всяком случае, не нахмурила брови. А то я уже читал на ее лице чуть ли не презрение. И чего только ни думал! Я вышел, повернул налево, прошел по провинциальной улочке, встретил какого-то старика, снова повернул налево. Сделал несколько шагов по проспекту. Перешел на другую сторону. Миновал автобусную остановку, рядом с которой располагалась, фасадом к проспекту, мэрия, прошел еще несколько метров, повернул направо, проследовал мимо служебного входа в мэрию, повернулся к этой двери спиной и перешел на другую сторону улицы – там было маленькое кафе, возле которого продавали газеты. Я купил газету и устроился за маленьким столиком на закрытой террасе, рядом со стеклянной витриной. Заказал стаканчик кампари, выпил его, затем второй, третий, седьмой. Не без труда удержался от того, чтобы не заказать очередной. Наверное, из-за официанта, которого беспокоил слишком часто, на лице у него была насмешливая и слегка раздраженная гримаса. А может, мне показалось. В конце концов, семь кампари для меня достаточно. Легкое ощущение счастья, посетившее меня утром, которое на какое-то время померкло из-за болтовни Жанны и небольшого замешательства при встрече с консьержкой, – это ощущение усилилось, усыпило тревогу, в душе моей поселился покой. Захотелось засмеяться беспричинным глупым смехом. Немного глупым. А что за этим могло последовать? Я пробежал статьи, посвященные внутренней и внешней политике, и лишний раз убедился в том, что люди в этой стране не могут найти общий язык, что растет недовольство крестьян и рабочих, служащих и коммерсантов. Чувствовалось, что и у полиции хватает причин для недовольства и она даже может захватить министерства. Интеллектуалы были в ярости. Студенты тоже, потому что не хотели работать, или потому что для них не было работы и вообще не будет рабочих мест, когда они закончат свою долгую учебу, нудную и бесполезную, или же потому что прогресс человечества без них невозможен и, значит, платить им нужно гораздо больше. Так или иначе они не видели для себя достойного места в обществе, а само это общество, кстати, доброго слова не стоит. У меня по этому поводу возникали аналогичные мысли, хотя аргументы были иными: общество не может быть основано ни на какой морали, ни на какой религии, экзистенциональное существование человека в этом обществе социально и экстрасоциально неприемлемо. Я никогда не дочитывал идейные статьи до конца. Отложив газету в сторону, я несколько минут смотрел на проходящих мимо людей, но как бы сквозь них, потому что подумал вдруг: не может быть, что в нашей жизни все предопределено и что нами манипулируют. Кто эти мы, кем манипулируют? Существуем ли мы? Только при том условии, если мы верим в душу, брошенную в мир и этот мир терпящую. Возможно, мы всего лишь эфемерные сгустки энергии, переплетения различных сил, противоположных тенденций – узлы, которые развязывает только смерть. Нас сотворили, произвели, нами управляют, но вместе с тем мы и сами себя творим, собой управляем. Если бы я был наделен талантом философа! Я бы о многом узнал, многое бы постиг, многие вещи объяснил бы себе и другим, мог бы обменяться идеями. Неплохо также быть математиком. Один студент-математик, двоюродный брат Люсьенн, как-то сказал мне, что математики могут оправдать свое существование перед Богом. Другой заявил, что математика и физика базируются на постулатах и аксиомах, которые в основе своей имеют «ничто». И однако все то, что я вижу, конструируется. На любых постулатах можно что-то выстроить. Нет ничего реального. Нет ни фальшивого, ни настоящего, и тем не менее все идет своим чередом, все проверяется, все строится. Бог дает нам эту свободу – волеизъявления, удовольствия, интерпретации, выдвижения гипотез, и все эти гипотезы, находясь в противоречии друг с другом, чего-то стоят и с ними что-то можно делать. Еще один студент говорил другому студенту, не согласному с ним (я стал свидетелем этого разговора несколько лет назад, когда обедал в ресторанчике возле бюро), что если бы нацисты выиграли войну, то их расистские теории, биологические, экономические теории получили бы подтверждение и могли бы стать основой культуры столь же прочной, как и та, что исповедует биологическую и экономическую теорию марксизма. Самые разнообразные и противоречивые математические теории, всякая геометрия не мешают, а напротив, помогают архитектуре. А отправной точкой служит наша гипотеза, наше стремление, являющиеся нашим самовыражением либо самовыражением различных групп или расы. Все подтверждается. «Они» делают то, что хотят. Они, не я. Я не принадлежу к посвященным.
После седьмого аперитива я думал, что нет ни реального, ни ирреального, ни правды, ни, лжи. От этого мне захотелось смеяться. Я снова стал наблюдать за проходящими мимо людьми. Они такие разные! И в то же время так похожи друг на друга. Существует лишь практика. Практика и ничего больше. Что я этим хочу сказать? Коварная это штука – пытаться философствовать, не умея этого делать, да еще после семи аперитивов. Я снова взял в руки газету. Раньше я никогда не читал спортивную страницу. Однако эти борющиеся команды наглядно иллюстрируют тот факт, что вовсе не мяч – главное, а когда друг на друга набрасываются команды куда более крупные – нации, или когда воюют социальные классы, то причины экономического либо патриотического характера здесь не при чем, равно как и лозунги справедливости или свободы, – просто так проявляется конфликт с самим собой либо потребность воевать. Но я не военный историк. И потом, воюют они или нет, это меня не интересует. Во мне нет агрессивности, или почти нет, этим я и отличаюсь от других. Зато я охотно просматриваю криминальную хронику. Я не люблю преступников. Но не испытываю и особой жалости к их жертвам… Тогда почему я люблю об этом читать? Потому что это захватывает, вносит разнообразие в монотонность будней. Я ни разу не дочитал до конца политическую статью. Я хочу сказать, что комментарии меня не интересуют. Я сам комментирую события. Я знаю, что воевать одновременно и хотят, и не хотят; знаю, что люди являются инструментом в руках других людей; я думаю, что иногда они хотели бы любить друг друга и что большую часть времени они друг друга ненавидят, как бы вопреки своей воле. Они тоскуют, не отдавая себе в этом отчета. Я и сам часто тоскую. Меня мучают головокружения, и я боюсь тоски; не так давно у меня была депрессия, вызванная тоской, а может, это и была собственно тоска. Когда пишут о тоске, значит, она не присутствует: тоска парализует, заставляет совершать исключительно деструктивные действия, приводит к состоянию, близкому к смерти. Это было невыносимо. Никто не мог мне помочь. Мне не за что было ухватиться. Я произношу «невыносимо» – и понимаю, что это очень далеко от действительности. Это смертельно, да, смертельно. Как будто тонешь в воздухе. Удушье. И нет окна, которое можно открыть. Как еще, сказать… Проходили недели, месяцы, когда даже пошевелиться и то было невероятно трудно, так же трудно, как и не шевелиться. Нестерпимо, да, вот точное слово – нестерпимо. Мертвый, но еще не умерший, живущий, но уже не живой. Одинокий в необъятной пустыне. Или, наоборот, в камере, окруженной очень высокими стенами, с серым светом, при котором невозможно читать. Что мне было до того, что говорили люди? Их безразличные, дружеские или неприязненные слова либо просто не доходили до меня, либо я их отталкивал, убегал от них. Меня тошнило от одного их вида – их, проходящих по улице один за другим. Когда я видел, как они беседуют вдвоем, втроем, мне становилось страшно, а если я видел людей, идущих плотными рядами, в униформе или нет, или же спокойную, бурную либо вооруженную толпу, то терял сознание. Чувство локтя – убереги меня от него судьба!
И вместе с тем я не мог больше выносить одиночество. Целыми днями я ходил от двери к окну, от окна к двери и не мог остановиться. Это была не тревога – это была тоска, тоска материальная, тоска физическая, невозможно было находиться в неподвижности – ни сидеть, ни стоять. Сплошное страдание, гангрена души. Только бы это не началось снова! Мгновения были такими долгими, что казались бесконечными. Убежищем был лишь сон. Но, увы, днем я не мог заснуть ни на минуту. А ночью и во сне тосковал. Патрон злился. Мне даже выписали больничный лист, но врач ничего не мог сделать; меня отвели в клинику, дали сильнодействующие лекарства, только после этого я смог вернуться к работе; больше к врачу я не обращался. Тоска хуже тревоги, можно сказать – это ее противоположность, потому что когда ты встревожен, ты не тоскуешь; вот так я и метался от тоски к тревоге, от тревоги к тоске. Нет, я больше не тоскую, но чувствую, что тоска меня поджидает, угрожает мне, что она может опять охватить меня, начать душить. Я внушаю себе, что мир очень интересен, что он увлекателен. Надо только смотреть во все глаза. Некоторым людям достаточно смотреть на деревья, прогуливаться. Мне посоветовали гулять. Но прогулки нагоняли еще большую тоску, погружали в еще большую печаль. Только бы снова не упасть в эту пропасть тоски! Смотреть внимательно на все вокруг, на мир, очень внимательно. Отрешиться от банальности, снова обретать способность удивляться, замечать необычное. Просыпаться – и видеть, и чувствовать, что весь этот мир на самом деле существует. Я же чувствую, что мир, люди и само существование – все это призрачно. Там, за стеной, нет ничего фундаментального. Быть выброшенным в мир – это бедствие. Непрестанно возвращать себя к началу… Стоя спиной к стене, смотреть на мир оттуда или повернуться к стене лицом, приклеиться к ней. Может быть, она уступит? Как объяснить себе самому, стоящему спиной к стене, зачем ты смотришь на то, что происходит у тебя перед глазами? Нельзя же так до бесконечности… Но это единственный способ убежать от тоски, от черной тоски. Не будем больше об этом думать. Теперь я в порядке. До чего же хорошая штука – алкоголь! Я заплатил по счету, встал, не совсем уверенно держась на ногах. Было уже половина первого, только бы не опоздать в ресторанчик, чтобы не заняли мой столик, я не хочу сидеть за другим, я уже привык. Я вышел из кафе, перешел через дорогу, один из водителей обругал меня, я прошел по тротуару до автобусной остановки перед парадным входом в мэрию. Перешел проспект в положенном месте, девушка толкнула меня локтем и извинилась, затем я сам толкнул локтем мужчину и тоже извинился. Чуть не столкнулся с другим мужчиной, обошел его, подошел к ресторанчику, все еще держа в руке газету, открыл дверь и прежде всего бросил взгляд на свой столик – он был свободен, на нем даже стояла табличка «Занято». Я слишком много выпил. Что если не заказывать вино? Пришла Ивонна, с улыбкой приветствовала меня, спросила, принести ли мне бутылку божоле. То ли постеснявшись отказаться, то ли не в силах устоять перед искушением, я сказал «да». Она посоветовала мне заказать рагу из баранины с картофелем. Налила мне стаканчик, глядя на меня с дружеским сочувствием. Я отпил глоток. Легкое опьянение сменилось тяжелым. Но оно не было неприятным. Я не чувствовал вкуса рагу, не помню, заказывал ли сыр, или десерт, или и то, и другое, помню только, что Ивонна принесла мне кофе: «Выпейте. Очень крепкий. Он вас взбодрит».






