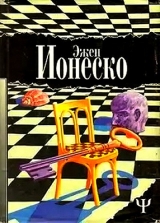
Текст книги "Наедине с одиночеством. (сборник)"
Автор книги: Эжен Ионеско
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
На базаре приобрел столовые приборы, тарелки и чашки, все из одного набора, расписанные розами. Купил сервиз для завтрака, на две персоны, – серебряные ложечки и окаймленные золотом чашечки. Все это вместе с китайским подносом я поставил в буфет. Буду пользоваться сервизом для завтрака только по воскресеньям, решил я.
Были куплены простыни, наволочки, новый выходной костюм – красивый, серый в клеточку. Старую одежду я оставил в гостинице, забрал лишь коричневую куртку и черные велюровые брюки. Из книг взял «Отверженные» Виктора Гюго и «Три мушкетера» Александра Дюма, к которым добавил «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон».
Полностью я еще не перебрался: нужно было подыскать домработницу, чтобы содержать новую квартиру в порядке. Последние дни, проведенные в гостинице, были отмечены и радостью, и меланхолической грустью. Память перебирала недавнее прошлое – Жанин, Жульетта и Люсьенн, короткая дорога в бюро, бистро. Любопытная штука жизнь: прозябание среди пыльных бумаг, кровать в гостинице, остающаяся незастеленной до моего возвращения домой из-за нехватки персонала, старая горбатая горничная. Мучительные просыпания по утрам, ошалелый бег в надежде не опоздать на службу, застать лист присутствия, радость, которую испытываешь, если успеваешь расписаться, бешенство, если на полминуты опаздываешь, – все приобрело некоторую ностальгическую окраску, некий оттенок счастья, открывшийся мне лишь теперь: я увидел красоту пыли, запруженной улицы, людей, как и я, спешащих на работу, сотни и сотни серых лиц, лиц-облаков, таящих в себе солнце, которое мы все носим в себе, сами того не зная. Прошлое всегда красиво, а сожаление приходит слишком поздно. Всем нам нужна какая-то перспектива, не имеет значения, министр ты или писарь, миллиардер или бродяга. Да, мы носим в себе солнечный мир, радость может взять верх в любое мгновение. Как красива некрасивость, как весела грусть, а скуку провоцирует лишь наше незнание! Ледяной холод не может устоять перед теплом сердца. Только бы знать, на какую кнопку следует нажать.
Эти эйфорические мысли посетили меня в бистро, возле стойки бара, после нескольких стаканчиков спиртного. Нужно было остановиться. Нельзя пить слишком много, ибо все тогда предстает в искаженном свете. Заволакивается серостью и тоской, и ты жалеешь о том, что бесцельно жил в этом мире нищеты. Благодать, которую дарует алкоголь, ненадежна. Благодать или трезвость? Когда же я на самом деле просыпаюсь? Когда вижу и чувствую вокруг лишь зловонную нищету или когда думаю, что всякое существование и всякая сущность – это цветущий, сверкающий месяц май? Ничего мы не знаем. У нас нет ни права, ни возможности судить, нужно доверять. Но кому?
Я отдавал себе отчет в том, что думал слишком много. Я, тот, кто принял решение не думать вообще.
Я слишком много философствую. Вот в чем моя ошибка. Если бы я этого не делал, то жил бы счастливо. Нельзя философствовать, если ты не великий философ. Но и великие философы, если они действительно великие, – пессимисты. Или же они приходят к умозаключениям, которые нам постичь не дано. Или предлагают нам раскрепоститься, дать волю своим желаниям. Но к чему мы тогда придем? Добрая половина людей привыкла подавлять свои желания. В противном случае, дав выход своей неудовлетворенности, они просто поубивали бы друг друга, а возможно, покончили бы с собой. Но они ничего этого не сделают – помешает полиция. Исключение составляют разве что революционные периоды, когда люди уничтожают друг друга, убеждая себя и других, что делают это во имя грядущего – во имя лучшей жизни, которая якобы наступит после этой бойни. Революция порождает тиранию, причем очень быстро, и тогда уже тотально подавляются все желания, даже самые неистовые. Огромное же количество людей и не собираются раскрепощаться: они не признаются себе в своих желаниях, или эти желания недостаточно сильны, или вовсе отсутствуют. Интересно, а у меня есть желания? Вероятно, все же есть. Но они спят. И я не стремлюсь их разбудить. Чего же я хочу? Чтобы меня оставили в покое. Чтобы желания других не будоражили меня, не увлекали за собой. Но более всего я хочу не иметь никаких желаний. Хорошо хоть влечение к противоположному полу угасло. Навсегда, надеюсь. Да и не таким уж сильным оно было. Что и спасло меня от женщин. Однако у меня осталось желание пить вино. Оно слегка возбуждает, получаешь легкое удовольствие от жизни. Иначе все бы угасло, и я бы уже умер.
Я часто говорю себе, что меня делают несчастным газеты. По всей планете – мятежи, убийства, землетрясения, пожары, анархия и террор – словом, массовая бойня. В результате я постоянно мрачен. Видимо, газет я читаю слишком много. Больше не буду их читать. Мы живем – или существуем – в последнем уголке планеты, еще не охваченном огнем. Воспользуемся же этим шансом. «Вам не совестно жить без цели?» – спросил меня однажды Пьер Рамбуль или Жак, не помню уже кто. Копаясь в себе, я обнаружил, что по этому поводу совесть меня не мучит. Что лучше – агитировать, чтобы люди уничтожали себя, или оставить их в покое, дать им возможность жить и умирать так, как они того хотят? Нет необходимости отвечать на этот вопрос.
У гостиничной горничной есть сестра, тоже горбатая, сказала она мне, но моложе и работы не боится, потому что, если не считать горба, она совершенно здорова. Горничная дала мне ее адрес; женщина жила неподалеку от Шатильонских ворот, где я поселился.
Я взял свой последний чемодан и окончательно распрощался с хозяином гостиницы. Вызвал такси. Посмотрел на улицу, на людей, выходящих из бюро – было уже время обеда. Многие из моих бывших коллег обедали в столовой, организованной патроном совместно с хозяевами других небольших предприятий. Я тоже несколько раз ходил обедать в эту столовую, там готовили очень вкусный салат из картофеля с сельдью. Моросил легкий дождь. Я сел в такси.
Мне потребовалось немало времени, чтобы проехать почти через весь Париж. Какая толчея! Какие пробки – и это в то время, когда большинство людей должно, по идее, работать. От Северного вокзала до проспекта Шатильон – большое расстояние. Одни улицы сменялись другими, все они были похожи друг на друга и люди тоже – десятки тысяч похожих друг на друга людей шли, бежали, как будто у каждого была какая-то определенная цель. Так целеустремленно бегут лишь собаки – словно знают, куда. На мосту Сен-Мишель дождя не было. На улице Эколь облака рассеялись и выглянуло солнце. Но всюду, всюду – одни и те же одинаковые люди. Как будто один или два человека размножены в бесконечном количестве. Когда я подъехал к своему дому, было десять минут второго. Я вошел в дом, неся чемодан, поздоровался с консьержкой и ее мужем. Это была чета пенсионеров: он крупный, толстый, красный, она маленькая, седая, взгляд, естественно, недоверчивый, вид сварливый. Я ее уже видел во время своих предыдущих посещений. Она выполняла свою роль самозабвенно, искренне веря, что родилась консьержкой и никем иным и быть не могла, даже женщиной.
– Пришла ваша домработница, мсье, – сообщила она мне, – я дала ей ключ, она у вас в квартире.
– Да, я ее просил прийти, – подтвердил я.
Подняться по лестнице с моим чемоданом нетрудно. Чемодан был легким.
– Мой муж вам поможет…
– Спасибо, не нужно.
– Вы действительно не хотите, чтоб я помог вам с чемоданом? – переспросил муж консьержки.
Как я уже говорил, квартира моя находилась на четвертом этаже, слева. Поднявшись, я позвонил. Открыла Жанна, домработница. После темноватого подъезда большая комната показалась мне необычайно светлой. Я посмотрел в окно. Облаков уже не было, над крышами домов сияло чистое голубое небо. Я стоял у окна, выходившего на улочку. Возле дома беседовали две пожилые женщины, чуть подальше – два пенсионера. Я подошел к другому окну, выходившему на проспект Шатильон. Толпа, шум, автобусы. Я вновь ощутил эту разницу – между покоем провинциальной улочки и суетой проспекта.
– Знаете, мне был нелегко, – сказала Жанна.
– Да, – ответил я, – паркет натер очень хорошо. Смотрите, не поскользнитесь. Я люблю, когда паркет сияет. Буфет чистый, блестит. Спасибо, Жанна.
Она помогла мне снять пальто и повесила его на вешалку, стоящую в коридоре.
– Нужно переставить вешалку, мсье. Негоже ей быть рядом с кухней. Пальто может пропахнуть жиром. Я купила у мясника мясо, эскалоп. Хотите, приготовлю?
– Нет, – сказал я, – нет. Завтра. Положите его в холодильник. Вы же придете завтра? Убрать кровать и все остальное. Я люблю чистые простыни, не терплю грязной посуды.
– Да, – ответила она, – конечно, вряд ли все это было чистым в гостинице, где вы жили.
– Поэтому я и хочу все переменить. Не надо распаковывать чемодан, – остановил я ее, – это можно сделать завтра.
Мне не терпелось посетить ресторанчик на углу улицы.
Я спустился вниз, рассматривая истертую ковровую дорожку. Трудно определить, какого цвета она когда-то была. В фойе я встретил консьержку. В ответ на мою улыбку она проскрежетала зубами – гримаса труднообъяснимая. Должно быть, я еще не заслужил ее симпатии, требовалось какое-то время, чтобы она ко мне привыкла. Я открыл стеклянную дверь, которая вела в коридор, прошел по нему и, выйдя на улицу, повернул налево, на спокойную улочку, затем снова свернул налево – и вскоре оказался на шумном проспекте. Люди на остановке ждали автобус, большинство возвращались на работу после обеденного перерыва. Подъехал автобус, и люди устремились к открывающимся дверцам: неподалеку от моего дома находились предприятия, разные бюро. Я поздравил себя с тем, что мне больше не нужно втискиваться в автобус, спешить на обед, торопливо глотать, спешить с обеда. Я толкнул дверь ресторанчика. Почти все столики были заняты, за ними сидели рабочие, мелкие служащие. Как раз кто-то встал и ушел, освободив столик на одного человека, максимум на двух, в углу, возе окна. Я прошел к нему и сел спиной к залу – не люблю смотреть, как люди едят. Пусть уж лучше передо мной будет окно. Официантка забрала тарелку и прибор ушедшего господина. Ушла, быстро вернулась, поменяла скатерть, залитую красным вином, поставила чистые тарелки, положила приборы. Я сделал заказ: филе из сельди с картофелем в масле, говядину по-бургундски и камамбер[3]3
Камамбер – сорт мягкого жирного сыра из цельного молока.
[Закрыть], а также полбутылки божоле.
– Нет, пожалуй, принесите мне полную, – передумал я. – Если останется, пусть будет на завтра, я собираюсь обедать здесь ежедневно.
Движение на улице было беспрерывным. Мимо проезжали желтые, черные, красные машины, изредка мелькали такси, проходили мрачные пешеходы; две девушки-служащие были одеты в очень короткие платья, яркие цвета которых сильно контрастировали с их невеселыми, озабоченными лицами – они наверняка возвращались на работу, возможно, мысли их занимали и другие проблемы. Погода скорее была неважная. Хотя дождя не было.
Думаю, тогда я впервые по-настоящему рассматривал улицу. Зрелище было интересным. И даже захватывающим. Столько разных лиц и столько, по сути, одинаковых мыслей на этих лицах. Парень с подружкой, размышляющие, где провести приближающиеся каникулы, нежеланный ребенок, который появится на свет, уже родившиеся дети, которых отдают в ясли, потому что папа и мама работают. Старики, все еще вынужденные работать. Старик на пенсии с женой, тоже пенсионеркой, деньги оба получают небольшие, думают о смерти, до которой осталось совсем немного – она уже протягивала им свою руку. Как это любопытно… И так проходят века. Школьники, учителя. На других улицах, в других кварталах – богатые люди. Но я ведь тоже богатый человек, сказал я себе с ощущением счастья. Богатый человек в этом квартале бедных. Я мог бы жить в другом районе, например в шестнадцатом округе, в доме с красивой лестницей и любезной консьержкой. Мною владели, с одной стороны, меланхолия, грусть, усталость, некоторое отвращение, а с другой – удивление. Да, я с удивлением смотрел на то, как люди едут или идут, спешат суетятся, копошатся. Так, значит, мы куда-то движемся, как это странно! Мне принесли филе сельди с политым маслом картофелем, и это вывело меня из состояния задумчивости. Принесли и божоле, я налил себе стаканчик. Когда я подносил его ко рту, облака разошлись и солнечные блики заиграли на белой скатерти моего столика, на тарелке с салатом и бутылке. Я выпил стаканчик одним глотком, и во мне самом будто солнце взошло. Она должна быть, такая радость, когда ты всего лишь наблюдаешь в стороне. Я еще молод, впереди у меня может быть еще много солнечных дней. Я обернулся и посмотрел на людей в зале. В изменявшемся освещении они тоже изменились. Я уткнулся носом в тарелку. Я пришел пообедать, как обычно, по привычке, аппетита никакого не было. Теперь же я был голоден, я стал голодным в одно мгновенье, из-за солнца. С аппетитом ел мясо, сыр, выпил всю бутылку, заказал совершенно ненужный кофе – кофе я не люблю. Именно поэтому я его и заказал, а еще шотландское пирожное со взбитыми сливками. Какое-то время я сидел за столиком, смотрел на людей, на улицу, как если бы никогда раньше не видел ни улицы, ни спешащих людей. Чувствовал я себя блаженно. Мне не хотелось уходить, но уже было нужно это сделать: я оставался в зале один. Я с сожалением встал, поблагодарил на выходе хозяина и оказался на улице. Мысль о том, что я могу продолжать рассматривать улицу и людей у себя дома, стоя у окна и даже лежа на диване, наполнила меня ликованием. Я повернул за угол, прошел по тихой улочке, мимо домиков с садиками и, снова испытав ощущение, что совершил большое путешествие, вошел в свой дом. Консьержка отодвинула занавеску, посмотрела на меня и снова ее задернула. Я поднялся по лестнице, на третьем этаже встретил даму, выходящую из квартиры с собачкой – та при виде меня залаяла. Дама успокоила собачку, затем обратилась ко мне:
– Извините, мсье, она лает только на незнакомых, потом быстро привыкает.
– Ничего, мадам, ничего.
Я поднялся еще на один этаж и позвонил в свою квартиру. Жанна не открыла. Значит, она уже ушла. Тогда я открыл дверь своим ключом. Вошел. Даже в прихожей было светло, так была залита солнечным светом жилая комната. Домработница хорошо потрудилась: все просто сверкало – паркет, стол, буфет. И тут я вспомнил, что не купил вечернюю газету. Снова вышел из квартиры и спустился вниз. Консьержка посмотрела на меня из-за своей занавески. Я дошел до угла улицы, повернул налево, затем снова налево: продавец газет и сигарет располагался на другой стороне проспекта. Я подождал, пока автобусы и два мотоцикла остановятся на красный свет, перешел улицу, купил газету, снова подождал, пока остановится транспорт. Затем перешел улицу, свернул направо и через несколько метров снова направо. Вошел в дом. Консьержка опять выглянула из-за своей занавески и задернула ее, заметив, что я на нее смотрю. Я поднялся на второй этаж, и мне захотелось выпить у себя на диване чего-нибудь горячительного. Я забыл попросить Жанну купить что-нибудь в это духе. Снова спускаться? Несколько мгновений я колебался. Затем все-таки решил выйти. Спустился в фойе, посмотрел в сторону консьержки, надеясь, что она меня не заметит. Однако занавеска задрожала.
Я прошел по коридору, повернул налево, через несколько метров снова налево, прошел мимо ресторанчика, в котором обедал, – на углу был магазин, где продавали спиртное. К моей радости, он не закрылся. Я купил бутылку коньяку, повернул назад, прошел мимо ресторанчика, повернул направо, дойдя до угла, обогнул его и вошел в дом с самым достойным видом, какой только мог на себя напустить, спрятав, естественно, бутылку. Консьержка только глазами сверкнула из-за своей занавески. Я поднялся на второй этаж, постоял немного на лестничной площадке, чтобы отдышаться, затем поднялся на третий этаж, снова постоял на площадке, восстанавливая дыхание. Потом, держась за перила, поднялся на четвертый этаж. Подошел к двери своей квартиры (она слева), поискал ключ в правом кармане. Его там не было. У меня заколотилось сердце. Я пошарил в левом кармане. Ключ был там. Я вспомнил, что положил его туда. Поставил на коврик бутылку, отпер дверь, вошел, закрыл дверь на ключ. На площадке я никого не встретил, все, наверное, были на работе. Я вошел в жилую комнату. Поставил бутылку коньяку рядом с диваном, положил газету, вернулся в прихожую, снял пальто и шляпу. Прошел в большую комнату, взял в буфете стаканчик, закрыл дверцу, пошел к дивану, обогнув стол. И вытянулся на голубом диване у окна. Приподнялся, чтобы; снять туфли, снова вытянулся на диване. Привстал, чтобы налить коньяку в стаканчик, который вынул из буфета, закрыл бутылку, выпил стаканчик в два глотка, взял газету и снова вытянулся на диване. Посмотрел на свои зеленые носки. На первой странице газеты сообщалось об авиакатастрофе. Где-то над Тихим океаном исчез самолет со ста двадцатью пятью пассажирами на борту и семью членами экипажа. Я стал рассматривать фотографии стюардесс. По фотографиям трудно было определить, были ли они красивы. Рост одной – метр шестьдесят семь, второй – метр семьдесят два. Обе блондинки. Это была одна из крупнейших катастроф в истории авиации. Давно таких не случалось. Я представил себе стюардессу, чей рост был метр шестьдесят семь. Метр семьдесят два – это, пожалуй, многовато для женщины. Возможно, она была похожа на Люсьенн. У нее, наверное, были красивые ноги, и синяя униформа ей очень шла. А какие глаза – голубые или карие? Скорее голубые, она ведь англичанка, а не американка. Я летал на самолете всего лишь два раза. Один раз в Марсель, но оттуда возвращался поездом, потому что в самолете чувствовал себя не совсем уверенно. Во второй раз в Ниццу, навестить умирающую тетю. В этот раз я был более спокоен. Зрелище было красивым: мы летели в голубом небе, над облаками. Но возвращался я опять не самолетом, а на автомобиле, со знакомыми. Пожалуй, мне нужно отправиться в более длительное путешествие, и я могу себе это позволить, ведь теперь я богат. Слетаю в Японию, Южную Америку. Отдохну там несколько месяцев, говорил я себе, возможно, год, а после, быть может, начну новую жизнь, полную приключений и удовольствий, но не сейчас. Я еще не готов к долгим хождениям, телефонным звонкам, заполнению различных бумаг для получения паспорта. Нужно купить дорожную одежду. Красивую одежду. Но позже. Лежа на диване, я видел, голубое небо, вот отчего у меня возникло желание сесть в самолет. Однако и на диване мне было совсем неплохо. Я снова начал читать газету: в очередной раз – похищение ребенка, и то тут, то там потихоньку идет война. Я эгоист, признался я себе. Я был счастлив, что никакая война меня не коснулась. Как хорошо, что у меня нет детей – не за кого бояться, не над кем дрожать; но именно сейчас, сейчас я был счастлив прежде всего потому, что не должен ходить на службу. Никто не может обязать меня это делать. Я выпил второй стаканчик коньяку, взглянул на небо, встал, чтобы посмотреть на людей, идущих по проспекту, затем, направившись к другому окну, снова посмотрел на тихую улочку с ее домиками. Выпил третий стаканчик коньяку, закрыл бутылку, поставил ее в буфет. Походил немного, обогнув несколько раз стол. Свет, коньяк, свобода – все это вызывало ощущение необыкновенной легкости. А что если выйти? Подъехать к бюро, подождать у входа бывших коллег? Хорошо бы! Времени еще достаточно. Я снова вытянулся на диване. Лежал так несколько мгновений. То открывал глаза, то закрывал их, это был сон без сна. И наконец заснул по-настоящему.
Затем я встал. Вышел из комнаты, прошел по длинному коридору, осмотрел спальню. Обои в ней были с цветами: розы на белом фоне. Я очень люблю цветы. И рабочий, который клеил обои, их тоже, наверное, любит. Мне нравилось, что цветы у меня были и на кровати, и на креслах, и на стенах. Весело просыпаться утром и видеть вокруг себя цветы. Это напоминало мне сад из моего детства, в котором друг моих родителей, цветовод-любитель, выращивал множество разнообразных цветов… Я снова прошел по темному коридору, он был очень длинным. Справа от спальни находилась ванная. Я вошел в нее, побыл там какое-то время. Это моя ванная, сказал я себе, не нужно больше стоять в очереди каждое утро, как в гостинице, там в эту очередь выстраивался весь этаж. Мне нравился этот темный коридор, от него веяло тайной, по нему можно было прогуливаться. Дойти до конца, вернуться, вновь проследить этот путь – создавалось впечатление подземелья или потайных галерей, по которым прекрасные куртизанки пробираются в покои богатого сеньора. Снова пройдя в жилую комнату, я посмотрел в окно на проспект, затем на улочку. Я был в нерешительности. Если поторопиться, я еще успею подойти к бюро к концу рабочего дня и встретить у выхода кого-нибудь из бывших товарищей. Подумав, я сказал себе, что еще многое нужно осмотреть в новом квартале, в окрестностях дома. Я ведь прошелся только по проспекту и по тихой улочке. Еще светло, самое начало осени. Нет, к бюро я не поеду, решил я.
Я вернулся в большую комнату. Голубое небо не было уже таким, как прежде, солнце уже не сообщало ему прежнего блеска. Мне начало казаться, что небо – это крыша. А земля – шар внутри другого шара, тоже находящегося внутри шара, который, в свою очередь, заключен в шар, который… От попытки представить себе эту картину мне даже плохо стало. Закружилась голова. Быть неспособным постичь Вселенную – с этим невозможно смириться. Мы знаем только, что форма вещей – всего лишь образ, который возникает в нашем сознании… С двенадцати лет этот вопрос периодически не давал мне покоя, вызывая ощущение жуткой беспомощности, почти немощи, меня даже начинало мутить. А все эти люди как ни в чем не бывало идут по улице, бегут к автобусу… Как они могут? Если бы они начали размышлять над тем, что мучит меня, если бы попытались представлять себе это непредставимое, то застыли бы на месте. Я уже говорил: не будем думать, потому что мы не умеем думать. Люди пренебрегают непостижимым или забывают о нем; однако ведь они думают, они основывают свои умозаключения на этом непостижимом, вот что для меня – непостижимо. И тем не менее они придумали арифметику, геометрию, алгебру… хотя алгебра тоже ведет нас к бездне… но они изобрели машины, организовали общества, они плюют на этот абсолютный вопрос, вопрос без ответа.
Быть может, это просто глупая гордыня – стремиться думать о том, что не создано для того, чтобы о нем думали. Но гордыни во мне нет, да и что такое гордыня? Дело в том, что я не могу тронуться с места. Как будто уперся в глухую стену и не решаюсь отойти от нее. Быть может, это болезнь. Я совершенно один у подножия этой стены. Совершенно один, как глупец. Они-то уже проделали свой путь, они даже организовывают общества – в большей или меньшей степени успешно, это правда, есть даже экстравагантные находки. А я лишь смотрю на стену, отгораживающую от меня мир, и поворачиваюсь к этому миру спиной. Да, я уже заключил с собой договор – не думать, потому что думать нельзя. Это любопытно: они верят, что мир, Вселенная, сотворение есть нечто совершенно естественное, некая данность. И это они – ученые, а я – лентяй, невежда. Мы в тюрьме, конечно же, мы в тюрьме. Но может быть, им удастся дать ответ? Может быть, за жизнь десятков или сотен поколений они смогут постичь непостижимое, вообразить невообразимое? Если они не перестанут работать, садиться в автобусы, создавать книги, считать, отправляться покорять звезды, если микроскопы откроют им, что существует нечто бесконечно малое, может, к чему-то они и придут – сознательно или интуитивно. Но у меня складывается впечатление, что они опираются на ничто, а это тоже всего лишь слово, всего лишь звук. Мы даем имена, которые ни о чем не говорят, вещам, о которых ничего нельзя сказать, имя которым – ничто. Бесконечно малое… Неотступно преследуемый бесконечно большим, я позволяю преследовать себя и бесконечно малому…
Глупые вопросы мешали мне двигаться вперед, обрести вкус к жизни. Хотя есть вещи, которые все же доставляют мне удовольствие. Но эта тревога, это чувство, которое я называю тошнотой микроскопического и тошнотой бесконечного, – были невыносимы. Все проходят через это – в тринадцать, пятнадцать, восемнадцать лет. А потом одни об этом забывают, другим это становится безразличным. Хватает и таких, которые никогда не задавали себе эти вопросы. Политики, например. Я не хочу сказать, что я лучше их. Или что они лучше меня. Я ничего не хочу сказать. Абсолютных ценностей не существует. В этом шаре, заключенном в шар, заключенном в свою очередь в другой шар и так далее… Я подошел к буфету, взял бутылку коньяку и выпил один за другим пять стаканчиков. Бог мой, как мне стало хорошо! Все вопросы куда-то улетучились, я почувствовал, как внутри разливается теплота, почувствовал, что я счастлив – оттого что свободен от всех этих вопросов. Я уже не был пленником одного только шара, меня окутывал теплый плен алкогольного покрывала. Тошнота исчезла. Я больше не думаю о непостижимом. Или просто задвинул эти мысли подальше. Может быть, это проклятие – смотреть в стену. На какое-то мгновение это проклятие отступило. Как бы я хотел остаться в этом состоянии, быть таким, как другие! Мне захотелось растянуться на диване, но я понимал, что усну тогда до утра. Нет, нужно выйти. В ресторанчик.
Выйдя, обошел дом с другой стороны, что дало мне возможность увидеть другие улицы квартала. Сначала была та тихая провинциальная улочка с ее домиками, два-три из них напоминали швейцарские, затем я повернул направо. Эта улица выглядела угрюмой – из-за грязных домов, соседствовавших с домами ухоженными. Там я встретил группу мотоциклистов в шлемах, эти парни были готовы в одно мгновение рвануть с места, точь-в-точь как в том американском фильме, который я смотрел недавно, фильме, будившем в молодых людях желание наводить ужас. Я поспешил отойти от них, спасаясь от самого их вида, от агрессивного шума, который вот-вот взорвет тишину окрестностей. Трое или четверо рабочих в спецовках возвращались домой, по их походке было видно, что некоторое время они провели в бистро. Я почувствовал себя буржуа. И одновременно несчастным, оттого что чувствую себя буржуа, как если бы я совершил преступление. Какое преступление? Напрасно я убеждал себя в том, в чем и так был уверен: никакого преступления нет, но разум не мог одержать верх над иррациональностью. Вот что такое газеты оппозиции! Какую силу имеют клише; вы их отвергаете, а они в конце концов коварно проникают в вас и отравляют. Нет никакого преступления. Никто ни в чем не виноват. Или все виновны во всем: в принципе это то же самое. Однако как уязвимы те, кто чувствуют себя виновными и в то же время понимают, что совершенно не виновны! Какой разрыв между разумом и безрассудством! Тем, кто чувствует себя виновным и одновременно считает себя таковым, остается лишь, так сказать, сложить с себя полномочия. Ничто больше не удерживает их от самоубийства. В то время как я, запутавшийся…
Я повернул направо, за угол, и оказался на более широкой улице, почти такой же широкой, как и проспект, – улица эта была параллельной провинциальной улочке, на которой обитали пенсионеры. Она была не веселее предыдущей. Очень мало жилых домов, зато много огромных мастерских и складов. Позади завода, с левой стороны, тоже размещались какие-то строения. Из них выходили рабочие. И ни одного бистро. Автобусный гараж. Девушка в розовом, являвшая собой резкий контраст с этим фоном. Несколько деревьев с покрытой пылью листвой. Перед началом рабочего дня и сразу после его окончания тут, должно быть, можно увидеть невообразимое количество тяжелых грузовиков и тьму рабочих на велосипедах. Начинало темнеть. Я прошел еще сотню метров, дошел до угла, повернул направо. Передо мной расстилался проспект, который я видел из своего окна и который уже хорошо знал, словно ходил по нему месяцы или даже годы. Конечно, я бывал здесь, когда покупал эту квартиру, но как следует рассмотрел, изучил его лишь сегодня. Я направился к ресторанчику. Прохожих было много. На другой стороне проспекта ожидали автобуса люди все того же типа. Я открыл дверь ресторанчика и с беспокойством посмотрел в сторону столика, за которым обедал: не занят ли он? Он был свободен, отлично. Это будет мой столик. В ресторанчике находилось достаточно много людей, уже зажгли лампы. Я прошел к столику, повесил на стоявшую в углу вешалку шляпу и сел. Зажегся свет и снаружи.
Ко мне подошла официантка, та самая, что обслуживала меня днем.
– Вы обедали у нас? – Она узнала меня.
– Да. Я буду приходить к вам каждый день, обедать и ужинать. Нельзя ли оставить за мной этот столик?
Она ответила, что в таких маленьких ресторанчиках этого обычно не делают. Такое принято лишь в больших ресторанах. Но она попробует. Только я должен приходить пораньше. Я сказа ей, что я человек привычки и что могу приходить обедать в полпервого, а ужинать в семь.
– Видно сразу, что у вас свои правила, – ответила она и дала мне меню.
В обед я заказывал сельдь с картофелем, теперь мне захотелось попробовать что-нибудь другое, и я попросил сардины, бифштекс с пирожками, а на десерт – ромовую бабу. И конечно же, бутылку божоле.
– А вы гурман! – заметила официантка.
– Да, я люблю поесть, а кухня у вас хорошая. И ваше божоле мне тоже нравится.
– Хозяин хорошо знает винодела, тот посылает нам вино прямо с места, и продукты у нас все свежие. Видите – клиентов хватает. Вид у них довольный, едят с аппетитом. У нас лучший ресторан в квартале. Есть также пивная, ее никто не посещает. И еще один ресторан, они с шиком называют его корчмой.
Ее сестра – жена хозяина, сообщила мне официантка, а двоюродный брат работает здесь же барменом. Продукты закупает хозяин.
– Так лучше – работать семьей, легче договориться. Ну, я пойду, меня ждут. Заказ я скоро принесу.
Я повернул голову к окну. Забавное это занятие – наблюдать за прохожими. Вообще-то, я люблю день. Сумерки вселяют в меня тревогу. Но когда смотришь на проходящих мимо людей, таких разных, то начинаешь чувствовать себя комфортнее, приободряешься. Когда я был совсем маленьким, то боялся темноты. Мать выводила меня на улицу и гуляла со мной, держа за руку. Улица была многолюдная, похожая на эту, только поуже. Мать знала многих в квартале. Останавливалась, заговаривала с соседкой. Обменивалась парой слов с торговцами. Я помню эту кишащую людьми улицу, я успокаивался на ней, несмотря на полумрак – освещение было неважное. Большинства этих людей уже нет. Я вспоминаю улицу призраков. И вот теперь прохожие у меня перед глазами вдруг тоже, начинают казаться призраками. Всего лишь призраки. Сердце сжимается, и меня охватывает тревога. Мне становится страшно. Из-за ничего. Из-за всего. Но, к счастью, официантка приносит сардины и вино. И даже сама наливает мне божоле. Ушла. Я выпил стаканчик и налил второй. Так уже лучше. Я начинаю чувствовать что-то вроде веселья. У меня часто бывают такие движения души, такие порывы – навстречу радости, даже счастью, но недостаточно сильные, они быстро затухают. Я знаю способ, с помощью которого можно избавиться от грусти или страха, правда, этот способ не всегда приводит к успеху. Он состоит в том, чтобы смотреть на людей и предметы вокруг как можно более внимательно. Так внимательно, будто видишь весь этот мир впервые. И тогда то, что тебя окружает, кажется загадочным и необычным.






