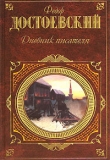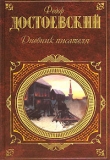Текст книги "Одно лето в Сахаре"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Книгу хорошо приняли. Я сказал бы, что успех был неожиданным, но опасаюсь преувеличить интерес, проявленный читателями, и допустить бестактность, преуменьшив чувство благодарности, испытанное автором. Я встретил доброжелательность, которой никогда не забуду. Я никак не ожидал столь одобрительных отзывов, даже не решался надеяться на них, я был поражен, глубоко тронут, неизмеримо счастлив и еще более утвердился в своем отношении к жизни. Я отнюдь не принимал свидетельства расположения за королевскую грамоту братства, выданную первоклассными писателями дебютанту, который никогда не войдет в литературное сословие. Я видел в оказанных мне знаках внимания предупредительную, доброжелательную, изысканно учтивую снисходительность, допускающую на короткое время в избранный круг случайного пришельца, вряд ли способного задержаться там надолго.
Один из тех людей, чье неожиданное покровительство мне особенно дорого, умер в расцвете сил, заняв в «живописной» литературе почетное место. Романист, поэт, критик, путешественник – человек, страстно увлеченный утверждением новой, редкостно богатой формы искусства, – обладал твердой рукой, изысканным стилем и удивительно точным взглядом. Достаточно одаренный, чтобы попытаться соединить два искусства, взаимопроникновение которых стало частым явлением благодаря его усилиям, он был, может быть, чуть излишне уверен в том, что достиг цели; будучи в глубине души очень осмотрительным человеком, он всегда прекрасно осознавал поставленные задачи, а осознав, с блеском справлялся с их решением. Одним из последователей он был назван безупречным – в том смысле, что если он и не может служить всем и во всем примером, то все же отдельные страницы его произведений отмечены блестящим мастерством.
Другой с удивительной легкостью вынес на своих плечах бремя сорокалетнего непрестанного труда и заслуженной славы – к чести французской изящной словесности. В день выхода в свет моей первой книги именно он протянул мне руку помощи. Я не знаю, какое будущее можно предсказать неизвестному автору, оказавшемуся под покровительством известного имени, но хорошо знаю, что, впервые опершись на эту почти величественную руку, почувствовал, сколько в ней доброты к молодым и сколько вселяющей уверенность мягкости к слабым [15]15
Должно быть. Э. Фромантен имеет в виду Теофиля Готье (1811–1872) и Шарля Огюстена Сент-Бёва (1804–1869).
[Закрыть].
Мне кажется, я сказал все, что хотел. Может быть, этого слишком много, а может быть, недостаточно. В романе, опубликованном несколькими годами позже, личная сторона предшествующих произведений была воспроизведена в иной форме, и на этом я успокоился.
О путешествиях, совершенных впоследствии, я решил ничего не писать. Мне пришлось бы говорить о новых местах почти так же, как я писал о давно известных. К чему? Что толку в новых картинах, если восприятие остается прежним?
Сейчас мне открылось совсем иное поле для наблюдений. Отныне я посвящаю себя занятию, к которому меня влекут скорее привычки, чем вкусы. Оно ново для меня. Полагаю, мне будет что сказать относительно волнующих меня вопросов. Я накопил немало впечатлений и знаний и могу высказать некоторые предположения. Тема – это совершенно ясно – будет весьма деликатной для профессионала, ставшего критиком, от которого будут требовать, и не без причины, меньше слов, а больше доказательств. Дозволено ли мне касаться темы, таящей в себе столько искушений и терний? До сих пор я полагал, что она для меня запретна.
У всякой книги, хоть сколько-нибудь достойной прочтения, найдется своя публика, ощущающая внутреннее родство с произведением. Так иногда рождается дружба, крепнущая с возрастом книги, с воспоминаниями об ушедшем времени, когда читатель был столь же молод, как и любимая книга. Кругу старых известных и безвестных друзей я и адресую третье издание настоящей книги.
Париж, 1 июня 1874 года
Э. Ф.

I
Из Медеа в Лагуат

Медеа, 22 мая 1853 года

Любезный друг, я полагал писать к тебе лишь после первого перехода, но вынужденное бездействие, в котором я пребываю, заставляет меня безотлагательно сесть за путевой дневник. Начинаю повествование для того только, чтобы скоротать время и поддержать «этот внутренний огонек» (о котором говорит Жан-Поль), позволяющий не замечать, что делается вокруг. Со дня нашего расставания я нахожусь в центре настоящей бури. Она, без сомнения, захватила и тебя на обратном пути во Францию, ведь ветер, весь пропитанный морской влагой, напоминающий мистраль, пришел к нам с Севера.
Хотя наступил май, зима – ты помнишь – еще не ушла с белых вершин Музайя; хочется верить, что она в последний раз посетила уже зацветшие поля.
Сорок лье отделяют нас от Уарсениса; представь, что все это пространство и великолепные пирамиды гор окутывает густой туман. Что касается соседнего Заккара, то очень редко – в те моменты, когда дождь ослабевает, – сквозь его редеющую завесу проглянет двойной рог этой горы отвратительного оттенка разведенной туши, с размытыми очертаниями.
Внезапно вернувшиеся дожди застали нас за последними приготовлениями. Мы уже со всеми попрощались, вьючные мулы были нагружены – и тут пришлось отпустить сопровождающих нас верховых; я оказался заточен в гостинице, и вид аистов, мрачно торчащих на краю своих гнезд, служит мне единственным развлечением в нетерпеливом ожидании просвета в небе, напоминающем небо Голландии.
Вынужденный поддерживать свой готовый угаснуть пыл разнообразными мыслями, обращенными в прошлое или опережающими события, я охотно предался воспоминаниям, которыми, за неимением лучшего, тебе и придется пока довольствоваться. Впрочем, эти воспоминания могут послужить предисловием к заметкам, в которых я надеюсь позже наверстать упущенное и рассказать тебе о празднествах Солнца.
Ты знаешь, наверное, небольшой офорт Рембрандта, выполненный в пылкой, стремительной манере, дышащий необычайной силой, как все, созданное воображением самобытного гения, с несравненным колоритом; то ли это последний отсвет закатного солнца, то ли вспышка молнии. Композиция очень проста: три взъерошенных дерева с мрачными стволами и листвой; слева, насколько хватает глаз, равнина; открытое небо, на которое наплывает тяжелая грозовая туча; и на равнине два едва различимых путника, гонимых ветром [16]16
«Три дерева». 1643. Офорт.
[Закрыть].
В этом офорте все трудности жизни путешественника и что-то еще таинственное и трогательное, что меня всегда очень занимало. Иногда, всматриваясь в него, я даже видел только мне одному понятный смысл: именно дождю я обязан тем, что узнал пять лет назад страну вечного Лета. Отчаянно стремясь укрыться от дождя, я наконец нашел ничем не омраченное солнце.
Это случилось в 1848 году, в феврале. В тот год не было перерыва между ноябрьскими и затяжными зимними дождями, которые лили три с половиной месяца почти без передышки. Я переезжал из Блиды в Алжир, из Алжира в Константину и не мог найти такого уголка на побережье, куда бы не проникла гибельная зима. Я искал место, где она была бы не властна. Именно тогда я подумал о Пустыне. Размытая дождем дорога шла по Кудиа-Ату, и время от времени я видел на ней вереницы людей с загорелыми лицами и верблюдов, груженных финиками и другими дарами природы. От этих людей шло тепло, принесенное в складках грязных бурнусов. Утром мы двинулись по направлению к Бискре, переходя вброд речушки, вышедшие из берегов. Через пять дней, 28 февраля, я оказался в селении Эль-Кантара, на границе равнины Телль, изнуренный, продрогший до мозга костей, но с твердой решимостью больше не останавливаться, пока не увижу настоящего южного солнца.
Эль-Кантара охраняет вход в ущелье, единственные ворота, через которые можно проникнуть из Телля в Сахару. Это узкий проход, словно созданный руками человека, в огромной скале в три или четыре сотни футов высотой. Над щелью переброшен мост, сооруженный еще римлянами. Перейдя мост и сделав сотню шагов по теснине, вы спускаетесь по крутому склону в очаровательную окруженную лесом из двадцати пята тысяч пальм деревушку, по которой протекает глубокая речка. Вы – в Сахаре.
Перед вами два ряда золотистых холмов, которые через двенадцать лье сменяются плоской малой пустыней Ангад, посланницей Великой Пустыни. Эль-Кантара – первая деревушка на пути в Сахару. От ветров пустыни она частично защищена лесом, от северных ветров – скалами, у которых приютилась. У арабов существует поверье, что гора задерживает все тучи, идущие из Телля. Дождь умирает на ее вершине, а зима не переходит чудесный мост, который разделяет два времени года – зиму и лето, два края – Телль и Сахару. Доказательством этого является цвет горы, с одной стороны черный, олицетворяющий дождь, с другой – розовый, там, где царит хорошая погода.
Это был наш предпоследний переход, последний должен был привести нас в Бискру. Холодное утро; при пробуждении в наших легких ксурских* [17]17
Здесь и далее слова, отмеченные звездочкой, см. в Глоссарии.
[Закрыть]палатках термометр показывал –1°. Спустя пять лет помню тот день в мельчайших подробностях. Еще немного, и он стал бы поистине роковым: мой друг А. С. едва не прострелил себе голову, передавая мне ружье, которое обычно носил я; после случившегося я его разрядил, дав себе слово больше не пользоваться им. Некоторая холодность возникла между нами; с момента происшествия мы ехали молча. В тот пасмурный день местность, окружавшая нас, была необычайно тоскливой. Мы пробирались по каменистой, лишенной травы дороге, зажатой между мрачными скалами. Иногда при нашем приближении с выступа скалы медленно взмывал орел и кружил над нашими головами. Небо, затянутое серыми облаками, отдыхало от дождя, но ветер на севере не стихал, он проникал в ущелье, казалось преследуя нас. Его едва слышное, но настойчивое дыхание доставило нам много волнений.
Меня заинтересовали необычные звуки, раздававшиеся за моей спиной. Они напоминали жалобный звон колоколов, звучащих не совсем в унисон. Звон был так слаб, что казалось, он доносится издалека, и так печален, что весь день я не мог найти себе места. Только на следующий день, когда он возобновился, я открыл его причину: это ветер гудел в пустых стволах моего ружья. Наконец мы достигли ущелья: было без нескольких минут шесть.
Впереди ехал на своей хромой лошади доктор Т. Протяжно напевая псевдоарабскую песню, новую для Хедуджа, он первым достиг места, снял шляпу и закричал нам: «Господа, поклонимся этой земле!»
Правда ли, что первая колонна военного французского корпуса, которая в 1844 году перешла знаменитый мост, замерла в немом восторге, а музыканты в восхищении заиграли? Я знаю об этом лишь с чужих слов, но в тот вечер зрелище, открывшееся нашему взору, заставило поверить в это.
Пальмы, которые я видел впервые; небольшая деревушка золотистого цвета, утопающая в зелени и белых весенних цветах; девушка в ярком красном одеянии и экзотических ожерельях пустыни с амфорой на обнаженном бедре, идущая нам навстречу в сопровождении старца, это была первая девушка, которую мы здесь встретили, со светлой кожей, красивая и сильная в своей ранней зрелости, еще ребенок, но уже женщина, старик усталый, но не обезображенный преждевременной старостью – вся пустыня представала предо мной при этом первом знакомстве во всех проявлениях своей красоты.
Это было поразительное зрелище. Но самым удивительным было небо: заходящее солнце окрашивало в золото и пурпур, расцвечивало тысячами огней небольшие облака, отделившиеся от огромного черного занавеса над нашими головами, будто пенная кайма на берегу беспокойного моря. Дальше простиралась синева, а за ней из бездонных глубин, сквозь неизведанную и прозрачную чистоту проступала голубизна небес. Над цветущей деревушкой поднимались теплые пары с неясными запахами, и слышались волшебные звуки музыки; слегка покачивались финиковые пальмы, пронизанные лучами заходящего солнца, журчание бегущих под тихими сводами леса ручьев сливалось с легким шепотом листвы, пением птиц, звуками флейты. В это время невидимый муэдзин затянул вечернюю молитву, четырежды повторив ее на все стороны света; он пел с такой страстью, с таким чувством, что все, казалось, замерло в благоговейном трепете.
На следующий день та же красота, тот же повсеместный праздник. И тогда я позволил себе заглянуть в северную часть деревни, и случай сделал меня свидетелем необычного явления. Небо над этим уголком деревни было мрачно и напоминало огромный бушующий океан, последняя волна которого обрушилась на горный гребень. Но гора, как мощный риф, опрокинула ее в открытое море, и по всему восточному склону Сахарского Атласа промчался водяной вихрь, вызывая водовороты. Небо было иссечено серыми струями низвергающегося потока, а в самой глубине виднелась вершина горы, покрытая легкой изморосью. В долине Метлили дождь лил как из ведра, в пятнадцати лье от нее шел снег. Над нашими же головами улыбалась вечная весна.
Мы достигли пустыни в чудесный день, и во время всего моего длительного пребывания в Сахаре я не видел больше ни капли дождя.
Таким лучезарным оказалось, любезный друг, начало путешествия в Зибан. Неожиданный переход из одного времени года в другое, своеобразие местности, новизна впечатлений – перед нами словно поднялся грандиозный занавес; внезапное явление Сахары, куда мы проникли через золотые ворота – Эль-Кантару, оставило навсегда волшебные воспоминания.
Сегодня я уже больше не жду, да и не желаю никаких неожиданностей; мое вступление в пустыню произойдет гораздо проще, без удивления – все здесь уже знакомо; без сюрпризов – на моем однообразном пути больше не лежит Эль-Кантара.
Чтобы знать заранее, к чему готовиться, я тщательно изучил карту Юга от Медеа до Лагуата, но не как географ, а как художник.
Вот о чем она поведала мне: до Богара – горы; от Богара – разные равнины, которые все зовутся Сахарой: солончаковые, песчаные, каменистые, холмистые, поросшие альфой; за двенадцать лье от Лагуата – пальма; наконец, Лагуат, обозначенный более крупной точкой на пересечении бесчисленных ломаных линий, расходящихся во всех направлениях к городам с неизвестными названиями, иногда полусказочными; затем вдруг бескрайняя равнина на юго-востоке, где нет ничего, ее название – Блед-эль-Аташ (Страна жажды) – заставляет задуматься.
Многие отступили бы перед однообразием подобного маршрута. Признаюсь тебе, что именно это однообразие и привлекает меня.
У меня вполне определенная цель.
Если я ее достигну, она сама скажет за себя; если нет, стоит ли говорить тебе о ней?
Знай лишь, что я страстно люблю голубой цвет и сгораю от желания вновь увидеть безоблачное небо над лишенной тени пустыней.
Эль-Гуа, 24 мая, вечер
Расстояние от Медеа до Богара по дороге, избранной нами, составляет четырнадцать лье – на два лье короче, чем по кружному пути. Наша дорога почти прямая, насколько это возможно в труднопроходимой местности. Кажется, более сократить путь нельзя, если только не брать подъемы штурмом, как укрепления, и не скатываться кубарем при спусках. Проводник увлекает нас в глубь гор по крутой тропе, едва намеченной прошедшими здесь пастухами или естественным стоком дождевых вод, что, однако, не мешает продвижению каравана легко груженных мулов и осторожных лошадей.
Горный массив, который мы преодолели за пять часов, представляет собой беспорядочное скопление конических холмиков, изрезанных глубокими, узкими оврагами. На дне каждого воронкообразного оврага, у ручьев или ключей, изобилуют олеандры. Склоны покрыты густыми зарослями кустарника, а на верху холмов расположились величественные дубы, пробковые дубы и хвойные деревья. Дымок, тянущийся над лесом и приносящий разнообразные запахи, редкие зеленые квадратики ячменных полей указывают на присутствие в этом уединенном месте арабов-земледельцев. Но не видно ни самих хозяев полей, ни их хижин, откуда тянется дымок. Ни души. Не слышно даже собачьего лая. Арабы не любят показывать свои жилища, как не любят называть свои имена, говорить о своих делах, сообщать цель своего путешествия. Им неприятно любое проявление навязчивого любопытства. Вот почему они строят свои жилища в самых неприметных местах; почти так же устраивают засаду – чтобы можно было самим наблюдать, не будучи замеченными. Из глубины невидимого убежища араб следит за дорогой, за проходящими по ней людьми, отмечая их число и с беспокойством определяя направление движения. Если же кто-то намеревается осмотреть местность, устроить привал или направляется к жилищу – поднимается тревога. Иногда подозрительный деревенский житель незаметно провожает вас взглядом и не теряет из виду, пока не утратит всякий – реальный или надуманный – интерес к вам.
Все привычки араба-земледельца подчинены целой системе предосторожностей, а его отношение к собственности может быть объяснено постоянной неуверенностью. Даже ведя оседлый образ жизни, он чувствует себя владельцем лишь того, что непосредственно находится в его руках. Он предпочитает движимое имущество, так как его легче обменять, скрыть, даже отрицать, что оно твое. Земля же, наоборот, слишком обременительна. Любая земельная собственность кажется ненадежной и вызывающей. Засеянный участок подчеркнуто занимает лишь клочок земли. Араб не желает расширять его и возделывать прилегающие земли, он старается сохранить голое пространство перед своим домом, чтобы никто не догадался о его владениях. Ничто не имеет более невзрачного вида, чем местность, заселенная арабскими племенами. Вряд ли возможно занимать меньше места, производить меньше шума, более скрытно вторгаться в пустыню.
Мы продвигаемся в тишине и с трудом, вцепившись в лошадиные гривы, преодолеваем тяжелые подъемы, каждый из которых отнимает у нас целый час. Из-под копыт лошадей вспархивают козодои и лесные горлицы, изредка выводки серых куропаток. Иногда совсем рядом раздается звонкий крик дрозда, и мы видим маленькую черную птицу, вьющуюся над зарослями. Жарко, в воздухе пахнет грозой, облака с темно-синими разрывами, усеявшие небо, отбрасывают огромные тени на прекрасную страну, окрашенную в зеленый цвет. Не могу выразить, сколь величественна эта мирная картина. На вершине каждого холма я оборачивался, чтобы полюбоваться видневшимися на горизонте голубоватыми пиками Музайя. Однажды в узком проходе я увидел клочок равнины и над ней в тумане нечто голубое, что еще походило на море, Средиземное море, которое, мой друг, здесь я называю Северным морем и которое когда-нибудь с сожалением назову Африканским морем, как в древности. Время от времени на северо-западе, на светлом плато, где вырисовывались дороги, показывалась Медеа. В последний раз я увидел Медеа в три часа дня и попрощался с ней. Она выделялась красноватым пятном, испещренным беловатыми точками, над тремя ярусами поросших лесом холмов. Я смутно различил два или три минарета, господствующие над городом, и, кажется, узнал рядом с казармами тот, который не нравился тебе. И сразу же вспомнил наших аистов. Затем я еще раз вгляделся в горизонт. Не знаю, какие невидимые нити, идущие от моего сердца, натянулись сильнее, но только в этот момент я по-настоящему понял, что уезжаю, что мне предстоит нечто отличное от простой прогулки.
За четыре часа пути мы не сделали и пяти лье, но подъем закончился. Через полчаса спуска по пологому склону меж густых зарослей моя лошадь радостно оживилась, и передо мной открылись поляна с белым домом, окруженным соломенными хижинами, несколько черных палаток и наш кавалерийский авангард, который уже располагался бивуаком.
Лагерь в эту ночь был разбит в Эль-Гуа, называемой также Ла Клерьер, у резиденции Си Джилали Бель-Хадж Мулуда, каида* племени бану хасан. Резиденция – укрепленное строение, которое наше правительство возводит в глубине страны, административное здание для вождя племени, в случае войны оно служит оборонительным форпостом, а в мирное время – гостиницей для путешественников. Резиденция не является постоянным местом пребывания арабского вождя, но находится он там или нет – двери обычно охраняются несколькими французскими пехотинцами, выделенными соседним гарнизоном. Более значительные и мощные укрепления называются борджами*. Резиденция в Эль-Гуа представляет собой скромную кордегардию: в середине двор с четырьмя павильонами по углам, невысокие стены с бойницами, массивная, окованная железом дверь. По ту сторону дома возвышается большое ореховое дерево с шаровидной кроной, кругом хозяйственные постройки, обсаженные кустарником. Сквозь ветви огромного дерева проглядывали небо и тяжелые грозовые облака, нависшие над холмами, окрасившимися в коричневый цвет, – все это создавало картину, мало похожую на восточную, но понравившуюся мне именно потому, что напоминала Францию. На юге все заволокли тучи, на севере и западе под нами простирались бесчисленные холмы, чередовавшиеся с небольшими долинами, с рощицами, естественными лугами и редкими возделанными полями. Холмы укрыла тень, лес окрасился в цвет бронзы, поля обрели изысканную бледность молодых всходов, контуры лесов очерчивались сеткой голубых теней. Это походило на трехцветный ковер с неравномерно подстриженным ворсом: совсем коротким – там, где поля, густым пушистым – там, где леса. Поражает полное отсутствие впечатления дикости природы, даже мысли не возникает о соседстве львов.
Две арабские палатки, поставленные для нас, послужат убежищем для людей и укрытием для багажа. Места ровно столько, чтобы не испытывать неудобств. О нашем гафла* я расскажу тебе, когда он соберется в полном составе, готовый к длительному путешествию, когда мы сменим горных мулов на верблюдов, когда господин Н. – ты его знаешь, – наш хабир*, соберет всех всадников и слуг. Верблюды, запасные палатки и эскорт ожидают нас в Богари, куда мы прибудем завтра вечером. Сейчас же наш небольшой караван имеет самый обычный вид, в нем перемежаются бурнусы и одежда французского покроя, а погонщики мулов идут совсем не тем размеренным и терпеливым шагом, какой присущ погонщикам верблюдов, этим неутомимым путникам пустыни.
Восемь часов вечера, мы вернулись в палатки после ужина у каида. Си Джилали дал нам торжественный ужин – диффу*. Он специально приехал в резиденцию из племени, которое живет в нескольких лье отсюда, чтобы принять нас. Невозможно удостоиться большей гостеприимности на пороге арабской страны. В нашем радушном хозяине я обнаружил те черты горца, которые мы отмечали еще в Медеа и любовались ими, если помнишь. Он с честью может представлять свою страну, как герой на фронтисписе книги. У него красивое, загорелое лицо, смелое и решительное, с которого не сходит улыбка, позволяющая заметить великолепные зубы, большие нежные глаза. На нем два бурнуса – черный и белый. Черный бурнус редко можно увидеть у арабов прибрежных племен, эта одежда, как мне сказали, исчезает и на Юге, но зато широко распространена в районах между Медеа и Джельфой, которые мне предстоит проехать. Черный бурнус делается из грубой шерсти или из верблюжьего волоса, он так тяжел, толст, жёсток на ощупь, что кажется фетровым, он просторнее, чем бурнус из белой шерсти, и ниспадает с плеч, образуя одну-две строгие фалды. Высокие люди кажутся в нем шире и ниже ростом, но приобретают царственную поступь и величественную осанку. К этому почти монашескому одеянию, напоминающему мантию священника, добавляются капюшон вроде клобука, отброшенный на спину, красные сапоги для верховой езды, четки из темного дерева, сафьяновый, потертый, с засунутыми за него пистолетами пояс на талии и, наконец, длинный шнурок, на который нанизаны деревянные амулеты и мешочки из красной кожи, и спускающийся на хаик* джериди* из тонкой шерсти, подбитый шелком; никаких вышивок, бахромы, кистей, золотых застежек – такова была строгая одежда нашего хозяина. Си Джилали происходит из военной аристократии, его отец Си Хадж Мулуд совершил паломничество в Мекку. В его жилах, как ты можешь понять, течет кровь фанатика и воина. Это тридцатилетний мужчина, вернее, молодой человек, которого заставили так рано созреть усталость, высокое положение, может быть, война, а то и просто солнце этой страны. Если к нему приглядеться повнимательнее, то замечаешь, что выражение его глаз, полных огня, не всегда соответствует улыбке на его лице, которая порой лишь проявление вежливости.
Мы обедали в небольшой комнате (без мебели, но с французским камином) с облупившимися стенами, хотя дом был новый. Камин топился, палаточный ковер, слишком большой для комнаты, был подогнут у одной из стен так, что служил нам как бы спинкой дивана; освещалась комната единственной свечой в руках слуги, который исполнял роль подсвечника: неподвижно сидел на корточках перед нами. Какой бы скромной ни была столовая, как бы плохо ни был освещен ковер, служащий столом, приём пищи у арабов всегда значительное событие.
Мне незачем напоминать тебе, что диффа входит в ритуал гостеприимства. Приготовление ее освящено традицией и стало частью этикета. Чтобы больше не возвращаться к этому, вот основное меню диффы по самому строгому церемониалу. Сначала один-два целиком зажаренных барана. С них еще капает горячий жир, когда их приносят нанизанными на вертела. На ковре стоит длинное деревянное блюдо; вертел водружается как мачта посреди блюда, а принесший вертел берет его как лопату и ударом голой пятки по крупу барана сбрасывает его на блюдо. Вся туша испещрена длинными надрезами, сделанными прежде, чем тушу начали жарить. Хозяин дома подает лучший кусок самому важному гостю. После этого к делу приступают остальные. К барану подают горячие масленые лепешки. Затем следует рагу из баранины и сухих фруктов, обильно политое соусом, сильно приправленным красным перцем. В заключение на большом деревянном блюде на ножке, как у кубка, подают кускус*. Напитки: вода, свежее молоко (халиб), кислое молоко (лябан); кислое молоко идет к трудноперевариваемым кушаньям, свежее – к острым. Мясо едят без ножа и вилки, разрывая его руками, соус берут единственной деревянной ложкой, которую пускают по кругу. Кускус можно есть руками или ложкой, но, как правило, его скатывают правой рукой, делают комочек и проглатывают, быстро протолкнув большим пальцем. Обычно каждый берет его со своей стороны блюда, проделывая ямку. У арабов даже принято оставлять середину, так как на нее как бы снизойдет благословение неба. Питье – молоко или вода – подается в одной большой чаше. На этот счет я знаю еще один местный завет: «Тот, кто пьет, не должен дышать в чашку с напитком; когда надо перевести дыхание, он должен отнимать ее ото рта, а затем может продолжать пить». Я подчеркиваю слово «должен», чтобы сохранить повелительный смысл.
Если ты помнишь главу «Гостеприимство» в прекрасной книге генерала Дома о Великой Пустыне, то понимаешь, что среди арабских обычаев трапеза и угощение имеют первостепенное значение и что диффа – прекрасный урок правил хорошего тона и взаимного великодушия. Надо заметить – это обусловлено не общественным долгом, совершенно чуждым этому антисоциальному народу, но божественным указанием: если изъясняться их языком, подобное отношение к путешественнику объясняется тем, что он как бы послан богом. Их приветливость зиждется, таким образом, не на условностях, а на религиозных принципах, почтительно соблюдается, как все, что относится к святыне, и исполняется как религиозный обряд.
Поэтому вовсе не смешно, когда сильные мужчины в военном облачении и с амулетами на шее с серьезным видом занимаются мелкими хозяйственными делами, которые в Европе являются обязанностью женщин, когда их крепкие руки, огрубевшие от ношения оружия и управления лошадью, прислуживают вам за столом: режут на тонкие ломтики мясо, предлагают лучшие куски бараньей туши, наливают воду и подают после каждой смены блюд полотенце для рук из набивной шерсти. Знаки внимания, которые в нашем обиходе показались бы ребяческими, даже смешными, здесь становятся трогательными из-за контраста между обликом мужчины и таким использованием его силы и достоинства.
Когда подумаешь, что мужчина, который из лености или от избытка домашней власти возлагает на женщин выполнение тяжелых обязанностей по хозяйству, старается лично услужить гостю, то приходится согласиться, повторяю, что это прекрасный урок, который дается нам, людям с Севера. Не является ли подобное гостеприимство мужчин по отношению к мужчинам благородным, братским, единственным, которое, по арабской пословице, вверяет «бороду иноземца в руки хозяина?» Впрочем, об этом уже много говорено, разве что кроме некоторых незначительных подробностей приглашенный имеет право, испытывая максимальную удовлетворенность, выказывать в обществе признаки полноты желудка. Это согласно нашим правилам приличия не дозволяется даже детям, и нам трудно поэтому понять и тем более извинить этих суровых людей, которые никогда не дают повода к насмешкам. Но не надо забывать, что таковы здесь обычаи и что все совершается с самой удивительной непосредственностью.
Кофе, чай и табак подаются только чужеземцам-христианам и совершенно неизвестны в ксурах и дуарах* арабов Юга. Уважающий себя араб обычно воздерживается от этих продуктов. Многие бедняки вообще их не пробовали. Существует ошибочное представление, что каждый араб имеет трубку, как мавр или турок. На самом деле курят далеко не все мавры. Я знаю таких, которые смотрят на курение как на порок, почти равный пороку потребления вина; эти суровые методисты усердно посещают мечеть и носят одежду из шерсти и шелка без золотой или серебряной отделки.
Одиннадцать часов. Заканчиваю письмо, всматриваюсь в темноту этой первой ночи на бивуаке. Воздух уже не влажен, но земля совсем мокрая, наши палатки покрыты росой; высокая луна освещает горизонт за лесом. Наш бивуак погружен в полную темноту. Только что у костра, разведенного между палатками, перешептывались арабы, рассказывая что-то друг другу – конечно, не анекдоты Антара, что бы ни говорили об этом путешественники, вернувшиеся с Востока. Теперь оставленный костер погас и распространяет по всему лагерю слабый запах смолы. Наши кони время от времени вздрагивают от любовной страсти к невидимой, воспламенившей их кобыле, а их пронзительное ржание похоже на звуки трубы. Сова, где-то скрывающаяся, издает через равные промежутки времени среди полной тишины единственную ноту – клю! – которая напоминает громкий вздох.