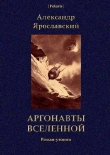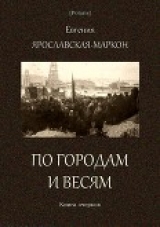
Текст книги "По городам и весям
(Книга очерков)"
Автор книги: Евгения Ярославская-Маркон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
ГОСТИ. ПЕНЗА
У хозяев собрались гости… В сущности, все свои: деверь с женой, две золовки, одна – барышня, другая – разведенная вдовушка, и сестра хозяйки с мужем и двумя детьми. Да еще – Акимовна, сорокапятилетняя кумушка и сплетница, круглый год шатающаяся по гостям к знакомым и незнакомым.
На столе – вынимаемые раз в год из горок рюмки (в будни, ежели хозяин и вздумает выпить, то пьет из чайного стакана. А рюмки – это для гостей только, чтобы было все «по-интеллихентному»). Выпивку хозяин поставил не простую «горькую», а коньяк. А так как не коньяком же гостей поить допьяна, то в соседней комнате на всякий случай заготовлен крепчайший, ядренейший самогон.
Соленые грузди, как большие чернильные кляксы, расплылись по бумажной белизне тарелки. Копченая колбаса нарезана бережно, как нечто очень драгоценное. И изобильно выпирает из зеленого стекла ярмарочных вазочек густое, липкое, сладкое уже на вид варенье.
Хозяин, не зная, чем занять гостей до выпивки, хотел было уже сейчас завести граммофон, да хозяйка не велела:
– Погоди, Сережа… Всякому овощу свое время. Сперва – закуска. А там за чаем и граммофон пустим.
– Надо пойти Танюшке помочь, – говорит золовка. И идет в кухню. Хозяйке это очень неприятно. Она суетится в кухне потная, в грязном переднике и вовсе не хочет, чтобы ее сегодня видели в таком виде. Каждый раз перед тем, как выбежать к гостям, хотя бы на минутку, она скидывает, путаясь в нем ногами, передник, и заново проводит пуховкой по запотевшему носу и лбу. Пуховка и пудра тут же под рукой, на кухонном столе, между очистками из-под селедки и еще не нарезанным свежезапеченным окороком. Тут же вертятся дети, девочка в кисейном платьице, с утра умытая и даже завитая, мальчики в суконных брюках и чистых рубашках… Они недаром тут юлят: мать только что отколупнула от окорока просоченное насквозь жиром, от жира чуть не прозрачное, ржаное место, на него-то дети и зарятся. Мать в отчаянии гонит их: разве можно давать в руки уже переодетым ребятишкам что-нибудь сальное.
– Убирайтесь, чертенята!.. Там тетя Саша пришла. Идите с ее детьми играйте… Только чтоб не вымазаться, смотрите у меня!..
В кухне пахнет пирогами. Хозяйка с трепетом заглядывает в печку и снова закрывает заслонку. И тотчас же принимается крошить лук крупными кольцами на селедку.
– Милости просим, не побрезговайге нашим угощением!..
Гости наперерыв спешат восхититься угощением:
– Ну и пироги у вас, Татьяна Михайловна! Замечательные!.. Вот у меня хоть бы раз такие пироги вышли… – говорит жена деверя.
– Да что вы?! Неужели уж такие хорошие впрямь? Это оттого, что я… – следует длиннейший рецепт.
У жены деверя вскипает самолюбие.
– Ну, уж это вы совсем напрасно!.. – спешит она противопоставить хозяйкиному рецепту свой рецепт. – Я вот никогда масло не растопляю раньше, чем в тесто класть, а тоже очень хорошо получается… Правда, Петя? – обращается она к мужу, совсем забыв, что только что сама говорила, что Татьянины пироги лучше, чем ее.
Муж в затруднении, он и жены боится и хозяйку дома не находит удобным обидеть.
– Да, и у нас дома пироги недурны. Моя женка стряпать умеет… Однако таких, как эти, еще ни разу, отродясь не едал…
– Ты, Петр, напрасно столько пьешь!.. В кои веки собрался вместе с женой в гости и тут напиться норовишь… Пьянствовать, это ты в кабаке, с приятелями можешь… А не на глазах у законной жены… – обиженно бормочет она и косится на хозяина, наливающего всего еще только вторую рюмку коньяка ее мужу… Она с своей стороны демонстративно не прикасается даже к первой.
Остальные все пьют. Мужчины и женщины. Кроме хозяйки. Ибо не надлежит хозяйке напиваться, принимая гостей.
– Петя, нам пора! – неожиданно во всеуслышание заявляет жена деверя, хотя просидели они в гостях ровным счетом много-много – час. – Пора и честь знать… Погостили и будет…
На всех лицах – недоумение. Муж краснеет и бледнеет. Зная свою жену, он предчувствует громкий скандал сейчас здесь и тихую потасовку дома… Откровенно говоря, ему больше всего хочется, не возбуждая ничьего внимания, уйти сейчас же вместе с женой. Но внимание уже обращено. Торжествующе-лицемерные лица женщин: – Мы-де не такие, как твоя женка… – и задушевнейшее сочувствие мужчин… Это соболезнование оскорбительнее всего. Петр грозно супит брови (выходит это почему-то жалко), задирает голову:
– Ты еще что мне за указ?!. Ты мне благодарна будь, что в гости я тебя к порядочным людям повел!.. Кабы не на людях, я бы тебе показал!… И покажу ужо…
Хозяин, желая придать разговору более добродушный характер, говорит немного нараспев:
– Полноте!.. Что это вы расстраиваетесь, Аграфена Степановна?.. Чать не в кабаке, не в чужих людях – у родного брата…
– Ну, ты как знаешь… В таком случае, я одна пойду…
Хозяйка пробует ее удерживать, а затем, стараясь быть особенно любезной и ласковой, провожает ее в переднюю…
– Премного вам благодарна за угощение… – бормочет гостья и в голосе ее клокочут яд и ярость…
Угощение идет своим чередом. Гости уже принялись за самогон. Два раза ссорились и два раза мирились хозяин с братом Петром. Женщины, за отсутствием чужих мужчин, заигрывают со свойственниками. Сестра хозяйки жмет под столом ногу Петра. Ее муж <сам> пристает к хозяйке… Она, единственная трезвая, отбивается…
Граммофон смеется, хихикает, <бормочет> голосами Бим-Бома, – «народных клоунов республики»…
Сильно захмелевший уже хозяин рассказывает ничего уже не смыслящему осоловелому брату:
– Кооператив весь разокрали… Прислали комиссию. Они взятку – комиссии. Комиссия разокрала, что можно было… Их судили. Оправдали почему-то…
…За одно хвалю большевиков и советскую власть признаю: советская «горькая», по прозванию – «Рыковка», в честь великого вождя трудового крестьянства и красного пролетариата, не хуже царской. Коньяк, наливки, – все довоенного уровня… Вот оно где, мирное строительство. А мы и не замечаем другой раз… <…>
ВНИЗ ПО АНГАРЕ. НОЧЕВКА В ПРИЕЗЖЕЙ
Из тумана появилось что-то неопределенное, может быть, стена, может быть, гора, не знаю… Да и не хотелось думать, по правде, что это. Все равно – ямщик довезет. Укуталась поглубже в тулуп, выше подняла мохнатый грязный воротник, так что запах и шерстинки овчины защекотали ноздри.
Ничего. Когда так холодно, это неважно. Зашивают же матери-туземки на недели маленьких детей в меховой мешок и так носят ребенка, как маленькое запечатанное чудовище, пока не развалятся сгнившие от нечистот меха. Холод… Великий царь-холод… Чего же мне стесняться запахом несвежей овчины?
Ангара развертывается и вправо, и влево, и вдаль, как нескончаемая, упирающаяся в туман, серовато-белая дорога. Она почти ровная. Хорошо скользят сани по снежному крепкому асфальту, лишь изредка встряхнет на нечастых сугробах.
– Ладно замерзла матушка… – говорит ямщик про Ангару, – ровно стол.
Если закрыть глаза, все-таки не уснешь. Но тогда покажется, что во всем мире нет ничего – ни меня, ни ямщика, ни лошадей, нет даже Ангары. Есть только холод. Холод…
Под знаком холода проходит жизнь края. Там дальше вниз, за тысячу верст от Иркутска, там ездят уже на оленях и на собаках, там холод не отпускает людей совсем: на два, два с половиной летних месяца, он затаится лишь блестящим летающим снегом под остро-кусающим похмельным солнцем, – не успеют оттаять ни животные, ни люди от судороги страшной зимы, как опять приходит державный холод. Откуда этот ветер? Страшный тяжелый, густой, мохнатый ветер, бегущий по Ангаре. Наверное – с полюса.
– Сейчас приедем. Замерзла, чать? – прерывает ямщик мои размышления.
Действительно, неопределенное, маячившее в морозном тумане, плотнеет и превращается в довольно большой двухэтажный дом. Сани подбрасывает о береговые сугробы, лошади останавливаются и я, с помощью ямщика, взбираюсь на каменное крыльцо.
В полуоткрытую дверь валит пар. Вхожу и опускаюсь на деревянную скамью.
Минуты две я ничего не чувствую и мне кажется, что я по-прежнему – под ледяным ветром Ангары. Но вот блаженное тепло жилья просачивается в лицо и в тело и я начинаю понимать, что хочу есть и что сильно замерзла.
– Ишь, бедная… Не обморозила щеки-то? Хошь, снегом натру? – соболезнует ямщик.
Но все обходится благополучно и минут через десять я сижу за общим столом проезжей станции, она же трактир. Странный сибирский трактир, где хозяин при вас откалывает ржавым топором кусок молока и кусок пельменей от громадных ледяных глыб, принесенных из сеней крепкими руками, чтобы оттаять на огне отрубленные куски и подать на стол густое, жирное, чуть грязноватое молоко и обжигающие рот вкуснейшие огромные пельмени.
Суровый демократизм севера быстро сближает здесь людей и упрощает потребности и жизненные отношения. Спят все вместе, и мужчины и женщины – не раздеваясь, в большом общем помещении на скамьях, где подстилают войлок и овчины. Но под грязным бревенчатым потолком горит все-таки подслеповатая от пыли двадцатипятисвечовая электрическая лампочка. Это – последняя станция («станок» – как называют здесь), где горит еще электрический свет. На следующей – будет керосин. А дальше – дальше, может, и керосина не будет.
– Тяжелый вы избрали путь, – говорить мне укладывающийся на противоположной скамье комиссар транспорта (так называют здесь заведующего трактом). – Надо бы вам подождать лета и ехать лучше на пароходе. Тогда это приятная даже прогулка, посмотрели бы наши края-с. А теперь не только вам, женщине, а даже мужчине одно мученье-с.
Мы разговорились. Заведующий трактом оказался довольно приятным городским партийцем, с полгода назначенным на свою трудную должность. Попал он сюда не за провинность, как обычно, а по собственному желанию; хотелось дикие края посмотреть, да потом… тут он смущенно-лукаво опустил глаза – «золотцем здесь, говорят, разжиться можно». В городе у него осталась большая семья, за последнее время концы с концами свести трудно.
Мне понравилась стыдливая откровенность, с которой он говорил про «золотце». – «В городе, знаете, даже на партмаксимум с такой семьей прожить трудно. А мне до партмаксимума далеко, только полставки получаю. А тут – командировочные, климатическая прибавка и всякое».
Он сильно недоволен отношениями с туземцами. По его рассказам, при всех благих советских намерениях кооперация их страшно эксплуатирует: мало пороха, мало дроби, мало сала и керосина, и невероятные цены. Потом, охотнику не дают кредита, пока не заплатит полностью до мелочи старый долг; бывает, что из-за какого-нибудь недоплаченного рубля ловцу срывается весь охотничий сезон. Те обижаются: «Царские купцы и то не так жали. Советский “прижим” очень тяжелый».
Жуткое рассказывал об обычаях местного суда: в город ездить судиться за тысячу верст невозможно, а местный суд, народный советский суд – как ни парадоксально, – руководствуется дикарскими обычаями. Народный судья – пьяница и трус – боится населения, старается подладиться к туземцам. «Где уж тут по декретам, – я уж как-нибудь по ихнему судить буду», – говорит он.
Был случай – рассказывает заведующий – когда при нем, чуть ли не по приговору суда, толпа убила какую-то старуху за колдовство и порчу ребенка.
– И вы не помешали? – возмутилась я.
– Ничего нельзя было поделать, тут бы всех растерзали, – возразил заведующий. – Тут у нас – север, публика серьезная. С ними лучше не связываться. Потом оформили – написали в город бумагу на всякий пожарный случай, что, мол, погибла от нечаянности. И еще хуже случаи бывали: тут, если рассказывать, временя не хватит, – он зевнул и повернулся к стене. Я тоже скоро заснула и сквозь сон слушала ветер над Ангарой, плещущий, как океан.
ШОКОЛАД. НА СТАНЦИИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
На станции было шумно и людно. Бегали бойкие мальчишки, предлагавшие лучший напиток в мире – обыкновенную, не совсем чистую воду, но – со льдом; толпились пассажиры всех сортов – от франтоватых ответственных работников до измученных баб с мешками за спиной и с грудными детьми на руках; по перрону, важно попыхивая папиросками, гуляли какие-то парни в кожаных кепках и матросских брюках навыпуск, очевидно, местный «рабоче-крестьянский бомонд»…
Когда подошел поезд, все это многолюдное и многоревое кинулось штурмовать вагоны… Стало совсем как – в 20-м… Только с помощью энергичного замначстанции с трудом протискалась я в свой вагон; о моем нумерованном плацкартном месте и думать было нечего…
– Уж вы как-нибудь здесь протерпите-с… Потом посвободнее станет… – бормотал торопливо замнач, укладывая мои вещи в коридоре.
«Терпеть», впрочем, пришлось недолго: и восьми минут не прошло, как тот же замнач появился на перроне и почему-то с радостным лицом громовым голосом заявил, что этот вагон отцепляется и не пойдет дальше.
Под негодующие крики обескураженных пассажиров вышла, вернее, – вывалилась и я из вагона. Найти место или просто влезть в другой вагон нечего было и думать, – всюду набито до отказа.
Когда поезд отошел, замнач взял мои вещи и я поплелась за ним в телеграфную. Стучали аппараты, седоусый, почти седой телеграфист со странно-мальчишеским лицом, не прерывая работы, пощипывал сидевшую рядом с ним полную девушку… Та заливисто смеялась… За их спинами двое подростков, вероятно, ученики, оглядываясь по сторонам воровато, дулись в карты…
На меня никто не обратил ни малейшего внимания. Так просидела я полчаса, заскучала… Встала, чтоб идти в гостиницу.
– Погодите, – сказал замнач, – Тереньков расскажет вам свою историю… – Тереньков!.. – возгласил он начальственно.
– Есть!
Полуседой телеграфист моментально перестал работать и щипать соседку, которая недовольно оглянулась.
– Служил с шестого года-c.. – начал он скороговоркой, словно по команде. – Часто был от начальства взыскуем… Но и претерпевал.
В эпоху гражданской войны-с тоже претерпевал…
Но от товарища Троцкого счастье жизни своей получил…
– Как?! – удивилась я. – Вы что, с Троцким знакомы?
– Как же-с… Самолично Львом Давыдовичем был принят и из собственных ручек получил… шоколад…
– Шоколад?!
– Так точно-с… Шоколад. Две американских плитки по фунту весом, почти кило-с. На предмет питания организма и в знак признательности.
Я ничего не понимала. Замнач объяснил: когда поезд Троцкого стоял у них на станции и аппарат, как назло, был не в порядке, Тереньков все же сумел первым передать срочную телеграмму на фронт. Телеграмма сыграла громадную роль, говорили, что она спасла целую дивизию от разгрома. Троцкому сообщили фамилию телеграфиста и он захотел его видеть. Тереньков страшно растерялся, думая, что его требуют для какого-нибудь наказания…
На вопрос Троцкого, что бы тот хотел получить за свой телеграфный подвиг, Тереньков растерялся и пролепетал: «Шоколад»…
Троцкий долго хохотал и потом сам дал ему просимое и приказал перевести на высший оклад. Странная просьба возникла на любовной подкладке: время было голодное, трудное, люди ели овес и даже картошки не было, а возлюбленная Теренькова – тип полудеревенской Клеопатры – играла в своеобразный аристократизм и заявила Теренькову, что поцелует его, лишь если он достанет ей плитку шоколада…
Все попытки ее образумить и заменить шоколад дровами, керосином или даже сахарным песком – ни к чему не привели… Измученный любовью Тереньков видел во сне гигантские глыбы черного, как антрацит, шоколада, но наяву… наяву он был безоружен…
Получив от Троцкого цену любви, он срочно помчался к даме сердца и история закончилась, как и следовало ожидать, счастливым – не в пример прочим – советским браком….
Так Троцкий, разбивший и погубивший немало человеческих жизней, помимо своей воли, сочетал два любящих сердца….
– Четвертый год уже в браке-с, – сказал Тереньков, поглаживая полную шею соседки, оказавшейся его женой…
Следующий поезд должен был быть в семь утра. Я полюбовалась еще на счастливую парочку, раскланялась и пошла спать в гостиницу.
МИТИНГ В ВАГОНЕ
– Хорошо вашему брату-рабочему! Вы что – лодыри! Отработали восемь часов и баста. Домой к бабе на постель, на теплые пироги. Да и восемь-то часов, черти, не проработаете как следует: то покурит, то побалагурит, то соплю полчаса утирает. Да еще на обеденный перерыв почти час дают. А то и больше.
А наше дело хрессьянское: нет тебе ни отдыху, ни сроку, с четырех часов утра до поздней ночи, спины не разгибая. Да и бабу с собой на работе изведешь, больше моего ей мытариться. И – с детишками. И – с домашностью. Да со скотиной. Опосля, значит, всамделишной работы. А твоя баба, рабочая, – гладкая: только по хозяйству и крутится, за мужиком-то, как за стенкой. А ежели работает когда, то работа у ей легкая и жалованье, окромя того, супротив мужа получает.
Вот хорошо, запретили таперича вам мужу с женой работать, а то – грабите, обираете рабоче-хрессьянскую республику.
– Ты, дед, полегче! – сердито возразил молодой высокий голос. – Это вы рабочий класс в голодуху-то пограбили; мало вам самоваров, да перин, да спинжаков на картох да на муку сменяно?
Я сам-то, почитай, на деревню ходил; бывало, сорок изб обойдешь; в ногах зудит, в глазах – муть, а ваше кулачье еще издевается:
– «Ты одеял бы шелковых привез, да суконца бы хорошего. Или хоть бы роялю на телеге привез… А то на простое менять неохота… Хлебушко-то, он таперича в цене!» Н-дя, охота! ишь – сволота! Своего же брата-рабочего придавить готовы. – Поклонись, мол, за хлебушко пониже! – На нужде спекулировали!
Брали бы с буржуев, да с помещиков – тут вам никто говорить не станет. А то норовит ободрать своего же брата. А ты думаешь, работа-то она легкая?
Работа, брат, умственная. Она специалистов требует. Не то, что у тебя: ты так ковырнул, не так – все равно земля родит. А тут с понятием надо. Притом – поковырялся лето, зимой лежи на боку. А рабочий весь год напролет дует…
Рабочий промышленность подымает, вот что. А ты говоришь…
– Да уж ты подымешь! – возразил первый голос. – Вот у нас в киператив ситец привезли гнилой. Суконце – не сукно, а дерьмо, с позволения сказать. Сапоги – через неделю каши просят, цена-то им – семнадцать с полтиной. А в прежние времена я за четыре целковых хорошие бы укупил, с почтением…
А хлеб-то чегой-то стал дешевый! Выходит, ты теперь меня колупаешь, браток. Ежели и было что прежде у мужика припасено, теперь все в город пошло.
Ни от царя, ни от большаков нет мужику правды-милости… Эх-эх-эх… Ну, прощевай, не сердись, браток, – кажись, приехали…
Поезд действительно подошел к станции. Я наблюдала со второй полки, как один из споривших помогал другому взвалить на спину тяжелый мешок. Потом крестьянин сошел на полустанке, а поезд без звонков пошел дальше.
Об авторе

Евгения Исааковна Ярославская-Маркон родилась 14 мая 1902 г. в Москве в семье историка, филолога-гебраиста, еврейского общественного деятеля И. Ю. Маркона (1875–1949). Вскоре ее семья обосновалась в Петербурге. Исключенная из гимназии в связи с революционными увлечениями, сдала экстерном экзамены за 6–7 классы и в 1918 г. поступила в университет.
В 1922 г. окончила философское отделение факультета общественных наук Петроградского государственного университета; в том же году связала свою судьбу с поэтом-биокосмистом А. Б. Ярославским (1896–1930). В марте 1923 г. попала под поезд, были ампутированы ступни обеих ног.
В 1922–1926 гг. Евгения колесила вместе с Ярославским по России и Средней Азии, читала вместе с ним лекции на литературные и антирелигиозные темы. В 1926–1927 гг. побывала вместе с мужем в Германии и Франции; в Берлине работала в телеграфном агентстве и сотрудничала в газете «Руль».
После возвращения в СССР в начале ноября 1927 г., ареста мужа летом 1928 г. и безуспешных ходатайств о его освобождении Евгения ушла «в шпану», проделав путь от продавщицы газет до гадалки и воровки-рецидивистки, строила планы организации «уголовно-политического» комитета для освобождения из тюрем и лагерей «смертников» и других видных заключенных. За воровство была приговорена к трем годам ссылки в Устюжне, откуда за ограбление магазина была сослана в Сибирь. Бежала из ссылки; надеясь подготовить побег мужа из Соловков, добралась до Кеми, где летом 1930 г. была арестована и в сентябре приговорена к трем годам лагерей. Узнав на Соловках о расстреле А. Ярославского, пыталась покончить с собой, нападала на лагерных начальников, 10 апреля 1931 г. была приговорена к смертной казни и 20 июня 1931 г. расстреляна на Секирной горе. В 2008 г. были опубликованы написанные ею в карцере воспоминания «Моя автобиография».
* * *
Очерки, предлагаемые вниманию читателя, были впервые напечатаны в газете «Руль» (Берлин) в декабре 1926 – сентябре 1926 гг. под общим заглавием «По городам и весям». Тексты публикуются по первоизданию с исправлением наиболее очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Отдельные слова, не поддающиеся прочтению в доступных нам сканах газетных номеров, означены как <…> или <нрзб>, предположительные прочтения – в угловых скобках. Настоящая публикация является предварительной; откомментированный вариант книги очерков Е. И. Ярославской-Маркон «По городам и весям» будет включен в том V подготовленного нами издания «Биокосмизм: Собрание текстов и материалов».