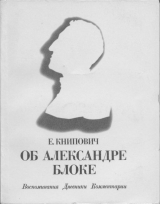
Текст книги "Об Александре Блоке: Воспоминания. Дневники. Комментарии"
Автор книги: Евгения Книпович
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Я ведь ни одной книжки целиком не помню и не вижу – для меня все книги – одна, две, десять страниц… Помните, он ее видит на палубе парохода и шаль чуть не упала в воду?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О Гиппиус: «Что она интересная – хорошо, и что она красится – хорошо, и потом она – эстетическое явление – это тоже хорошо, но она бы очень рассердилась, если бы узнала, что я так говорю. Прежде всего женщина. И всегда неправду говорит».
Про Гумилева: «Все люди в шляпе – он в цилиндре. Все едут во Францию, в Италию – он в Африку. И стихи такие, по–моему… в цилиндре».
В первый период нашего знакомства Александр Александрович много расспрашивал меня сначала о более внешнем: о литературных вкусах, о том, что меня заставляет предпочитать то или другое произведение данного автора.
И как только я отвечала, что думаю так или люблю вот это, сейчас же начинали одно за другим падать неумолимые и тяжеловесные «почему?».
Чем дальше, тем его вопросы становились серьезнее. Кроме «почему» прибавились «откуда вы это знаете?», и, когда я, доведенная до отчаяния, отказывалась отвечать, он почти сердился и наконец сурово сказал: «Есть случаи, когда быть скрытной – трусость. Кадетство какое‑то. Если нет доверия, то нам вместе делать нечего» – и, увидев, что я поникла, мягко прибавил: «Я не хотел сказать неприятного». Однако скрытность мою победил не этот суровый выговор, а быстро возраставшее убеждение, что он все равно все обо мне знает.
Главной «подземной» (его выражение) темой наших отношений было то, что словами сказать нельзя, это было какое‑то общее музыкальное (не в смысле искусства музыки) восприятие чего – я не знаю.
С этим были связаны: тема искания утерянного золотого меча и звука рога из тумана (теург и судьба); существование миров искусства. И темы двух реальностей: («то и не то», «здесь и там»). Это началось со второй или третьей встречи.
Я помню вечер зимой или ранней весной. Александр Александрович сидел у стола под лампой. Я – далеко от него, кажется, на диване, с ногами.
Он был очень напряженный и вместе с тем бережный.
Какой‑то внешний разговор – о Разумнике, об Есенине, о «Скифах» – как‑то не клеился. Александр Александрович рассеянно шутил, я так же рассеянно смеялась.
Он замолчал, потом вдруг заговорил каким‑то совсем другим голосом – глубоким и тихим.
– Все мы ищем потерянный золотой меч. И слышим звук рога из тумана… – улыбнулся. – Я вам хочу о себе…
Я ведь только одно написал настоящее. Первый том. Но не весь. Девятьсот первый, девятьсот второй год. Это только и есть настоящее. Никто не поймет. Да я и сам не понимаю. Если понимаешь – это уже искусство. А художник всегда отступник. И потом влюбленность. Я люблю на себя смотреть с исторической точки зрения. Вот я не человек, а эпоха. И влюбленность моя слабее, чем в сороковых годах, сильнее, чем в двадцатых.
А сейчас слышу грохот, и я – не я, голова – в небе, не жилы – а реки. Видите на руке жилка – это Волга или Нил.
Он говорил, что сейчас над ним то, первое, прекрасное. Что сейчас он все вспоминает дом, и сад, и поля (о Шахматове Александр Александрович говорил мне раньше) вокруг, и лошадь свою – он все на ней ездил, она была серая, потом полиняла. «И все – не то, а заревая лазурь». Потом он долго расспрашивал меня о красках, старался понять, перевести на свои восприятия.
– Я вам прочту мою статью о символистах, она хорошая, по–моему.
После чтения я спросила, в первый ли раз он закручен стихией. Он сказал, что это уже с ним было не раз.
– Знаете «Снежную маску», вот тогда я заблудился, и унесло. Я второй том ненавижу, то есть люблю и ненавижу, а людей, которые его любят, ненавижу всегда. Как его можно любить!
Часть разговора о зорях и о звуке я ни формулировать, ни передать не могу. Осталось воспоминание о страшном напряжении. Я дрожала, как от нестерпимого холода.
Александр Александрович обеспокоился:
– Вы озябли? Я вам принесу ваше пальто, только оно маленькое. Может быть, вас прикрыть моим?
Я отказалась. Мы заговорили об его цветах.
Зеленый для него не существовал совсем. Желтый он ощущал мучительно, но неглубоко. Желтый цвет для него не играл важной роли в мирах искусства, он был как бы фоном, но здесь он появлялся в периоды обмеления души, «пьянства, бреда и общественности» (слова Александра Александровича), клубился желтым туманом, растекался ржавым болотом или в «напряжении бреда» (слова Александра Александровича) горел желтым закатом.
О соотношении заревой ясности, пурпура и сине–лилового сумрака есть в статье о символизме. Александр Александрович долго говорил тогда об этом.
В 1911 —1912 годах в душе, затопленной мировым сумраком, загорелся новый цвет. По определению Александра Александровича, он непосредственно заменил заревую ясность, так как мировой сумрак был вторжением извне. Этот цвет Александр Александрович звал «пурпуровосерым» и «зимним рассветом» (отсюда круг над головой Музы, отсюда же позже «Седое утро»).
Когда я пишу о всем этом, я невольно путаюсь, сливаю многие разговоры, дополняю то, что говорилось весной 18–го, тем, что говорилось зимою 20–21–го.
Я отвечаю только за то, что не искажаю смысла слов Александра Александровича.
Встреча, закончившая первый период нашего знакомства, произошла, кажется, в марте 1918 года. Это было вечером, часов в девять.
В комнате было холодно, за стеной кто‑то играл гаммы.
– Сегодня я узнал, что моя сестра умерла, – сказал Александр Александрович. – Странно, когда так смерть подходит. Она должна была умереть – ее так и воспитывали к смерти. Я ее поздно узнал. С ней хорошо было.
Потом он заговорил об отце, тяжело, с мучительной усмешкой. О том, как они встречались, как было нестерпимо трудно, о том, как он жил после смерти отца.
– Близкие – самые страшные.
– Враги человеку домашние его? – спросила я.
– Да. Вы не знаете, как нестерпимо быть собой и дома и вообще в жизни. Убежать некуда. Да и поздно. Я раньше любил ходить на борьбу, в цирк. Там вдруг станешь клоуном. Или в театр миниатюр на Петербургскую сторону. Там был такой на Большом. Хозяин принимал меня за инженера, потому что на фуражке молоточки, и все приставал со своим изобретением. Это хорошо. Или еще раз я шатался около ипподрома, и мальчишка пристал: «Дяденька, скажи, какая лошадь выиграет», – за жокея меня принял и ни за что не хотел поверить, что я не жокей.
Потом Александр Александрович заговорил о каком‑то монастыре на Севере, куда ни подходу, ни подъезду, где монахи выращивают особенно высокую траву – выше роста человеческого.
– Вот бы туда уехать, – сказал он. – Только без себя, все цепи тут оставить и литературу тоже, и тридцать семь лет; так, просто уйти.
Он сильно волновался и ходил по комнате.
– Слышите, там барышня за стеной играет? Я про нее постоянно думаю. Совсем ее не знаю. Я ее ненавижу. Ведь она ни о чем не тревожится и ничего для нее не происходит. И все они такие. Выйдет замуж, народит детей – и дети такие же будут. И зачем она играет!
Мы заговорили о бесах, потом о демоне, о двойниках. Александр Александрович объяснял, что двойники – карлики, старик у стены и т. д. – помощники. Художник всегда отступник, он стоит над горном и кощунственно плавит сокровища…
– Знаете, что такое «Незнакомка»? Это столкновение лиловых миров души с синими мирами революции. Захотел чуда только ценою искусства, и синие миры испепелили душу. Потому и революция не удалась тогда. И душа и мир – одно. Если золотой меч будет найден, – проговорил он звенящим голосом, снова поднимаясь с места, – он снова пронижет все миры, и тогда… – он оборвал. – Как вы скажете, выкручусь я? – спросил он напряженно.
Я сказала, что нет, уже слишком поздно. Он заговорил о своей ненависти к Христу, о том, что Христос – женственный облик, и что подвиг мужественности с ним невозможен, и что Христос преследует его.
– Да, вы правы, – сказал Александр Александрович потом. – Выкручиваться поздно. Тридцать семь лет. Но я никогда не ошибался в пути. Понимаете? Падал, бился, разбивался, подымался и все шел – меня вело.
Он сказал, что и мне никогда не выкрутиться, разговор становился все тяжелее, когда мы прощались, я думала, что больше мы уже не увидимся.
Весной мы встретились еще раза два.
Раз на улице Александр Александрович спросил меня, как мне нравится «Двенадцать». Я ответила, что потонула в нем с головой. Он засмеялся. «Мне сейчас тоже очень нравится. Оно больше меня. И больше себя. Это – настоящее».
Потом он спросил: правильно ли он делает, перепе–чатывая старые статьи, нужно ли это. Я сказала, что, по–моему, они ничуть не устарели и что печатать их надо.
«По содержанию не устарели, – возразил Александр Александрович, – а по ритму – устарели, ритм другой надо».
Потом мы виделись на чтении «Катилины», там я в первый раз увидела Александру Андреевну. Накануне (кажется) был вечер в Тенишевском зале, где Александр Александрович читал стихи, а Любовь Дмитриевна «Двенадцать».
– Вам понравилось, как моя жена читает «Двенадцать»? – спросил Александр Александрович.
– Да, – сказала я, – но не все.
– А мне все, ни одной ошибки нет, по–моему. Ведь слова, голос, ритм, музыка – идут вместе. Иначе и нельзя читать, по–моему.
Мы вышли вместе, дошли до Знаменской площади, день был теплый, весенний, я говорила о «Каталине». Александру Александровичу это было, по–видимому, приятно.
– Смотрите, – сказал он вдруг, – вот дурная бесконечность, – и указал на идущие ряды солдат. – Самое скучное на свете, когда солдаты идут, особенно без офицера.
Мы стали прощаться.
– Я вас все вспоминаю, – сказал Александр Александрович, – а вчера думал, что вы умерли.
Все пять месяцев, которые я его не видела, бродяжничая по России, я вспоминала его таким, каким увидела прощаясь. В сером пальто и серой шляпе, очень усталый, бледный, худой, но улыбка была светлая и спокойная. И все‑таки я видела, что он помнит последний разговор и как‑то чуждается меня. Жизнь увела меня далеко от Петербурга, закрутила, запутала, я забыла Блока, забыла наши встречи, так прошло месяца три.
Июльским вечером в полях я вдруг поняла многое, вскоре вернулась в Петербург.
Пробовала несколько раз звонить к Блоку, отвечали, что его нет дома. Я поняла, что он не хочет говорить и уклоняется от встречи. Я написала письмо, где говорила про то, что поняла, и про него. Через несколько дней, когда откуда‑то вернулась домой, мне сказали, что приходил молодой человек, сказал, что он от Блока, принес письмо, хочет поговорить и зайдет опять через час. Через час пришел энергичный молодой человек в крылатке – В. В. Бакрылов – и подал мне письмо. «Евгения Федоровна, – писал Александр Александрович, – я все ждал, когда вы напишете, а говорить не хотел. Все, что Вы пишете, мне, я думаю, понятно. Все это я знаю. Теперь недосказанного больше нет, и недоразумение кончилось». Дальше он писал: «То свое, что ведет Вас, поможет вам найти себя в том, что теперь поет вокруг. А я хочу помочь Вам не словом, а делом». Дальше он приглашал меня работать в Тео, в Репертуарной секции, где он сам состоял председателем. С В. В. Бакрыловым мы выяснили разные подробности, причем В. В. мне рассказал, что Александр Александрович «ему строго–настрого приказал» без моего согласия не приходить.
Следующая моя встреча начала второй период моего знакомства с Александром Александровичем, и о нем нужен разговор особый.
В начале октября, числа одиннадцатого–двенадцатого, Александр Александрович попросил меня по телефону прийти на Дворцовую набережную, 30, во временное помещение Тео. Я помню большую, пустую комнату, пронизанную осенним солнцем, окно на Неву, беспокойную воду, золотой шпиль крепости и на голубом фоне неба озаренную солнцем фигуру Александра Александровича.
Я не видела его почти пять месяцев, только что, правда смутно еще, осознала, что мы с ним связаны неразрывно на всю жизнь. Я остановилась посреди комнаты, не имея сил идти дальше. Александр Александрович оставил своего собеседника (это был Мейерхольд) и, улыбаясь, пошел ко мне навстречу:
– Евгения Федоровна! Изменились, побледнели, упора больше. Это хорошо.
Он познакомил меня с Мейерхольдом, выяснили приблизительный план работы. Прощаясь, я как‑то очень бессвязно попробовала поблагодарить его, он крепко сжал руку и засмеялся:
– Не надо, не надо, за что же меня‑то? – И прибавил ласково, не выпуская руки: – Я приду, я скоро приду.
Потянулись недели работы в библиотеке русской драмы, на хорах, за маленьким столом. Глядя для развлечения вниз на двух–трех старушек, работавших внизу, заседали мы втроем: Б. А. Пестовский – китаист, немножко поэт, большой чудак; H. Н. Федорович – юный классик, погруженный в Софокла, и я. Работа была нетрудная, веселая и довольно фантастическая. Снизу тащились пачки неизвестных рукописей, огромные, выцветшие, пыльные, я бежала впереди, за мной с ревом и скрежетом, аршинными шагами, подняв пачку рукописей над головой, мчался Федорович. «Пещерный человек гонится за испуганной ланью», – комментировал Пестовский. Такие сцены производили сильное впечатление на коренной персонал библиотеки.
Затем мы сообща читали пьесы, иногда хохотали до упаду, иногда бывало, что и болтали о постороннем, читали лекции об Аристофане или буддизме; как‑то мы с Федоровичем импровизировали мистерию о гибели культуры, причем он, не зная второй симфонии Андрея Белого, сам додумался до «грядущего негра».
Александра Александровича я видела редко, раз он зашел к нам в библиотеку, раза два мельком мы встретились в отделе. Я ждала, когда придет час, когда ему нужно станет подойти ко мне, а сама подходить не хотела.
Наступила годовщина Октябрьской революции. Германия волновалась, казалось, что мировой пожар действительно разгорается, ощущение праздника, своего, нашего, общего праздника, было очень сильно. И город нарядный, тревожный, и толпа, и погода не по–осеннему мягкая, звезды ракет, выстрелы, райская малина и райские яблоки Петрова–Водкина – все пело об одном. В те дни я дружила с Мгебровым, близко следила за работой Пролеткульта, а 6–го была на «Взятии Бастилии». А 7–го на «Мистерии–буфф» мы встретились с Александром Александровичем. Он был в том же состоянии праздника, пафоса и восторга. «Вести‑то какие! И как весело», – повторял он.
Я ему рассказывала про «Взятие Бастилии», про публику, говорила о Пролеткульте вообще. «У нас скоро будет сборник «Репертуар». Напишите для него статью об этом», – сказал он.
«Я не умею, никогда не писала», – стала я отказываться.
«Умеете, умеете, – засмеялся он. – Если хотите, потом вместе посмотрим».
С этого дня Александр Александрович вдруг сам подошел ко мне. Часто он вызывал меня в Театральный отдел, иногда запиской, иногда мне передавали на словах. Дело кончалось быстро, а затем мы шли обедать в столовой Тео, которая помещалась внизу. Там велись длинные шутливые разговоры больше на литературные темы, папиросы делились по–братски. «Это вам, это мне», – делил он папиросы перед отходом. Зато когда у меня бывали папиросы, я брала его большой, плетенный из японской соломки портсигар и начинала набивать папиросами. «Что вы делаете? Ну, что вы делаете?» – протестовал Александр Александрович, стараясь отобрать его. «Папиросы кладу в портсигар», – отвечала я, не отдавая. «Ну спасибо», – вдруг соглашался Александр Александрович.
Наступили тяжелые дни, «дни великих испытаний» называл их Александр Александрович, революция кончалась, вместо Красной гвардии росла Красная Армия, люди голодали, гибли нелепо и трагически умирали, разрастался бюрократизм.
Александр Александрович худел, бледнел, молчал. Иногда отрывисто говорил о том, что так жить нельзя. Иногда просто сухо и глядя как‑то мимо сообщал о каком‑нибудь факте или говорил о том, что не может ни есть, ни спать, вообще болен. Как‑то раз мне захотелось углубить такой разговор, придать ему какую‑то окраску.
«Я теперь не могу говорить… – прервал он меня. – И особенно с близкими. Оттого, что вы все поймете, будет только хуже».
Для меня эти дни стали еще тяжелее по личным причинам. 28 декабря 1918 года скончался мой отец.
Помню, как я пришла в Театральный отдел просить отпуска. Попала к концу заседания. Александр Александрович сидел на кончике стола лицом к двери и разговаривал, кажется, с Ф. Зелинским, я вошла, он пристально взглянул, встал и быстро подошел ко мне: «Евгения Федоровна, что случилось?»
Недели две–три я жила как во сне, в Тео, в библиотеку не ходила, ни с кем не видалась.
После рождества, то есть в начале января, я в первый раз пошла в Тео. В. В. Гиппиуса, прямого начальника моего, не застала, тихонько посидела с В. Н. Соловьевым, затем спустилась вниз и в дверях столовой столкнулась с Александром Александровичем. Он в первую минуту не узнал меня под траурным вуалем, затем улыбнулся: «Евгения Федоровна! Вы не спешите? Идемте пить чай».
«Опять изменились, – сказал он, как‑то зорко приглядываясь ко мне. – Совсем другая. Вы точно уже весна – зеленые росточки пустили». Он улыбался. Так ласково смотрел и говорил с такою бережною нежностью, что я вдруг всем сердцем почувствовала, – он добрый (…).
Мы вышли вместе, пошли по набережной до моста, там простились и пошли в разные стороны. С этих пор мы постоянно стали ходить вместе. После обеда, когда люди уже не дергают вопросами и разговорами, мы забирались в угол за колонну, пили чай и разговаривали. Александр Александрович резко повеселел, поддразнивал меня, громко читал стихи, оживленно рассказывал о Гейне. Если я приходила веселая, он сейчас же начинал «дра–зниться». «Какая вы нарядная!» – «Почему нарядная? Такая же, как всегда». – «Лицо праздничное! А духи! Откуда это у вас? Будь я комиссар, за один Лориган арестовал бы. Все в валенках, а вы в ботинках, кокетство заело«Ведь вы не снимаете траур, потому что красиво и идет вам». Я сердилась, протестовала, а он буквально умирал со смеху, довольный, что поддел меня.
Потом мы шли по набережной, если нет ветра; по Галерной – если ветер.
Александр Александрович часто вспоминал М. И. Терещенко, рассказывал, как они в белые ночи шатались по улицам; про врубелевского демона, который висел в комнате с окнами на Неву и крепость. Этого демона Александр Александрович ощущал как‑то необыкновенно остро, потом гораздо позже я вспоминала и поняла выражение его лица, когда он говорил о демоне. Иногда на Александра Александровича находили припадки шутливости. Например, он вдруг все памятники начинал звать Карлами Марксами. «Это кто?» – спросишь, указывая на Радищева. «Карл Маркс». – «А это?» – на Чернышевского. «Карл Маркс». – «Да ведь Маркс с большой бородой». – «Ничего, это он в молодости». – «А этот ведь в пудреном парике». – «Это он на маскараде» и т. д.
У моста мы прощались. Александр Александрович быстро шагал через сугробы, у будки на трамвайной остановке еще раз оборачивался и кивал мне, затем мы расходились.
Как‑то раз, когда мы ныряли между сугробами Александровского сада, Александр Александрович вдруг объявил: «Мне сегодня что‑нибудь выкинуть хочется. Я все думаю пойти на маскарад куда‑нибудь, одеться так, чтобы никто не узнал, и тогда что‑нибудь такое выкинуть… И никто не будет знать, что – я. Очень хорошо». Говорил он это почти печально, смотря куда‑то на вечернюю зарю. Мы вышли на Конногвардейский бульвар, два красноносых мальчишки задирали гимназистов. «Барин, барин, кошку жарил, кошку драну, мышь погану!»
«Вот гады!» – засмеялся Александр Александрович. Тогда я в первый раз услышала от него это слово, для него очень важное, характерное, неотъемлемое. В переводе на общедоступный язык «гад» – синтез многих понятий: и зверь, и животное вообще, и живое существо, то, что движется, кишит, ползает, и ласка была в этом слове, и бесконечная любовь ко всему живому. Об отношении Александра Александровича к «гадам» мне еще многое придется сказать позже.
Через несколько дней мы снова проваливались в какие‑то сугробы. Кажется, возле памятника Петру I. Кстати, уже тогда я стала подмечать в Александре Александровиче одну черту, тоже чрезвычайно для него характерную, – страсть ходить по таким местам, где проходу нет. Если рядом дорожка и сугроб, непременно нырял в сугроб. «Идемте сюда, путь ближе», хотя это бывало совсем не ближе.
В сугробах возле Петра Великого он вдруг сказал мне: «Евгения Федоровна! Я давно уже хочу найти такое место, где бы я мог с вами видаться и говорить. Лучше вечером. И чтобы тепло было. У меня неудобно, и у вас тоже. Хотите, я вас познакомлю с моей мамой?» Я сказала, что боюсь. «Совсем не страшно, – возразил он, – и потом я там буду». На следующий день или через два, мы снова встретились в Тео. «Поздравьте меня!» – весело сказал Александр Александрович. «Почему?» – «Ну, вы сначала поздравьте». – «Ну, поздравляю. В чем дело?» – «Я уже больше не председатель, слава богу! Наконец‑то отпустили». Потом он стал мне рассказывать про только что организовавшуюся тогда «Всемирную литературу», где ему было поручено редактировать Гейне. Радовался он этому страшно. С энтузиазмом, звенящим голосом читал «Nordsee», рукой показывая приливы и отливы ритмических волн. Помню, что сзади Александра Александровича стоял Самуил Миронович Алянский, которому было что‑то нужно от Александра Александровича: он не решался прервать его и только недоверчиво и неодобрительно косился на меня.
Мы вышли на улицу. Александр Александрович стал жаловаться на то, что во «Всемирной» «кирпичей много». «Я профессоров боюсь, – сказал он, – и там, в университете, боялся. Здесь Зелинского, Котляревского боюсь, а там других». Уже у моста он сказал мне: «Приходите к маме завтра, я тоже приду. – Вдруг лукаво улыбнулся: – А может, и не приду, разбирайтесь там вдвоем, как знаете, отчима моего тоже дома не будет».
На другой день вечером я пошла на Пряжку. Александру Андреевну я уже видела на чтении «Катилины». Мыс ней не говорили почти ничего, я ее плохо помнила даже, а у нее обо мне осталось впечатление совсем мрачное (впоследствии она мне о нашей первой встрече на чтении «Катилины» рассказывала так: «Вхожу в комнату, где Сашенька, вдруг вижу, на столе сидит красивая барышня в большой шляпе, губы накрашены и курит. Я так и решила: это Сашенькино новое донжуанство, и когда мы вышли и вы пошли вместе, я прямо подумала – им вслед смотреть нельзя»).
В этот первый вечер мы с Александрой Андреевной сговориться никак не могли: во–первых, ее муж был дома; во–вторых, вскоре пришел А. В. Гиппиус, потом Александр Александрович, потом сестра Александры Андреевны Мария Андреевна. В небольших комнатах квартиры Александры Андреевны Александр Александрович показался мне каким‑то ужасно большим, не комнатным, почему‑то вспомнилась статуя Командора. Вообще, несмотря на легкую, юную походку и на врожденную грацию движений, в движениях и в облике было что‑то статуйное, неподвижное. Было в нем что‑то напоминавшее тех деревянных архангелов и Георгиев Победоносцев, которые дремлют в церквах Нюрнберга и Кёльна.
В этот же период Б. А. Пестовский, бродя со мной по Эрмитажу, предложил мне показать «голову Александра Александровича». На красной бархатной подушке лежала античная мраморная голова, черты были чуть мягче и бездумней, но действительно напоминали черты Александра Александровича.
В каталоге это произведение неизвестного греческого мастера зовется «Головой спящего героя».
В тот первый вечер Александр Александрович показался мне страшно неподходящим к домашней обстановке. Когда мы, сидя рядом как благонравные дети, пили чай, мне хотелось смеяться.
Я стала бывать у Александры Андреевны. Приходил туда и Александр Александрович. Сначала он по–прежнему бывал в Тео, по–прежнему сидели мы в столовой, по–прежнему шли по набережной домой. Часто, прощаясь, он говорил мне: «Приходите к маме сегодня». Я приходила, и он приходил тоже. Но к Александре Андреевне я приходила ради нее самой, зная, что Александр Александрович придет вечером, нарочно приходила раньше, чтобы посидеть с ней вдвоем. (Писать о том, чем она стала для меня, я не буду, она сама это знает.)
Сейчас мне странно то, что я совсем не помню этого периода. Вся весна девятнадцатого года – апрель, май, июнь – выпала из моей памяти. Я знаю только, что это был период внутреннего расхождения, ласковой отчужденности, но я тогда не ощущала этого так остро, как впоследствии. Воспоминания более связные начинаются с конца июня, с того дня, когда я по делу пришла к Александру Александровичу в его квартиру. Снова мы вдвоем очутились в его кабинете.
– Вы давно у меня не были, – сказал Александр Александрович.
– Полтора года, – ответила я. – Вы переставили мебель, диван и стол не так стояли.
– И барышни с гаммами больше за стеной нет, – засмеялся Александр Александрович.
Как‑то остро вдруг вспомнилось первое время знакомства.
– Когда я здесь была в последний раз, я думала, что уже не вернусь сюда, – сказала я.
– Да? – спросил Александр Александрович. – А я знал, что вернетесь.
Потом Любовь Дмитриевна позвала нас пить чай. Лицом к лицу я ее увидела в первый раз. Мне очень понравилось ее лицо, глаза, голос, чуть сутулые плечи, легкая походка. Вся она была такая большая, но ладная и красивая. Я не то что стеснялась ее, но в обращении ее, очень любезном и как бы предупредительном, чувствовалась сильная враждебность, и взгляд был холодным, недружелюбным и недоверчивым. «Вот вы какая?» (…)
Помню из этого времени, как мы с Александром Александровичем были на репетиции «Дантона». Театр, темный и прохладный, мы забрались далеко. Александр Александрович шутит, рядом в темноте вижу милое лицо и огонек папиросы. «Вот Добужинский в «нерваном плаще». «Ай, ай, смотрите, декорации‑то из «На дне». «Криво, криво! Варвары!» – и он уже скользит по партеру, в два прыжка и уже на сцене, что‑то объясняет, поправляет. Возвращается обратно, тихонько передразнивает Максимова, лицом и еле уловимыми жестами подчеркивая интонации. А кругом сидят и бродят и любопытно смотрят на меня сотрудники и сотрудницы в костюмах времени французской революции (…). Тут начался хороший период. Мы снова стали постоянно видеться с Александром Александровичем. Встречи были всегда при Александре Андреевне или при Любови Дмитриевне, разговоры всегда бывали интересные, но не самые важные. Важное было то, что шло помимо разговора. Росла и крепла связь, о которой мы никогда не говорили друг с другом.
Как‑то раз, тогда, в то же лето, Александр Александрович сказал, что он знает, когда я приду к Александре Андреевне, и тогда приходит к ней. Когда год спустя в гроте Стрельны мы вспоминали историю нашего знакомства, я ему призналась, что напрягала всю волю, чтобы вызвать его силой желания сверху. Алексаyдр Александрович засмеялся и ответил: «Вы меня с пятого этажа только, а я вас – с Васильевского острова».
Все‑таки время это было очень хорошее. Помню, как мы (держась за руки) вывесились из окна под дождь, как грянул гром и в ответ матросы запели на реке, а Александр Александрович смеялся, жмурился; помню, как он сажал меня на табуретку в кухне, а сам колол растопки тесаком, ворчал, колол с азартом, приговаривая, а милое лицо краснело, крест выбивался из‑за ворота, завиток волос прилипал к виску. Помню, как мы смотрели портреты его отца. Он все спрашивал: «Похож, на которого: на этого? на этого?» Помню, как он читал нам главу «Возмездия», Александре Андреевне и мне, в ее комнате. Читал он в другой раз уже мне одной переводы Гейне. Пришла осень, я продолжала его видеть очень часто. Еще хорошее воспоминание осталось о Большом драматическом театре: «Дон Карлос», «Разбойники», «Рваный плащ», «Отелло»; может быть, и еще что‑нибудь, сейчас не припомню, мы смотрели вместе. У Александра Александровича было кресло в первом ряду литер А. Он давал мне билет, а сам приходил позже, садился рядом. Иногда смотрел один–два акта, иногда оставался до конца. Как‑то раз он, передавая мне билет, сказал, что у них вечернее заседание во «Всемирной». Я пришла в театр и, думая, что он во всяком случае не придет, позвала мою сестру, которая тоже была в театре, сесть рядом со мной на место, где обыкновенно сидел он. Но в предпоследнем антракте я, обернувшись, увидела, что по проходу быстро, с веселым и светлым видом, отыскивая меня глазами, идет Александр Александрович. «Евгения Федоровна! Здравствуйте. Пришел посидеть с вами немножко! Место занято?» – и он неодобрительно взглянул на мою сестру. «Позвольте вас познакомить – это моя сестра!» Александр Александрович смутился и покраснел, как это умел только он, краска залила все лицо, моя сестра тоже смутилась и покраснела. «Ну, я пойду», – сказал он (…).
Осенью и зимой у нас было много совместных проектов работы: «Тристан и Изольда», «Изотта Малатеста». Я начала под его руководством писать предисловие к собранию сочинений Гейне, он часто читал нам – Александре Андреевне, Любови Дмитриевне и мне – новые статьи, «Рамзеса», шуточные стихи.
Бывали периоды отчужденности, всегда короткие, впрочем, когда на губах его появлялась известная мне улыбка «хорошего знакомого», в словах проглядывала какая‑то утомленная неприязненность. «Все‑то вы убегаете, все прячетесь, лица не видно, голоса не слышно», – сказал он мне как‑то.
Этот период, в общем безоблачный, ясный, счастливый и пустой, не оставил глубоких следов в моей памяти. Из него выросло то, что мы стали товарищами, большее взаимное доверие в жизни; минутами мне казалось, что отношения наши совсем хорошие и простые: сейчас товарищи, может, и друзья; все предчувствия, все, что я узнала в первые дни нашего знакомства, исчезло как будто из памяти совершенно. Всегда помнила: он – добрый, и льнула к нему в тоске, в тяжелые минуты, во всех затруднениях, чисто житейских даже, и Александр Александрович мягко, внимательно, как добрый товарищ входил во все мелочи.
Наконец пришло лето. Я была очень больна. Александр Александрович стал проявлять заботливость, нежную и взволнованную, неуклюжую, потому что заботиться было совсем не в его характере. В эти дни он во второй раз подумал, что я умерла. Мы виделись накануне, и все‑таки, когда я пришла, он сказал, но уже далеко не эпическим тоном: «Я шел домой и был убежден, что вы умерли». Я стала смеяться, спрашивать почему. Это ему было, видимо, неприятно, он замолчал и потемнел.
Вскоре начались разговоры про Стрельну. Александр Александрович уже начал ездить туда, уже загорел, как индеец, похудел и повеселел.
«Евгения Федоровна! Почему бы вам не ездить в Стрельну?»
Я начинала отказываться: «далеко», «не могу», «не умею» и т. д.








