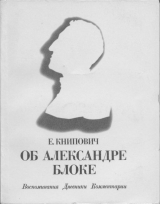
Текст книги "Об Александре Блоке: Воспоминания. Дневники. Комментарии"
Автор книги: Евгения Книпович
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Сейчас мы знаем, что Вильгельм II, приделавший к своему автомобилю сирену, играющую лейтмотив Вотана, был невинным младенцем по сравнению с теми, кто стремился «слопать» Вагнера через два примерно десятилетия после того, как была написана статья Блока, – мы знаем также, что не всегда спасительным был тот «яд противоречий», которым было насыщено творчество Вагнера и который так страстно защищал Блок.
Бесспорно «заемный» характер того противопоставления культуры и цивилизации, которое живет в статье «Крушение гуманизма» и на страницах других статей, писем, записных книжек Блока, уже достаточно обговорен и определен в работах многих блоковедов. Для меня сейчас существенно в статье другое – не тема разрыва между великим прошлым и настоящим и будущим, а тема преемственности, диалектического единства мировой культуры. «Гёте останется один – без юного Шиллера и без старого барокко, – говорил Блок, – он различит во мраке очертания будущего; будет наблюдать языки огня, которые начнут скоро струиться в этом храме на месте солнечных лучей; Гёте будет слушать музыку этого огня. Он, застывший в своей неподвижности, с загадочной двойственностью, относящейся ко всему, подает руку Рихарду Вагнеру, автору темы огней в «Валькирии», – через голову неистовствующего, сгорающего в том же огне будущего, Генриха Гейне».
Вагнер и Гейне не случайно стоят для Блока рядом – под одним знаком «огня будущего», в котором сгорает старый мир.
И не случайно же в той речи «О романтизме», которую Блок произнес в 1919 году для труппы Большого драматического театра, также естественным представителем нарождающегося романтизма, не как школы, а как мироощущения, становится Вагнер.
В 1849 году – когда Вагнер писал свою статью «Искусство и революция» – ему было тридцать шесть лет, почти столько же, сколько тридцатисемилетнему автору предисловия к этой работе, написанного в 1918–м.
И, несмотря на многие просчеты, Вагнер все‑таки ближе подошел к центру той проблемы, которая возникла перед искусством современного ему мира.
«Мы вовсе не станем заниматься здесь абстрактными дефинициями искусства, – говорит Вагнер в начале своей работы, – но ставим себе иную, на наш взгляд, вполне естественную задачу: обосновать значение искусства как функции общественной жизни, политического устройства… Беглый обзор разных эпох в истории искусства в Европе окажет нам в этом отношении большую услугу…»
В мою задачу не входит анализ данного Вагнером «беглого обзора», его сильных и слабых сторон. Мне важно отметить в нем лишь главное – провести общую линию эволюции европейской культуры, какой ее видел автор «Искусства и революции»: «Невозвратимый образ свободного и гармонического человека, воплощенный искусством Греции, и уже извращенный в искусстве Рима, сложная и, по существу, «античеловечная» роль христианства в дальнейшей эволюции искусства Европы и, наконец, сегодняшний ее день, когда со всей силой сказалась его зависимость от денежного мешка».
Эволюция, приведшая к сегодняшнему положению вещей, началась, по мысли Вагнера, очень рано; как пример можно привести его экскурс в историю «усвоения» греческой мифологии Римом.
Прекрасен был – для Вагнера – греческий бог Гермес, на своих крыльях он спускался с высот Олимпа, чтобы возвещать вездесущность верховного божества. Он присутствовал также при смерти человека, он сопровождал тень умершего в тихое царство ночи, везде, где ясно проявлялась великая необходимость природы, Гермес действовал и словно олицетворял собою осуществленную, претворяемую в дело мысль Зевса.
Римляне имели бога Меркурия, которого они сравнивали с греческим Гермесом. Но его крылатая деловитость приобрела у них чисто практическое значение: она стала символом промышленной предприимчивости… Римляне считали торговлю в то же время каким‑то плутовством, и, хотя этот торгашеский мир казался им необходимым злом… они тем не менее питали глубокое презрение к служителям этого мира, а для них бог торговцев Меркурий стал также богом обманщиков и плутов.
Но этот презираемый бог отомстил гордым римлянам и занял их место, покорив себе мир: «Увенчайте главу его ореолом христианского лицемерия, украсьте его грудь бездушным знаком ордена феодальных рыцарей – и вы получите бога современного мира – святейшего благороднейшего бога пяти процентов, хозяина и распорядителя нашего современного искусства… Вот вам Меркурий и его покорный слуга – современное искусство…»
Нет, Вагнер прекрасно понимал, что «реставрировать» великое прошлое, вновь обратить продувного Меркурия в крылатого Гермеса – и невозможно, и бессмысленно.
«Только Революция, а не Реставрация может дать нам вновь такое величайшее произведение искусства. Проблема, которую мы ставим перед собой, неизмеримо более сложна, чем та, которая была уже некогда разрешена. Если произведение искусства греков воплощало собой дух великой нации, то произведения искусства будущего должно заключать в себе дух всего свободного человечества… Нет, мы не хотим вновь сделаться трюками, ибо то, чего греки не знали и что должно было привести к гибели, мы это знаем. Само их падение, причину которого после долгих и тяжелых перипетий мы открываем в глубинах всеобщего страдания, указывает нам, к чему мы должны стремиться: оно говорит нам, что мы должны любить всех людей, чтобы быть в состоянии вновь полюбить самих себя и вновь обрести жизнерадостность. Мы хотим сбросить с себя унизительное иго рабства, всеобщего ремесленничества души, плененные бледным металлом, и подняться на высоту свободного артистического человечества, воплощающего мировые чаяния подлинной человечности…»
О пути такого преображения «наемников Индустрии» в граждан «свободного человечества» и говорил в своей работе Вагнер.
Объективно основной пафос его «Искусства и революции» – резко антикапиталистический, и недаром в одном из писем к друзьям Вагнер говорил, что самогЪ злого и самого опасного из Нибелунгов – Альбериха – ему легко себе представить с портфелем банкира в руке.
Да, в своей одноименной статье–предисловии «Искусство и революция» Блок горячо и страстно «пропагандирует» могучее и жестокое творение Вагнера – я бы даже сказала, «за счет» вежливой и почтительной недооценки «Коммунистического манифеста».
Но и в очень кратком и довольно точном изложении, так сказать, «фабулы» работы Вагнера отсутствует самое основное в ней – ее резкая антикапиталистическая направленность. Есть у Блока слова о цивилизации мещанства, старом мире, но нет «бледного металла», денежного мешка, «пяти процентов» поработивших искусство.
И кульминацией статьи Блока становится свое, личное преломление смысла тех тревог и беспокойств, которые бушуют в душе художника в «минуты роковые» человеческой истории.
В связи с судьбой Вагнера Блок снова возвращается к тому вопросу о праве для художника на неразрешимые противоречия, которые он защищал в разных произведениях и в разные периоды жизни.
Особо глубоким и существенным обнаружением исконной противоречивости подлинного художника нашего времени Блок считает отношение Вагнера к Иисусу Христу. «Называя Христа в одном месте с ненавистью «несчастным сыном галилейского плотника», Вагнер в другом месте предлагает воздвигнуть ему жертвенник… Но странен и непонятен образ отношения к Христу. Как можно ненавидеть и ставить жертвенник в одно время? Как вообще можно одновременно ненавидеть и любить? Если это простирается на «отвлеченность», вроде Христа, пожалуй, можно; но если такой способ отношения станет общим, если так же станут относиться ко всему на свете? К «родине», к «родителям», к «женам» и прочее? Это будет нетерпимо, потому что беспокойно».
«Формально» вопрос свой Блок задает все тем же «мещанам», которые «прощают» художникам их противоречия, позволяя им «быть вне реальной жизни». Фактически же право на противоречие обретает здесь всеобъемлющую, я бы сказала, «надысторическую» защиту. И пример, приведенный Блоком, не случаен, потому что для него Христос не был «отвлеченностью», и «отношение» к нему стало особенно острым именно в годы революции.
Кстати, никакой ненависти к Христу в работе Вагнера нет. «Историк» не знает, – говорит Вагнер, – таковы ли в точности (то есть соответствовали ли позднейшей христианской догме. – Е. К.) воззрения того несчастного сына галилейского плотника, который при виде страданий своих собратьев воскликнул, что он пришел на землю, чтобы принести не мир, но меч, который с негодованием, преисполненным любви, громил лицемерных фарисеев, подло льстивших римскому могуществу, чтобы с тем большей жестокостью порабощать в свою очередь народ, который, наконец, проповедовал всеобщую любовь к человеку, любовь, на которую он, конечно, не мог бы считать способным людей, долженствующих презирать самих себя…»
Все это, конечно, не ненависть, а страстная защита великого утописта от лицемерия ненавистной Вагнеру христианской догмы.
Поэтому естественен и закономерен тот вывод, которым «венчает» свою работу Вагнер. «И так Христос нам показал, что мы, люди, все равны и братья; Аполлон наложил на эту великую братскую ассоциацию печать силы и красоты и направил человека, сомневавшегося в своем достоинстве, к сознанию своего высочайшего божественного могущества. Воздвигнем же жертвенник будущего, как в жизни, так и в живом искусстве двум великим наставникам человечества: Христу, который пострадал за человечество, и Аполлону, который вознес его на высоту, вселяющему бодрость и радость величия».

А. А. Кублицкая–Пиоттух – мать А. Блока. 1919 (?)


Александр Блок. «Песня судьбы». «Алконост». Петербург, 1919, с дарственной надписью А. Блока Е. Ф. Книпович: «Евгении Федоровне Книпович с искренним приветом, 7 июля 79/9. Лл. Блок»


Александр Блок. «Россия и интеллигенция» (1907–1918), «Алконост». Петербург, 1919, с дарственной надписью А. Блока Е. Ф. Книпович: «Евгении Федоровне Книпович от автора. Июль 1919»

Билет в Большой драматический театр, выписанный А. Блоком для Е. Ф. Книпович

Е. Ф. Книпович. 1920–е годы


Александр Блок. «За гранью прошлых дней. Стихотворения». Издательство 3. И. Гржебина. Петербург, 1920, с дарственной надписью А. Блока Е. Ф. Книпович: «Евгении Федоровне Книпович. В лето Стрельны. Август, 1920. Александр Блок»

Е. Ф. Книпович, 1920 г.

А. Блок, 1920 г.


Александр Блок. «Седое утро. Стихотворения». «Алконост», Петербург, 1920, с дарственной надписью А. Блока Е. Ф. Книпович: «Евгении Федоровне Книпович, когда ей минуло двадцать два года. А. Б. Октябрь, 1920»

Титульный лист Библиотеки великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Шекспир, т. III. СПб. 1903 г.

Генри Ирвинг в роли Макбета. Иллюстрация к «Макбету» в III томе сочинений Шекспира

А. Блок, 1921 г.
«Яд ненавистнической любви», который Блок захотел увидеть в работе композитора, яд, непереносимый для мещанина даже «семи культурных пядей во лбу», и спас Вагнера, по мнению Блока, от погибели и поругания. Этот яд, разлитый во всех его творениях, и есть то «новое», которому суждено будущее».
«Новое»? Но ведь классика России и Европы дает десятки, а может быть, и сотни образов ненавистнической любви к «родителям», «жене» и прочему.
Что касается Родины, то и тут выстроится весьма внушительный ряд – от «Прощай, немытая Россия» до размышлений Волгина – Чернышевского в романе «Пролог» во время званого обеда либералов, сторонников реформ: очень надо любить свою родину, чтобы хоть в мыслях сказать о ней: «Рабы, одни рабы, страна рабов сверху донизу».
И все же во вневременную непримиримость противоречий Блок не поверил.
«Спасительный яд творческих противоречий», хотя на деле он и не новый, как полагал Блок, действительно ведет в будущее и «лишь мещанской цивилизации» их не удалось примирить до сих пор, и примирить их ей вообще никогда не удастся, «ибо их примирение совпадает с ее собственной смертью». Но свое сегодняшнее право на свободу «противоречий» Блок защищал в борьбе с «мещанской цивилизацией», еще ведущей подпольное существование во многих областях послереволюционной жизни.
Блок знал работу Вагнера уже много лет, он лишь вернулся к ней в 1918–м.
В статье «О театре», написанной в черные годы реакции (в 1908 году), Блок, опираясь на «замечательную» статью А. Луначарского «Искусство и революция» Вагнера», приводя обширные цитаты из этой работы, предъявляет суровый счет не только современному театру, но и зрителям. «Россия колеблется между двумя крайностями, – говорит Блок, – ее театр как бы готов уже упасть до вкусов интеллигентной толпы, но непосредственное чувство истории говорит нам, что мы предпочитаем другое устремление русского театра: к пышному расцвету высокой драмы с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей. Это случится только тогда, когда театральную интеллигенцию, которой не нужно театра, сменит новая, молодая интеллигенция, со свежим восприятием, с бодрым духом, с новыми вопросами, с категорическим и строгим «да» и «нет». Непосредственное чувство истории не обмануло художника – то, на что он надеялся, сбылось меньше чем десять лет спустя.
Через пятнадцать лет после того, как была написана статья Блока, А. В. Луначарский откликнулся на полувековую дату смерти Вагнера статьей, опубликованной в «Известиях ВЦИК». В несколько расширенном варианте ее перепечатал журнал «Советская музыка».
В работу эту вошли и мысли и положения из предисловия к изданию «Искусство и революция» в 1918 году (оно заменило написанное для этой цели предисловие Блока).
Любопытно, что, отбирая материал для маленького сборника «Юбилеи», из всех своих работ о музыке А. Луначарский включил туда только два «портрета» – Вагнера и Римского–Корсакова.
Несмотря на весь свой ум, талант и артистизм, управиться с «ядом противоречий» А. Луначарскому было не легко. Вагнер слишком властно вошел в «золотой фонд» того поколения, к которому Луначарский принадлежал. Сказалось это и на отношении к Вагнеру тех, кто был несколько младше первого нашего наркома просвещения.
Достаточно вспомнить, какое место Вагнер в течение долгих лет занимал в концертах Е. Мравинского.
И, для того чтобы обоснованными были те справедливые и жестокие упреки, которые в статье адресованы великому немецкому композитору, автору приходится, в сущности, обойти в своем анализе тетралогию Вагнера, потому что неистовая ненависть к золоту, к алчности, корысти, продажности, к преступлениям власть имущих и самих богов никак не укладывается в ту схему эволюции Вагнера от «Риенци» к «Парсифалю», которую пробует построить его умнейший критик.
Да, опираясь, так сказать, на «информативную» сторону творческого наследия композитора – некоторые статьи и письма, некоторые либретто опер, всю байрейтскую бутафорию и дружбу с Людвигом Баварским, – можно говорить о реакционности и ренегатстве.
«Попавший в плен реакции гений» – так определяет Вагнера Луначарский уже к концу статьи, уже подводя итоги. Правда в этих словах есть. «Плен» был, и не только «политический», но, я бы сказала, и «эстетической» реакции. Весь «дух баварско–байрейтской бутафории» я ощутила в замке Линдхоф – резиденции Людвига Баварского – в предгорье Баварских Альп неподалеку от знаменитой деревни Обераммергау. Цветы, фонтаны, парк и фасад ничем не отличают этот дворец от многих других сохранившихся в ФРГ и в ГДР. Но внутреннее убранство обширных зал и покоев поражает поистине королевским размахом монументально–претенциозной пошлости и безвкусия.
Более того, сопровождавшие нас – двух советских литераторов – немецкие друзья–коммунисты рассказали нам, что под дворцом расположен огромный бассейн или пруд. И высокий покровитель Вагнера в качестве нового Лоэнгрина плавал там в лодке, которую вел заводной лебедь (очевидно, с мотором?).
И меж детей ничтожных мира,
быть может, всех ничтожней он.
Справедливо. Но «божественный глагол» вновь и вновь поистине вопиял в музыке: «Описывал ли он любовь или бешеную ненависть, жадность и властолюбие или полет к свободе он вкладывал в импонирующие большие образы и возвышал до таких обобщений, которые изображаемое им чувство делали общезначимыми».
И не просто, а социально общезначимым. И художник Блок точнее, чем критик Луначарский, «учуял» то, что центр, золотое зерно творчества Вагнера, – это «социальная трагедия Нибелунгов» и кончается она не гибелью мира, старого мира власти с его преступными богами, а надеждой на будущее – ведь «под занавес» звучит тема, обещающая рождение героя–победителя.
Любопытно, насколько по–разному трактовали тему «пожара Валгаллы» и «гибели богов» Блок и Андрей Белый. Тема «Вагнер» проходит сквозь их почти двадцатилетнюю переписку. Она возникает в первом же письме Блока к Белому. «Разве же у Вагнера нет ужаса «святой плоти?» – пишет Блок, – разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда? И голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», «инфернальной», о, да! «инфернальной».
Сквозь своеобычный «жаргон» символистских кругов начала века все‑таки и здесь ощущается стремление нащупать в Вагнере главное – «растворенное» не в «либретто», а в музыке. А что касается «жаргона», то Блок уже год или два спустя также в письме к Белому сам дает оценку этому способу выражения мыслей, причем начиная критику с себя самого.
«…«Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) – все это – речи идиотски–бессвязные, понахватанные черт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно и были мне всегда противны… и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма…
Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место‑то, может быть, не совсем с Тобой, Провидцем, знающим пути, а с М. Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают». Несмотря на явные полемические заострения вопроса, в словах Блока – уже тогда, в 1905 году! – явственно звучит ощущение отделенности своего пути от путей тех, кто был (или числился) его товарищами и друзьями.
И еще два года – и снова попытка объяснить разницу творческих и человеческих дорог. «Я готов сказать, лучше чтобы Вы узнали меня, что я – очень верю в себя, что ощущаю в себе какую‑то здоровую цельность и способность и умение быть человеком – вольным, независимым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и Вы никогда не узнаете меня».
И здесь проходит черта, разделяющая отношение Блока и Белого к теме гибели Валгаллы.
Для Андрея Белого – уже «штайнерианца» – тема «гибели богов» теснейшим образом слилась с учением «доктора» – пророка антропософии. «Мы… решили подождать, – пишет он Блоку из Брюсселя в 1912 году, – ибо что‑то говорило нам – в день представления «Гибели богов» будет продолжение тайны… Мы ждали почему‑то свидания в театре, на «Гибели богов». Но в театре ничего, никого, только Вагнер, Вагнер и Вагнер и гибель богов. Но надо дальше. Нельзя же, чтобы Валгалла сгорела!!» И даже приветствуя Октябрь (что навсегда останется в биографии Белого), он по–своему «брал под защиту» Валгаллу.
В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины, —
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.
Блок же знал, что она должна или, точнее, ей должно сгореть, чтобы в родной стране и в мире изменилось все.
1985
ШЕКСПИР АЛЕКСАНДРА БЛОКА
В третьем томе собраний сочинений Блока, выходивших уже после Октября, есть цикл, озаглавленный «Ямбы» и датированный 1907–1914 годами. Отдельной книгой «Ямбы» вышли в 1919 году в издательстве «Алконост» с эпиграфом из Ювенала «Fecit indignatio versum».
Несомненно, «Ямбы» – наиболее «гражданственный», «объективный» цикл во всем третьем томе, тесно связанный к тому же с аналогичными гражданскими мотивами поэмы «Возмездие». Но недаром Блок в дневнике 1908 года писал о том, что «можно издать свои песни «личные» и «песни объективные». То‑то забавно будет делить – сам черт ногу сломит!». И в гневные, овеянные дыханием Ювенала строки, полные ненависти к старому миру, предчувствием и страстной жаждой надвигающихся важных перемен, вплетается память о встрече с сестрой в дни смерти и похорон отца и даже память о меховой шубке на плечах невесты в пасхальную петербургскую ночь.
Но в этом цикле есть стихотворение личное по–иному.
Я – Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце – первая любовь
Жива – к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.
В дневниковых записях Блока есть определение: «Мой Шекспир» (так же, как и «мой Вагнер»). И, зная досконально всего Шекспира и преклоняясь перед «всем», Блок все‑таки принял в сердце и в разное время и по–разному сделал «своими» Гамлета, Макбета и короля Лира.
«Гамлет» – это юность, студенческие годы, любительские спектакли в Боблове – имении Менделеевых. Это пятнадцатилетняя Любовь Дмитриевна – Люба – Офелия с распущенными золотыми волосами, высокая, статная, очень «земная» и, вероятно, совсем не такая, какой ее видел создатель «Гамлета».
К песням Офелии, к образу ее Блок снова и снова возвращается в стихах первого тома – начала «трагедии вочеловечения». Но в заметках этих лет есть размышления о Гамлете, вернее, изложение того, что думали о нем «великие», в частности Гёте, изложение критическое, без открытого спора, но и без согласия с тем, что сказано. «Свое» о «Гамлете» не совпадает даже у юного Блока с общепринятой точкой зрения.
«Гёте объясняет все поведение Гамлета, – говорит Блок, – словами его:
Порвалась связь времен; о проклят жребий мой!
Зачем родился я на подвиг роковой!
Когда на слабого от природы возложено великое дело, ему остается только чувствовать свое ничтожество и придавленность под непосильной ношей. Не герой не может совершить героического. От природы Гамлет прекрасен – чист, благороден, нравствен, но ему не по силам обязанность, которую он не может сбросить с себя по ее святости, не может исполнить по собственной слабости. Так думает Гёте.
Кажется, и трагическое действие при такой теме не может развиваться правильно. Главное лицо трагедии все время делает шаг вперед и шаг назад (по Гёте!), путается и изворачивается, а с ним изворачивается и драма, ибо от него зависит». Это – Гёте!
А вот трактовка самого Блока. «Пока король, Гертруда, Полоний, Розенкранц и Гильденстерн допытываются, догадываются, хитрят – им все‑таки остается непонятной (как и после, впрочем) тайна Гамлетовой души. Пускай они глубокомысленно обсуждают Гамлетовы поступки, – они живут пошлой и жалкой жизнью.
Офелия… Жалко ее смешивать с ними, но и она порождение среды двора; и в ней Полониева кровь. И так они живут, ибо не дан им от бога тот гений мысли, который присущ одному только Гамлету.
Хитрая западня готова. Картина III акта 1–го явления жалка до чрезвычайности, одна красота Офелии скрашивает всю мелочность двух старых дураков, спрятавшихся и выжидающих.
Бог знает, есть ли в какой другой драме большая резкость и безжалостность перехода, чем здесь, когда входит Гамлет с первыми словами… Гамлет думал без конца. Все вопросы в основании своего разрешения содержат тайну, тем более такие, какие всегда волновали Гамлета. И вот сила мысли довела его до стены, можно только разбиться об нее или остаться в прежнем положении – быть или не быть. И что всего важнее, что стена уже давно стоит перед Гамлетом. Вопрос «быть или не быть» не нов для него. Он «знает» его «до основания».
Итак, Гамлет вошел странно, остановился тоже странно – вдруг и вдруг в 1000 раз задал себе вопрос: «Быть или не быть?» И сейчас же констатировал: «Вот в чем вопрос» и т. д., ибо почувствовал внезапную надежду на свою силу, на свою возможность решить его. Эта надежда на свою силу, на возможность решить «главное» – как бы «развязала Гамлету руки», выпустила на свободу ту сильную волю, какой он обладает».
Много лет тому назад мне уже приходилось писать о том, что раздумья Гамлета отнюдь не бесплодная «рефлексия», а часть всесторонней самопроверки, подготовки к действию.
Гамлет – виттенбергский студент – может показаться слишком размышляющим в кругу тех титанов Ренессанса, которые с великолепной и жестокой непосредственностью открывали новые материки или приканчивали старые верования, не щадя ни своей жизни, ни жизни тысяч других, но, так сказать, «список деяний» принца Датского снимает вопрос о пассивности: это один из лучших фехтовальщиков при дворе, принц, которого, по словам Клавдия, любит «чернь» или «простонародье» (об этом Клавдий говорит в трагедии трижды, объясняя, почему он не может расправиться с пасынком) ; Гамлет может первым ворваться на корабль пиратов, хитростью добиться смертной казни ложных друзей, подменив письмо со смертным приговором себе; Гамлет трагедии нагромоздил гору трупов и сам лег сверху, смертью своей утверждая необходимость для человечества подняться на одну ступень выше.
Блок внутренне полемизировал с Гёте на основании того, что сказано о Гамлете в «Вильгельме Мейстере». Но знаменитая статья «Шекспир и несть ему конца» вносит важное дополнение (или поправку) в раскрытие образа героя трагедии.
По мысли Гёте, трагический конфликт определяют взаимоотношения «долженствования» и «воления». И трагедия нового времени отличается от трагедии античной тем, что «воление» в ней не предопределено «долженствованием». Предсказание оракула сбудется, хочет или не хочет тот, на кого оно пало (как в мифе об Эдипе), герой же нового времени обладает правом выбора и решения. Вот почему, восхищаясь трагедией античной, современник Гёте принять ее не может. «Однако их долг, – говорит Гёте о героях античной трагедии, – выявляется слишком резко и лишен для нас притягательной силы, хотя мы и восхищаемся им. Необходимость, исключающая – частично или окончательно – свободу воли, несовместима с нашими убеждениями, и к этому приблизился Шекспир на своем пути, ибо, делая необходимость нравственной, он тем самым воссоединяет нам на радость и изумление – мир древний и новый». Думаю, что такую трактовку долженствования и свершения Блок бы не оспорил, как не оспорил бы ее и Гамлет, возникший в строках «Ямбов». Гёте подошел здесь к самой сущности того, что юный Блок зовет «тайной» Гамлета. И в «недрах» этой тайны надо искать и объяснение того, почему, так сказать, «общие» размышления Гамлета, высказанные в его монологах («для себя»), по содержанию своему как будто далеки от непосредственного «долженствования» и «воления». Тайна Гамлета в том (и об этом говорит умный исследователь творчества Шекспира Л. Пинский), что «конфликт его с окружающим обществом шире, чем священный долг мести за убитого отца».
Гамлет вошел в конфликт с Временем, ощутил «надлом» в великом движении Ренессанса. Мир Клавдия, Полония, Гильденстерна, Розенкранца, Озрика, Лаэрта и других отражает закономерное и трагическое изменение самого времени, и об этом «изменении», о кризисе Ренессанса Шекспир будет говорить вновь и вновь – вплоть до «Бури».
Вот почему и блоковский Гамлет «Ямбов» встал в контексте страстных и беспощадных размышлений о Времени, в контексте предчувствий огромных перемен и грядущих сдвигов.
Нет, Блок не расставался с Гамлетом и мыслями о нем в зрелые годы – одно из свидетельств этого содержится в письме к матери от 18 сентября 1911 года из Берлина.
Накануне Блок видел Сандро Моисеи в роли Гамлета (в спектакле театра Рейнгардта), – некоторые критические замечания в тексте письма касаются не столько игры великого актера, сколько самого героя, которого он играет: «Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два–три раза». Еще любопытнее второе замечание. «Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин – и Офелия и Софья молчаливы, оттого приходится болтать принцам – Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам, но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральничают и этим угождают публике, которая того не стоит». В шутливом отрывке этом «нешуточно» прямое отождествление Грибоедова с Шекспиром («Наш Шекспир»). Ведь Блок считал «Горе от ума» величайшим произведением русской драматургии. «Нешуточно» и то, что сказано о «принцессах», хотя в силе остается «Полониева кровь» Офелии. О Софье же – десять лет спустя – в последних набросках к поэме «Возмездие» – появятся строки:
И – довершенье всех чудес, —
Ты, Софья… вестница небес,
Или бесенок мелкий в юбке?..
«Гамлет» не ушел из сознания и творчества Блока вместе с юностью, но уже немного лет спустя, в грозные и бурные годы первой русской революции, в творчестве его начинает сквозить совсем другой образ.
Гёте в статье «Шекспир и несть ему конца!» как бы предвосхищает мудрое изречение Вильяма Блейка «Вечность влюблена в явления времени»: «И, может быть, Шекспир на нас бы не действовал так сильно, не поставь он себя на один уровень с жизнью своей эпохи». Для Гёте милы, а тем самым оправданны все многочисленные и общеизвестные анахронизмы Шекспира, а также и то, что он, Гёте, ощущает всех героев Шекспира, даже его древних римлян, как чистокровных англичан – сыновей шекспировской Англии.
Я думаю, что он был прав. И более того, что подлинно современный герой литературы не устаревает ни с годами, ни даже со столетиями. И вот эта‑то «бессмертная» сущность «Макбета» и стала остро тревожить Блока в бурные годы истории. Впрочем, не его первого.
Без малого двести лет тому назад, в 1808 году, Август Шлегель в лекциях «О драматургии и литературе» уже почувствовал, что с великим злодеем Макбетом дело обстоит не так‑то просто. Шлегель (так же, как почти одновременно с ним Гёте) возложил ответственность за падение Макбета на дьявольские силы: Шлегель – на ведьм, Гёте – на «обер–ведьму леди Макбет».
«…Все преступления, на которые его толкает стремление обеспечить за собой плоды своего первого злодеяния, – пишет Шлегель, – не могут стереть с его образа печати прирожденного героизма… и все же, несмотря на отвращение, которое нам внушают его злодеяния, мы не можем отказать ему в сочувствии, мы оплакиваем гибель стольких благородных качеств, мы как бы против желания восхищаемся и в самом конце борьбою смелой воли с робкой совестью». А тридцать лет спустя Виссарион Григорьевич Белинский в статье о «Горе от ума» Грибоедова так говорит о том же герое: «Макбет Шекспира – злодей, но злодей с душой глубокой и могучей, отчего он вместо отвращения возбуждает участье: вы видите в нем человека, в котором заключалась такая же возможность победы, как и падения, и который при другом направлении мог бы быть другим человеком».








