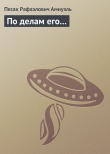Текст книги "Волшебно-сказочные корни научной фантастики"
Автор книги: Евгений Неелов
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
В описании Тускуба, бесспорно, чувствуется та же атмосфера, что и в лубочных изображениях Кощея. Выделяются те же значимые детали: борода, сутулость, запавшие глаза.
Появление Тускуба в некоторых сценах, оставаясь «научно-фантастическим», выглядит вполне сказочно: «Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась всматривающаяся внимательно голова Тускуба» (с. 206).
Итак, целый ряд внешних обстоятельств подкрепляет нашу мысль о похожести Тускуба на сказочного Кощея. Но гораздо важнее этих в общем-то косвенных внешних моментов глубокое внутреннее родство образа Тускуба и теперь уже не лубочного, а фольклорно-сказочного образа Кощея.
Тускуб – идеолог гибели, философ смерти. В этом смысле «Тускуб всего лишь олицетворяет реакционные силы на земле, против которых Толстой всегда решительно выступал».[444]444
Петелин В. В. Судьба художника: Жизнь, личность, творчество А. Н. Толстого. М, 1982, с 250.
[Закрыть] Известно, что, изображая Тускуба, Толстой полемизировал с О. Шпенглером и его теорией «заката Европы», но это «земное», социально-политическое, злободневное и по сей день содержание образа не только не противоречит сказочному, но опирается на него и тем самым становится обобщенным.
Дело в том, что сказочные персонажи типа Бабы-яги и Кощея связаны с древними представлениями о мире мертвых, поэтому генетически они выступают в сказке как «олицетворение смерти».[445]445
Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. с. 78.
[Закрыть] И не только генетически. Чтобы увидеть это, нам вновь надо сделать отступление в область фольклора и обратиться к образу фольклорно-сказочного Кощея, прежде всего к его имени, потому что в сказках «природа персонажа в ее этически неоднозначных проявлениях определяет его имя, замещающее внешнее описание, и это имя становится чрезвычайно значимым».[446]446
Неклюдов С. Ю. Особенности изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве. – В кн.: Ранние формы искусства М., 1972, с. 200; ср.: «Сказочный персонаж, носящий имя Кощей, по своим функциям соответствует общему значению исходного слова» (Морозова М. Н. Антропонимия русских народных сказок. – В кн.: Фольклор. Поэтическая система. М., 1977, с. 239).
[Закрыть] Само слово «Кощей» в фольклористике объясняется по-разному, но давно уже было отмечено, что «народная этимология привела имя Кощея в связь со словом “кость”»,[447]447
Миллер Вс. Кощей. – Энциклопедический словарь А. и И. Гранат Т. 25. М, 1913, стб. 336.
[Закрыть] и в этой народной традиции (для писателя особо значимой) такое толкование сразу же наводит на мысль о смерти, о чем-то подобном скелету (кости). Кощей, кроме того, обязательно именуется Бессмертным. Еще А. Н. Афанасьев в своих «Поэтических воззрениях славян на природу» отмечал, что «преданиям о смерти, постигающей Кощея, по-видимому, противоречит постоянно придаваемый ему эпитет “бессмертный”».[448]448
Цит. по: Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982, с. 283. – Загадочность облика Кощея отмечал в начале века известный исследователь русской и немецкой сказки Август фон Лёвис оф Менар. См.: Löwis of Menar. Der Held im Deutschen und Russischen Märchen, Jena, 1912, S.119.
[Закрыть]
Действительно, почему Кощей – бессмертный? А если он бессмертный, то почему он погибает? Думается, ответы на эти вопросы помогут понять специфику сказочного образа. Если говорить о натурфилософском аспекте волшебной сказки, то Кощей бессмертен не потому, что его смерть находится далеко (так иногда объясняют эпитет «бессмертный»[449]449
Марков А. Кащей. – Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. XVI. СПб., 1895, с. 479.
[Закрыть]), Кощей бессмертен, ибо он – сама смерть. Сказка по-своему мудро изобразила диалектику жизни и смерти. И А. Толстой эту диалектику хорошо чувствовал. Недаром в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» Семен Невзоров, главный персонаж повести характеризуется как «бессмертный», так как он «сам Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой» (с. 373), а Ибикус – «символ смерти» (с. 251).
Но почему же тогда Кощей Бессмертный все же погибает? Тут важна форма, в которой эта гибель изображается. Смерть Кощея – в яйце. В. П. Аникин пишет: «В яйце как бы материализовано начало жизни... Только раздавив яйцо, можно положить конец жизни... Прибегая к воображаемым средствам расправы с Кощеем, сказочники прекращали жизнь злого существа вполне понятным и наивным способом – зародыш раздавливался».[450]450
Аникин В. П. Русская народная сказка, с. 130.
[Закрыть] Такое объяснение и верно, и неверно. Верно, что этот сказочный эпизод объясняет своеобразие образа, но толкование В. П. Аникина оставляет непонятным главное: как связана гибель Кощея и гибель зародыша? Ведь, в конце концов, это же не зародыш Кощея.
Само яйцо в фольклорном сознании может быть соотнесено как со смертью, так и с жизнью, например, «яйца в обрядах связаны определенно как с культом мертвых... так и с плодородием».[451]451
Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982, с. 73; см. также: Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материале русских сказок). – В кн.: Труды по знаковым системам, т. 3. Тарту, 1967, с. 81–99.
[Закрыть] Это вполне понятно, ибо яйцо с точки зрения «народной этимологии» не совсем смерть, но еще и не совсем жизнь. И в том или ином конкретном тексте оно в зависимости от контекста может принимать разные значения. В сказочном эпизоде (и тут В. П. Аникин прав) яйцо – символ начала жизни. Но ведь именно этим и можно победить смерть: не самой жизнью, ибо «жить значит умирать»,[452]452
Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1982, с. 259.
[Закрыть] а возможностью жизни, вечной эстафетой ее передачи в поколениях. Поэтому зародыш не раздавливается, как полагает В. П. Аникин, не уничтожается в сказочном эпизоде, – он, так сказать, выпускается на волю.[453]453
Ср. мифологическое представление о возникновении мира из взрыва яйца, отсюда – «обычай свадебного разбивания яйца» (Топоров В. Н. Яйцо мировое. – Мифы народов мира. М., 1982, т. 2, с. 681).
[Закрыть] Рождается новая жизнь – и в этот момент Кощей-смерть умирает. Еще более наглядно это изображается в тех вариантах, где смерть Кощея находится не просто в яйце, но на кончике иглы, спрятанной в яйце. Игла, проткнувшая эмбрион, зародыш, мешающая развитию новой жизни, – вот на чем держится бессмертие Кощея. Иван-царевич удаляет, ломает иглу, и эмбрион получает возможность свободно развиваться, – этот момент и есть смерть Кощея. Недаром волшебная сказка заканчивается «свадьбой». Сказочники действительно наивно объясняли смерть бессмертного Кощея, но эта «наивность» стоит иной мудрости.
Вновь вернемся к «Аэлите». Тускуб – символ смерти, и сказочный Кощей – символ смерти. И тот и другой – хозяин мира, который можно понимать в известной степени как мир мертвых. И того и другого можно победить лишь любовью, рождением новой жизни. И того и другого побеждает собственная дочь, отдавая свое сердце пришельцу из иного – не мертвого, а живого – человеческого мира. Гор, предводитель восставших марсиан, недаром бросает в лицо Тускубу: «Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак» (с. 197).
Конечно, образ Тускуба не сводится к образу Кощея, мы всего лишь провели аналогию, но совпадает многое, вплоть до деталей. Например, в свете приведенных выше рассуждений о сказочной символике яйца, может быть, совсем не случайно, что космический аппарат Лося и Гусева, упавший на сухую почву Марса, последовательно называется на протяжении всего романа «яйцом»? Может быть, здесь сливается воедино научно-фантастическое (яйцевидная форма ракеты по К. Э. Циолковскому) и сказочное (яйцо несет смерть Кощею)? И сам полет может пониматься как путешествие в некое царство мертвых, недаром он изображается как «небытие», как состояние, близкое к смерти. А на Марсе, после обследования «мертвого дома» встретившись с его обитателями, герои первым делом просят еды, хотя у них полным-полно своих запасов (так и в избушке Бабы-яги герой просит, чтобы его покормили, и эта еда «имеет особое значение... Приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших»[454]454
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 54.
[Закрыть]).
Тема борьбы со смертью составляет ведущую тему «Аэлиты». Не только Лось, который не желает и не может примириться со смертью, но и не склонный к философствованию Гусев признается: «О чем ни думай – все к смерти вернешься» (с. 226). Эта тема раскрывается писателем в разных планах: социально-политическом (как тема борьбы с реакционной идеологией), научно-фантастическом (как тема творческой активности человека во Вселенной), психологическом (как тема внутренней жизни, борьбы Лося с отчаянием, порожденным смертью) и, наконец, сказочном.
Лось и Гусев, подобно сказочному герою, побеждают Кощея-смерть. Выдержав «предварительное» испытание, они, благодаря этому, проходят и «основное», связанное уже с ликвидацией первоначальной сказочной «недостачи». Гусев получает «полцарства» – став во главе восставших, заставляет Тускуба бежать из столицы. Лось получает «царевну» – как и в сказке, в которой обязательно должна быть «свадьба», Аэлита становится женой Лося. И то и другое – победа над Тускубом.
Но победа в самой высшей своей точке вдруг оборачивается поражением. Восставшие марсиане разбиты, Аэлита разлучена с Лосем. Сказка (в финальной части романа) перестала быть сказкой. Именно сказка в этот кульминационный момент говорит устами Гусева: «Всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое? ...Ну и пусть кожу с меня дерут! Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята!» (с. 223–224).
«Правильно» – это как в сказке, в которой не бывает никогда, чтобы «всех наших побили». А. Толстой достигает сильного художественного эффекта, разрушая автоматизм ожиданий, которые задает волшебно-сказочная композиция. Традиции волшебной сказки в романе, действительно, создают своеобразную инерцию ожидания счастливого конца. И вот он наступил – и все тут же разрушилось. Сказочные мотивы в финальных главах еще остаются (мотивы «погони», «мнимой смерти» Лося, описание полета «обратно», в «свой» мир, на Землю), но сказка ушла из романа.
Зачем это нужно писателю? Столкновение сказки с внесказочной реальностью помогает сформулировать один из итоговых выводов романа. После поражения Гор говорит: «Ах, мы упустили час. Нужно было свирепо и властно любить жизнь...» (с. 225). А немного позднее, блуждая в подземном лабиринте царицы Магр, Лось и Гусев вспомнят его слова:
«– Свирепо и властно любить жизнь... Только так...
– Вы про кого?
– Про них. Да и про нас» (226).
Это – ответ на многие вопросы, заявленные в «Аэлите».
Но писатель еще не ставит точку. Читатель, если не осознавший, то почувствовавший, что тональность романа изменилась, что автор говорит о событиях, продолжающихся в сущности, «после сказки», и соответственно настроившийся (тоже автоматизм ожидания, только иной, чем был), вновь будет обманут. На последней странице происходит чудо: сквозь немыслимые космические дали звучит «голос Аэлиты, любви, вечности...» (с. 246). Аэлита жива, и сказка возвращается. За этим финальным эпизодом все происшедшее после поражения на Марсе можно ретроспективно рассматривать вновь в сказочных категориях – как, скажем, третье, допускаемое сказочным каноном, «дополнительное» испытание героев или, что точнее, весь ход событий в романе рассматривать как аналог лишь одного «хода» сказки (т. е., по терминологии В. Я. Проппа, однократной реализации отмеченной выше морфологической схемы), а ведь «только соединение в два хода дает совершенно полную сказку».[455]455
Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 93.
[Закрыть] Конец первого хода в сказке очень часто катастрофичен (яркий пример дает «Царевна-лягушка»), герой теряет все, что приобрел, снова возникает ситуация «недостачи». Финал «Аэлиты» тоже возвращает нас к началу романа: Марс снова зовет Землю, и снова надо «лететь на зов», и снова Лося ждет на Марсе любовь, а Гусева – борьба за освобождение марсиан. Но все, что предполагает второй ход сказки, лежит уже за пределами «Аэлиты». Путь-дорога героев закончилась, но вернувшаяся в роман сказка не имеет конца. И это создает совершенно особое настроение: у читателя возникает ощущение, что еще не все закончено, сказка (цель) – впереди, и надо стремиться к ней, преодолевать все трудности, «свирепо и властно любить жизнь».
Надо ли говорить, как соответствует это ощущение («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью») и эпохе, в которую была создана «Аэлита», и настроению писателя, возвращающегося на родину, и активно-преобразовательному пафосу жанра научной фантастики?
И. А. Ефремов. «Туманность Андромеды»
Художественные открытия А. Н. Толстого, получившие развитие в 30-е годы прежде всего в творчестве А. Р. Беляева, в научной фантастике 40–50-х годов в известной степени были забыты. Утвердился и получил распространение принцип фантазирования «на грани возможного», который стал основным в так называемой теории «ближнего прицела». Эта теория предполагала, что все, о чем может и должен мечтать писатель-фантаст, «в большинстве своем либо находится уже на грани осуществления, либо представляется вполне осуществимым с точки зрения ближайших перспектив развития нашей техники. Это и увлекает мысль читателя...».[456]456
Лавренев Б. Реалистическая фантастика. – В кн.: Охотников В. На грани возможного. М., 1947, с. 5–6.
[Закрыть]
Роман И. А. Ефремова «Туманность Андромеды» оказался новаторским на фоне фантастики предыдущих лет. «1957 год положил начало новому этапу в развитии научно-фантастической литературы и оказался для нее решающим рубежом. Конечно, это только случайность, что роман Ефремова “Туманность Андромеды” вышел в свет в том же году, когда был запущен первый искусственный спутник. Но в таком совпадении есть и какая-то закономерность».[457]457
Брандис Е., Дмитриевский Вл. Через горы времени: Очерк творчества И. Ефремова. М.; Л., 1963, с. 125.
[Закрыть] Эти слова Е. П. Брандиса и В. И. Дмитриевского глубоко справедливы. Роман И. А. Ефремова очень точно и полно выразил свое время и одновременно (а, может быть, поэтому) оказался произведением, знаменовавшим переход научной фантастики от схем теории «ближнего прицела» к широким горизонтам мечты. Пожалуй, «Туманность Андромеды» – самое известное научно-фантастическое произведение в нашей литературе, ставшее даже своеобразным символом социального оптимизма и гуманистического пафоса советской научной фантастики. В этом смысле роман типичен, но в то же время он и оригинален, ибо в нем всесторонне отразилась творческая индивидуальность И. А. Ефремова – писателя и ученого.
Одна из сторон этой индивидуальности нас сейчас особенно интересует: первое впечатление от «Туманности Андромеды» поражает необычным «взаимодействием времен», при котором совершенный мир будущих коммунистических отношений оформляется по эстетическим законам, выработанным еще в эпоху античности. «В подвиги Геркулеса – совершеннолетия, – говорит один из главных героев романа, звездолетчик Эрг Ноор, – мне засчитали то, что я обучился искусству вести звездолет и стал астронавигатором».[458]458
Ефремов И. А. Туманность Андромеды. Звездные корабли (Б-ка современной фантастики в 15-ти т., т. 1). М., 1965, с. 137 (далее ссылки на это издание даются в тексте, в скобках указываются страницы).
[Закрыть] Подвиги Геркулеса и звездолет, Эллада, древняя Индия и Эра Великого Кольца – в их соприкосновении и рождается своеобразие фантастического мира будущего, изображенного писателем в «Туманности Андромеды». Для писателя одинаково важны как исторические, так и научно-фантастические аспекты. Не случайно в его исторических произведениях присутствуют элементы научной фантастики, а научно-фантастические всегда имеют историческую перспективу. Это уже было отмечено в критике. С одной стороны, «обращение Ефремова к исторической теме было подготовлено его профессиональным интересом не только к далекому прошлому Земли, но и к истокам человеческой цивилизации... Но по существу Ефремов остается фантастом и в исторических повестях».[459]459
Брандис Е., Дмитриевский Вл. Через горы времени, с. 101.
[Закрыть] С другой, – по словам А. Ф. Бритикова, «Ефремов соединяет в своих романах о будущем древний мир красоты с новым миром созидания».[460]460
Бритиков А. Ф. Целесообразность красоты в эстетике Ивана Ефремова. – В кн.: Творческие взгляды советских писателей. Л., 1981, с. 162; см. также: Дюгаева Л. И. Тема искусства в произведениях И. Ефремова. – В кн.: Труды Самаркандск. гос. ун-та им. А. Навои. Новая сер., вып. 238. Самарканд, 1973.
[Закрыть]
Перекличка эпох в «Туманности Андромеды» приводит к повышенной символичности романа. «Не случайно стремится Ефремов в далеком будущем проследить блистательные вехи единой праосновы великих культур Земли. Поэтому и отправляет гордое и свободное человечество в первую внегалактическую экспедицию звездолет под названием “Тантра”, ибо тантра – это тайная мудрость ведическая, которую, по преданию, принес на Землю сам всемогущий Шива... Конечно, книги Ефремова можно читать и любить, даже не подозревая о присущей им многозначной символике. Обширная эрудиция и писательское мастерство автора сделали бы их столь же популярными и без потаенной символической глубины. Миллионные тиражи переведенной на десятки языков “Туманности Андромеды” явно свидетельствуют о том, что успех романа меньше всего обусловлен императивными соответствиями типа “тантра” – тантризм. Но для проникновения в “творческую лабораторию” писателя они необыкновенно важны и совершенно необходимы для характеристики его личности».[461]461
Парнов Е. Галактическое кольцо. – В кн.: НФ. Сборник научной фантастики. Вып. 24. М., 1981, с. 215.
[Закрыть]
В «многозначной символике» романа отчетливо выделяется фольклорный пласт. Показательно, к примеру, проходящее через все произведение противопоставление света и тьмы, что подчеркнуто цветовой символикой. «Красный свет жизни» (с. 323) совершенно по-фольклорному[462]462
См. о фольклорном противопоставлении «светлый – темный», «красный – черный»: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие системы, с. 138–140.
[Закрыть] противопоставляется черному мраку неорганизованных форм материи и черноте «Темных веков» (с. 158). Это противопоставление обнаруживается и в описании космического путешествия звездолета «Тантра», и в повествовании об устройстве жизни на Земле, и в изображении обитателей Эпсилон Тукана, ландшафтов далеких, планет, и в рассказе о цветомузыкальной симфонии, наконец в самых различных, даже мельчайших деталях.[463]463
Например, на заседании совета, где рассматривается эксперимент по преодолению времени и пространства, закончившийся катастрофой, Мвен Мас, его инициатор, появляется в «темно-красной одежде» (с. 384). «Темное» и «красное», жизнь и смерть переплелись в его поступке, последствия которого будет обсуждать Совет.
[Закрыть] Часто автор подчеркивает эту символику: «Начальник экспедиции посмотрел на далекое солнце, светящее сейчас и на Земле. Солнце – вечную надежду человека, еще с доисторического его прозябания среди беспощадной природы. Солнце – олицетворение светлой силы разума, разгоняющего мрак и чудовищ ночи. И радостная искра надежды стала его спутником на остаток странствия.» (с. 275).
Изображение космоса как бескрайнего вселенского Океана также имеет символическую фольклорную окраску, ибо в нем отражается волшебно-сказочное уподобление океана миру. Архаическая символика, как отмечает Дарко Сувин, очевидна даже в названии романа: «Андромеда – это не только дальняя звездная туманность, но и плененная красота, которая спасена героем-астронавтом от чудовища классового эгоизма и бесконтрольной силы, олицетворенной в романе в образе быка...».[464]464
Suvin D. Ein Abriss der sowjetischen Science Fiction. – In: Science Fiction. Theorie und Geschichte. München, 1972, S. 322.
[Закрыть]
Важную роль в создании этой архаично-фольклорной символики, вызванной сопряжением прошлого и будущего, играют элементы фольклорной волшебной сказки. Более того, как мы постараемся показать, сказка определяет один из ведущих планов содержания и формально-поэтической структуры «Туманности Андромеды». При этом, однако, необходимо сразу же подчеркнуть, что И. А. Ефремов, как и В. А. Обручев, был сознательным противником сказочности в научной фантастике: «Теоретические взгляды Ефремова сложились в 50-х годах и существенно не менялись до конца его жизни. Научность он понимал как ученый, требуя твердых обоснований причин и следствий, заданных внутренней логикой прогностических или вероятностных допущений».[465]465
Брандис Е. Миллиарды граней будущего. Иван Ефремов о научной фантастике. – В кн.: НФ. Сборник научной фантастики. Вып. 26. М., 1981, с. 186.
[Закрыть] Об этом писатель не раз говорил в своих многочисленных выступлениях в печати,[466]466
См.: Багаев А. Материалы к библиографии И. А Ефремова – В кн.: Поиск-80. Свердловск, 1980, с. 357–366.
[Закрыть] подчеркивая отличие научной фантастики как от научно-популярной литературы, так и от сказки: «Некоторые исследователи стали находить корни научной фантастики у Рабле или даже у Гомера. На самом деле научная фантастика – порождение века, резко отличное от чистого вымысла, сказки или иных видов прежней литературы и ни с какими произведениями более древних времен не родственное».[467]467
Ефремов И. Предисловие. – В кн.: Ларионова О. Остров мужества. Л., 1971, с. 5
[Закрыть]
И. А. Ефремов безусловно прав, когда говорит о том, что «научная фантастика – порождение века»: как особый, самостоятельный жанр она возникла лишь в XIX в., поэтому нельзя растворять ее специфику в общем потоке литературы, использующей так или иначе фантастику. Но наряду с этим надо признать и то, что любой жанр возникает не на пустом месте, Е. П. Брандис справедливо замечает по поводу только что приведенной цитаты: «Проблема преемственности идей, ситуаций, сюжетов, образов, вопреки утверждению Ефремова, безусловно, затрагивает и научную фантастику... Качественно новое содержание и обновление формы не стирают генетических связей с прошлым».[468]468
Брандис Е. Миллиарды граней будущего, с. 196.
[Закрыть]
Однако нам нет смысла спорить с И. А. Ефремовым: его сознательную творческую установку лучше всего опровергают его же собственные книги. Следовательно, связь с архаическими явлениями искусства, в том числе и с фольклорной волшебной сказкой, в сущности, зависит не только от творческой сознательной установки писателя-фантаста, эта связь вызывается «памятью жанра». И если античность и эру Великого Кольца И. А. Ефремов сближал специально и сознательно, то структура волшебной сказки, чувствуемая в его романе, появилась, как и в «Плутонии» В. А. Обручева, вследствие самих условий жанра научной фантастики, не зависящих от субъективных намерений автора.
Обратимся к этой структуре. Где в романе присутствует сказка и какую роль она играет?
«Туманность Андромеды», по словам Т. А. Чернышевой, оказалась «последней “всеохватной” утопией... В романе был подведен своего рода итог многовековой работе человеческой мысли, закреплены в сознании читателей основные принципы Утопии. Может быть, в этом и состоит непреходящее историческое значение книги И. А. Ефремова, в этом секрет ее всемирного успеха».[469]469
Чернышева Т. А. О художественной форме утопии. – В кн.: Поэтика русской советской прозы. Иркутск, 1975, с. 34.
[Закрыть]
Анализируя художественную форму утопии, Т. А. Чернышева обнаруживает в ней некое изначальное противоречие: «Утопия всегда старалась соединить несоединимое: она непременно хотела стать романом и в то же время сохраниться как некая логическая система, то есть остаться теоретическим трактатом, так как автор любого утопического романа старался представить устройство Утопии в определяющих, главных признаках и охватить их как можно полнее».[470]470
Там же, с. 32.
[Закрыть]
Это противоречие между полной, подробной, но неизбежно статичной картиной будущего и динамическим романным началом, к которому стремится утопическое произведение, в романе И. А. Ефремова разрешается композиционно. В «Туманности Андромеды» можно выделить два сюжетных плана: первый, собственно утопический, – изображение будущего на Земле, и второй – повествование о приключениях экипажа звездолета «Тантра» во главе с Эргом Ноором в далеком Космосе. Оба эти плана важны и необходимы. Нельзя согласиться с мыслью о том, что главное в романе – это изображение будущего, «а все, связанное с космическими путешествиями и приключениями звездоплавателей, имеет лишь второстепенное значение».[471]471
Брандис Е., Дмитриевский Вл. Через горы времени, с. 149.
[Закрыть] Рассказывая об истории создания «Туманности Андромеды», И. А. Ефремов подчеркивал, что именно космическая линия произведения вела за собой весь роман: «Работа никак не спорилась, не двигалась с места. Я начал было отчаиваться: мой “экран” не вспыхивал внутренним светом, не “оживал”. Однако подспудная работа воображения, видимо, продолжалась. Однажды я почти воочию “увидел” вдруг мертвый, покинутый людьми звездолет, эту маленькую земную песчинку, на чужой далекой планете Тьмы, перед глазами проплыли силуэты медуз, на миг, как бы выхваченная из мрака, взметнулась крестообразная тень того нечто, которое чуть было не погубило отважную астролетчицу Низу Крит... “Фильм”, таким образом, неожиданно для меня начался с середины, но эти первые, самые яркие кадры дали дальнейший толчок фантазии (курсив мой. – Е. Н.), работа сдвинулась с места. Все эпизоды, связанные с пребыванием на планете Тьмы, я видел настолько отчетливо, что по временам не успевал записывать».[472]472
Ефремов И. А. На пути к роману «Туманность Андромеды». – В кн.: Вслух про себя. Сборник статей и очерков советских детских писателей. Кн. вторая. М., 1978, с. 172–173.
[Закрыть]
То, что было важно для автора, важно и для читателя. Космический план романа вносит необходимое напряжение и динамику в статичную картину будущего Земли и строится как повествование о «космическом» путешествии, которое в научной фантастике так же популярно, как и путешествие «географическое», знакомое нам по роману В. А. Обручева «Плутония». Мотив путешествия естественно влечет за собой мотив дороги, причем этот мотив в «Туманности Андромеды» разрабатывается писателем в волшебно-сказочном духе: в «космическом путешествии» проступают контуры некоего обобщенного сказочного сюжета.
Главы, относящиеся к разным планам, в романе чередуются, и получается, что утопическая ткань повествования о будущем «прошивается» красной нитью динамичного сюжета: утопия «прошивается» сказкой.
Содержание космического плана составляет рассказ о полете звездолета «Тантра» к далекой планете Зирда (чтобы выяснить причины ее молчания) и возвращении обратно. Перед нами типичный сказочный путь «туда и обратно» – путь в некий «чужой» мир и затем возвращение в «свой». Только сказочная схема претерпевает здесь инверсию: писатель начинает повествование о приключениях Эрга Ноора и его друзей с рассказа о пребывании их в «чужом» мире, у Зирды (с этого, собственно, и начинается роман) и затем подробно повествует не о пути «туда» (это вынесено в предысторию действия), а наоборот, о пути «обратно», в «свой» мир, на Землю. Инверсия сказочной схемы понятна и оправданна: ведь пребывание сказочного героя в «чужом» мире – это кульминация сказочного действия (ср. с признанием И. А. Ефремова: роман «неожиданно для меня начался с середины»). Вот с этой кульминации и начинает свое повествование писатель, чтобы сразу дать предельный динамический импульс действию, сообщить сюжету энергию, необходимую для преодоления статичности утопической картины будущего.
Планета Зирда – впечатляющий научно-фантастический аналог нечеловеческого, «чужого» мира, мира смерти: она мертва, погублена радиоактивными излучениями в ходе опасных и бесконтрольных опытов. Писатель находит очень выразительную и вместе с тем фольклорную деталь, сразу создающую образ «чужого», враждебного жизни мира: «Внизу продолжала расстилаться бархатистая чернота. Быстро увеличенные снимки показали, что это сплошной ковер цветов, похожих на бархатно черные маки Земли. Заросли черных маков протянулись на тысячи километров, заменив собой все – леса, кустарники, тростники, травы» (126). Траурный цветок мак – «растение с богатыми мифологическими ассоциациями».[473]473
Судник Т. М., Цивьян Т. В. Мак в растительном коде основного мифа. – В кн.: Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981, с. 302.
[Закрыть] Фольклористы выделяют «основной сюжет, на котором строится символика мака... Мак произошел из крови убитых героев, поэтому, в частности, маки растут на поле битвы».[474]474
Там же.
[Закрыть] Эта фольклорная символика делает наглядной и зримой научно-фантастическую картину гибели планеты, на которой остались только «покрывала черных маков – единственных растений, устоявших против радиоактивности» (с. 128). Сказочное и научное здесь органически сливаются воедино.[475]475
Так, профессор Института атомных болезней Мигито Игимару, переживший атомную бомбардировку Нагасаки, вспоминает: «Как фантастически цвели потом цветы! Город лежал в цветах, как в похоронном венке...» (Симонов В. Когда пациент – все человечество. – Литературная газета, 7 апреля 1982 г.). Писатель знал «по специальным отчетам, связанным с изучением последствий атомного взрыва в Хиросиме, что растения в условиях интенсивной радиации способны давать энергичную... мутацию» (Ефремов И. А. На пути к роману «Туманность Андромеды», с. 175), но выбор именно фольклорного мака помог ему создать поистине грозный символический образ.
[Закрыть]
Итак, инверсия обобщенной сказочной сюжетной схемы в романе И. А. Ефремова обусловлена теми композиционными задачами, которые решал писатель, создавая свою «всеохватную» утопию. И рассказ о полете «Тантры» – путешествие «обратно», в «свой» мир. Но – и это надо подчеркнуть – сказочная логика столь неизбежно определяет собой научно-фантастическую путь-дорогу, что рассказ о возвращении Эрга Ноора и его товарищей «обратно» оказывается, в свою очередь, построенным по законам уже не инверсированной, а прямой сказочной схемы. Герои по пути домой вновь попадут в «чужой», нечеловеческий мир – мир Железной звезды, вступят с ним в борьбу и только после победы вернутся домой. В этом можно легко усмотреть логику пути «туда» (мир Железной звезды) и «обратно» (собственно возвращение на Землю). И вот здесь-то и проявляются все уже знакомые нам качества и свойства сказочной пути-дороги.
Прежде всего космическая дорога, как и сказочная, создается путем, слита с ним, путь в космосе можно проложить где угодно. Вместе с тем в космической пути-дороге обнаруживается и сказочная неопределенность, причем на двух уровнях. Во-первых, буквально: «Точная ориентировка курса на столь далекие расстояния была невозможна» (с. 120). Во-вторых, как в сказке, космическая дорога может быть длинной, а путь – коротким. Неопределенность пути-дороги в этом смысле наглядно раскрывается в рассуждениях героев о том, как страшна «судьба каждого звездолета, который не может идти с субсветовой скоростью. Между ним и родной планетой сразу встают тысячелетия пути!» (с. 136). Поэтому и не решается Эрг Ноор убавить скорость своего корабля: «Убавить скорость и... потом без анамезона... полтора парсека со скоростью древнейших лунных ракет? Через сто тысяч лет приблизимся к нашей солнечной системе» (с. 118). Наконец, готовность героев отправиться в путь по бесконечным просторам Вселенной порой весьма и весьма напоминает сказочное «куда глаза глядят»:
«– Но куда? – вдруг твердо спросил Эрг Ноор, пристально глядя на девушку.
– Куда угодно, хоть... – она показала на черную бездну между двумя рукавами звездной спирали Галактики» (с. 135).
Путь-Дорога героев в «чужой» мир Железной звезды отмечена и эффектом ступенчатого сужения образа: сначала «Тантра» попадает в странное черное облако, потом в этом облаке обнаруживается планетная система, потом следует посадка на планету, где герои находят давно исчезнувший земной звездолет «Парус» и проникают внутрь него. За научно-фантастическим антуражем планеты Железной звезды обнаруживается волшебно-сказочная структура «чужого» мира. Этот «чужой» мир строится как диаметрально противоположный «своему». Здесь все наоборот: не жизнь, а смерть; не свет, а вечный мрак; не цветы, а «антицветы» («скопище черных неподвижных шестерней выглядело зловеще» (с. 192), ср. черные маки Зирды); люди здесь не могут ходить, а вынуждены передвигаться в механических «скелетах»; наконец, «в этом черном мире и звуки тоже черные, неслышимые» (с. 275). Недаром в романе появляется открытое противопоставление «своего» и «чужого» миров: «Мгновенно маленькая кучка людей затерялась в бездне тьмы. Мир железного солнца подвинулся вплотную, как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни...» (с. 192); на погибшем «Парусе» люди уже «не охраняют свой маленький мирок от чужого» (с. 192).
Путь-дорога ведет героев через мир смерти, и здесь даже мельчайшие особенности волшебно-сказочного первообраза получают (в силу рациональности научной фантастики) конкретно-вещественное выражение. Как отмечает М. Люти, на пути героя в сказке, как правило, оказывается «видимым резко и точно... лишь то, что входит в плоскость действия, лишь то, что пересекает ярко освещенный путь героя».[476]476
Lüthi M. Märchen. Stuttgart, 1964, S. 29.
[Закрыть] В «Туманности Андромеды» это даже буквально так: «Скрещенные лучи прожекторов распахивали узкую дорогу между стенами тьмы» (с. 189); «...луч прожектора проложил яркую дорогу» (с. 191). Буквальная реализация этой сказочной закономерности характерна для всей космической фантастики – в ней единственно видимым, но зато «видимым резко и точно», оказывается лишь то, что, пересекая путь героев в космосе и на чужих планетах, попадает на экраны космических кораблей, вездеходов, различных оптических устройств и тому подобного.
Как и в сказке, Эрг Ноор и его товарищи не выбирают путь, а он сам выбирает героев (Железная звезда притянула к себе «Тантру», случайно не хватило горючего – анамезона и т. д.), герои слиты со своим путем, исчерпываются им. Недаром Эрг Ноор заявляет: «Моя жизнь на Земле была лишь короткими остановками на звездных дорогах. Ведь я родился на звездолете» (с. 137). Поэтому выражение «жизненный путь» для него, как и для сказочного героя – не метафора: космические путешествия и составляют его судьбу. На этом пути он находит, как и сказочный герой, свое счастье – счастье исследователя тайн Вселенной. И еще – Низу Крит.
Сказочная логика требует, чтобы «царевна» и «свадьба» заканчивали путь героя. Поэтому, хотя в результате отмеченной выше инверсии сказочной схемы о любви Низы Крит мы узнаем в начале действия, сказочная последовательность далее восстанавливается: на планете мрака Эрг Ноор теряет Низу. Она спасла его от смерти, закрыв собой от удара страшного чудовища – черного креста, но сама осталась недвижимой. Низу помещают в прозрачный cилликоловый саркофаг. Это – безусловно сказочная ситуация «временной смерти» героини, названная В. Я. Проппом «красавица в гробу»[477]477
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 110–113.
[Закрыть] (в литературе о научной фантастике уже отмечалась родственность мотива сказочной «временной смерти» или подобного смерти «очарованного еда» и научно-фантастического мотива «оживления»).[478]478
Гуревич Г. Карта страны фантазий. М., 1967, с. 20–21. – К сожалению, это сравнение Г. Гуревич проводит не очень корректно: с одной стороны, речь идет о пушкинской «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», с другой – о романе Ю. Долгушина «Генератор чудес». Не говоря уже о несопоставимости художественного уровня произведений (которую следовало бы предварительно как-то оговорить), в этом сравнении надо брать первичный – не литературно-сказочный, а фольклорный – источник мотива «временной смерти». Сама же мысль Г. Гуревича представляется плодотворной.
[Закрыть]