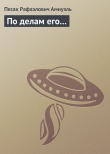Текст книги "Волшебно-сказочные корни научной фантастики"
Автор книги: Евгений Неелов
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Лес – непременный компонент образной системы волшебной сказки. Популярность этого образа, очевидно, объясняется той ролью, которую играл лес в практической жизни человека на протяжении огромных исторических периодов. Однако прямые параллели (лес в сказке и лес в реальной жизни), как бы соблазнительно они ни выглядели, все-таки являются недопустимым упрощением.
Так, например, известное фольклорное уподобление леса горе иногда объясняется следующим образом: «Синонимичность слов “гора” – “лес” могла возникнуть только в условиях засушливого климата, в степной зоне, где лес встречается исключительно на склонах гор, на которых меняются условия увлажненности».[231]231
Мурзаев Э. М. Гора – Лес. – Русская речь, 1967, №1, с. 81.
[Закрыть] Это объяснение, подкупающее своей естественностью, можно было бы принять, если бы не многочисленные свидетельства о том, что «семантический переход “гора” – “лес” можно считать одним из универсальных семантических сдвигов, характерных не только для славянских, но и для других индоевропейских, угро-финских, тюркских и монгольских языков».[232]232
Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969, с. 73; ср. также: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 12.
[Закрыть] Если отождествление «лес – гора» известно в самых разных традициях, то условиями засушливого климата, в ряде этих традиций отсутствующего, его не объяснишь. Часто же прямые параллели между сказочным лесом и реальным ландшафтом просто отсутствуют. Л. Рёрих, указывая на важность образа Леса в немецких сказках, делает характерное замечание: «Это, конечно, не служит свидетельством изобилия немецких лесов: например, едва ли среди народов, у которых бытует сказка, найдется такой лесной народ, как индейцы тропической Южной Америки, и все же играет там лес несравненно меньшую роль, нежели в немецких сказках. Для индейцев Южной Америки он – нормальный ландшафт, в то время как для немцев он означает дикое окружение возделанной земли».[233]233
Röhrich L. Märchen und Wirklichkeit. Wiesbaden, 1964, S.201.
[Закрыть]
Примеры подобного несоответствия в различных традициях, в том числе и славянской, можно было бы многократно умножить, и все они в целом свидетельствуют о том, что популярность образа леса в сказке объясняется не только (и не столько) географическим расположением территорий, на которых жили носители сказочной традиции, сколько самой структурой сказки, той ролью, которую играет образ леса, его художественной функцией.
«Лес в сказке вообще играет роль задерживающей преграды. Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это своего рода сеть, улавливающая пришельцев», – так определяет В. Я. Пропп художественную функцию леса.[234]234
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 45.
[Закрыть] Эта функция объединяет все возможные изображения леса, который оказывается многоликим. Собственно, можно выделить следующие облики леса в волшебной сказке:
1. Лес «хозяйственный» (он наиболее близок к лесу реальному). Сказочные персонажи в лесу охотятся, заготавливают дрова и т. д.
2. Таинственный, дремучий лес. Он может быть добрым (в лесу герой встречает помощника, лес задерживает врага) и очень часто злым (особенно ярко это видно в известном эпизоде превращения злых существ в лужайку, мураву-траву, ягоды, и т. д. с целью погубить сказочного героя).
Необходимо подчеркнуть, что в любом случае в образе Леса сохраняется оттенок опасности для героя, связанный с тем, что Лес (добрый ли, злой ли) – всегда преграда. Даже, казалось бы, нейтральный в этом смысле «хозяйственый» Лес при ближайшем рассмотрении оказывается опасным: «...Жило три брата. Они справились суков рубить. Они рубили долго ли, коротко, приходит ночь, им надо дорубить. Схватились, у них огня нету. – Ставайте, братья, в ели посмотреть где-нибудь огня! Насмотрели в маленькой избушке в лесях огонек. Старший брат говорит: – Я пойду просить огня. Приходит в эту избушку, в этой избушке человек, голова на лавке, ноги на пороге...».[235]235
Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. М.; Л., 1961, №18.
[Закрыть] Здесь лес, при свете дня крестьянский, «хозяйственный», ночью разительно меняется, точнее, обнаруживает свою опасную сущность, что хорошо объясняется общефольклорной символикой ночи. В случае, когда изображается добрый лес, защищающий героя, тоже часто подчеркивается значение опасности: «Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, бросила гребешок: сделался лес такой дремучий да страшный!» (Аф., №103). Очень выразительно звучит эпитет «страшный», и в данном контексте он отражает восприятие леса-помощника не только бабой-ягой, но прежде всего героиней-девочкой, да и самим рассказчиком тоже: лес «страшен» и для тех, кого он защищает.
Все облики леса, отмеченные выше, в сказке очень часто существуют в единстве, представляя собой разные грани образа. В целом образ леса, являясь «опасной зоной» для героя, служит границей между «своим» и «чужим» мирами в сказке. Если исходить из того, что «на центральное место в сказке выступает преломленная в ценностном плане магистральная мифологическая оппозиция свой/чужой»,[236]236
Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного описания волшебной сказки, с. 102.
[Закрыть] то тогда нужно признать, что образ леса оказывается зоной, нейтрализующей эту оппозицию, равно опасной как для героя, так и для его противника. Одновременно лес как бы одаривает героя: здесь герой получает волшебные знания, чудесного помощника, иногда сам обретает способность к чудесным превращениям и тем самым оказывается подготовленным для проникновения в «чужой мир».
Чем объясняется устойчивая атмосфера опасности, которой в сказке всегда окружается образ леса, начиная с мифологических времен и вплоть до начала XX в.? Инициации и мифологические представления о смерти, которые В. Я. Пропп обнаруживает в качестве древнейшей основы образа сказки безусловно, рождали это ощущение опасности леса. Оно позднее подкреплялось средневековой концепцией пространства, в которой лес находился вне «благоустроенного», «культурного» мира.[237]237
См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 38, 68.
[Закрыть] Наконец, как подчеркивает С. А. Токарев, для крестьянского сознания «лес был действительно больше врагом, чем средством существования», в чем сказалась «тысячелетняя традиция земледельческого народа».[238]238
Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX века. М.; Л., 1957, с. 60.
[Закрыть]
Структуру «опасного» леса в сказке образуют многочисленные сопоставления и противопоставления. Отметим только важнейшие.
Лес устойчиво связывается с женским началом. Типичный его обитатель, который может рассматриваться как персонифицированный образ леса – Бага-яга. Она тоже может быть и доброй, и злой, но всегда, как и лес в целом, оказывается существом «опасным», даже когда играет роль помощника.[239]239
См.: Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки, с. 135, прим. 13. – Когда хозяином леса оказывается мужской персонаж (Морозко, Медведь и т. д.), а героиней – девушка, мы имеем дело с обращенными вариантами.
[Закрыть] Связь леса (дерева) с образом женщины уходит своими корнями в древнейшие мифологические представления.
Лес, как уже упоминалось выше, может уподобляться горе. Список мест, в которых находится избушка Бабы-яги (как правило, это лес), представленный в монографии Н. В. Новикова,[240]240
Там же, с. 136–137.
[Закрыть] можно дополнить еще одним – избушка Бабы-яги находится на высокой горе (Аф., №178). С точки зрения тождества «лес – гора» Змей Горыныч может интерпретироваться как лесное существо, что усиливает «опасный» характер образа.
Лес обычно противопоставляется дому. «Это противопоставление может быть истолковано в социально-экономическом плане как противопоставление освоенного человеком, ставшего его хозяйством, неосвоенному им».[241]241
Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, с. 168.
[Закрыть] Это общефольклорное противопоставление в сказке особо подчеркнуто тем, что в дремучем лесу дома быть не может. Нельзя согласиться с имеющимися в фольклористике утверждениями о том, что избушка Бабы-яги является домом. Она изображается как антидом: «Забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские, с глазами, вместо верей у ворот – ноги человечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами» (Аф., №104). Когда же избушка изображается как нормальное жилище, на поверку оказывается, что в ней скрывается ловушка. В. Я. Пропп подчеркивает, что «эта избушка – сторожевая застава»,[242]242
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 47.
[Закрыть] говоря современным языком, – своеобразная проходная будка на границе миров. Можно ли жить в проходной будке? Собственно, герой сам заявляет: «Мне не век вековать, а одна ноць ноцевать»,[243]243
Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки, с 138.
[Закрыть] тем самым отвечая на этот вопрос. Иногда избушка вообще изображается как не дом, а, например, дуб.[244]244
Там же, с. 136.
[Закрыть]
«Большой дом» в лесу тоже на поверку оказывается антидомом, хотя это менее заметно, чем в избушке Бабы-яги. В. Я. Пропп, посвятивший «Большому дому» специальную главу своей монографии, подчеркивает следующие характерные особенности «Большого дома»: этот дом, во-первых, огромен, во-вторых, огражден так, что «ни войти во двор, ни заехать добрым молодцам», в-третьих, он многоэтажен и все отверстия в нем (окна и двери) тщательно замаскированы.[245]245
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 98–100.
[Закрыть] Все эти особенности говорят о «ненастоящей», «неживой» природе этого Большого дома: «Не-дом, неправильный (или особенный) дом – это дом, в котором либо нет, либо слишком много отверстий».[246]246
Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира. – В кн.: Труды по знаковым системам, т 10. Тарту, 1978, с. 76.
[Закрыть] Именно так изображается в сказке «Большой дом». Попасть в него часто можно лишь через окно верхнего этажа. Но, как отмечают фольклористы, «через окно осуществляется символическая связь с миром мертвых»,[247]247
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983, с. 141.
[Закрыть] поэтому, например, «основная функция окна в плаче – нерегламентированный вход в дом, которым, в частности, пользуется смерть».[248]248
Невская Л. Г. Семантика дома и смежных с ним представлений в погребальном фольклоре. – В кн.; Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982, с. 100.
[Закрыть] Если в обрядовом плаче в дом, где находятся живые, через окно проникает смерть, то в волшебной сказке перед нами обращенная ситуация: герой, представляющий мир живых, через окно попадает в «Большой дом», связанный с представлениями о мире мертвых.
Итак, избушка Бабы-яги (а также и другие «дома» в лесу) – это антидома, они не противопоставлены лесу, они его часть, причем зачастую самая опасная. Поэтому противопоставление «лес – дом» в волшебной сказке имеет смысл только по отношению к крестьянской избе героя. В целом же лес противопоставляется саду.
Это противопоставление возникает уже на уровне лексики: темный, дремучий лес – чудесный сад. Лес связан с миром мертвых, сад – с миром живых (недаром в нем часто находятся молодильные яблоки и живая вода). Вместе с тем сад – это освоенный лес. Поэтому отмеченные выше сопоставления, характерные для леса, остаются актуальными и для сада, но приобретают противоположные значения. Сад оказывается как бы зеркальным отражением леса.
Сад, так же, как и лес, связан с женским началом. Но если хозяйкой леса является Бага-яга (ведьма, старуха и т. д.), то Сад принадлежит молодой девушке, царевне, Елене Прекрасной. Еще А. Н. Веселовский, разбирая формы психологического параллелизма, отмечал, что «девушке отвечает в параллельной формуле образ сада».[249]249
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 145.
[Закрыть]
Сад, как и лес, связан со сном. Но если в лесу сон охватывает героя, попавшего в «опасную зону», то в саду засыпает не гость, а его хозяйка. Если в лесу волшебной трансформации подвергается герой, то в саду в результате посещения его героем трансформацию скорее претерпевает хозяйка этого саде. Если в лесу находится избушка, лишь по видимости называемая домом (она – антидом или псевдодом), то в саду стоит, как правило, дворец, так сказать, сверхдом. Любопытно отметить, что когда обыкновенный крестьянский дом в сказке оказывается в Лесу, то его обязательно окружает сад (например. Аф., №107).[250]250
Невозможность в сказке расположения крестьянского дома в Лесу, необходимость окружения его садом не случайна. Структура сказки, пусть и опосредованно, отражает реальный опыт общения с лесом: «Человек фактически стремился скомбинировать черты как степей, так и лесов, создав свое окружение, которое можно назвать “опушкой леса”. В самом деле, если человек поселяется в степи, он выращивает деревья вокруг своих домов... Сходным образом, поселяясь в лесу, он замещает большую часть лугами и пахотными землями» (Одум Е. Экология. М., 1968, с. 157–158. – Курсив мой. – Е. Н.) Создав свое окружение в жизни, человек создал гомоморфное ему в сказке.
[Закрыть] Если лес открыт (герой попадает в него без особых усилий), то сад – закрыт, окружен изгородью, забором, стеной, городом. В этом можно усмотреть обращенный вариант тождества «лес – гора», («сад – гора»). Наконец, сад как и лес, – «опасное» место для героя. Но степень этой опасности оказывается различной. Опасность леса – смертельна, сада – нет.
Таким образом, лес в сказке является достаточно сложным и подробно разработанным элементом ее художественной структуры.
Вместе с тем давно уже была отмечена краткость и лапидарность собственно изображения леса в сказке, сводившегося к «двум-трем резким чертам».[251]251
Елеонская Е. Великорусские сказки Пермской губернии: Влияние местности на сказку. – Этнографическое обозрение, 1915, №1–2, с. 39.
[Закрыть] Эта лапидарность образа вовсе не противоречит его сложности, как может показаться на первый взгляд. А. Н. Веселовский подчеркивал: «...что до нас дошло формулой, ничего не говорящей воображению, было когда-то свежо и вызывало ряды страстных ассоциаций».[252]252
Веселовский А. Н. Историческая поэтика, с. 92.
[Закрыть] Все то содержание образа леса, о котором шла речь выше, как бы спрессовано, сжато в формулах «темный лес», «дремучий лес». Более того, попытка «раскрутить» эти формулы, дать художественно развернутый образ Леса, как правило, приводит если не к уничтожению, то к переосмыслению его содержания, в частности, к превращению сказочно-символического образа леса в картинку пейзажа, психологическую картину реального леса, что порой заметно в поздних записях волшебных сказок.[253]253
См., напр.: Матвеева-Арефьева Р. П Психологические элементы в волшебных сказках Магая. – В кн.: Русский фольклор Сибири. Материалы и исследования. Вып. 1. Улан-Удэ, 1971, с. 114–115.
[Закрыть]
В этом процессе трансформации сказочной символики Леса в более или менее психологически наполненный пейзаж отражается, пожалуй, один из самых распространенных способов переработки сказочного образа в литературе, приводящий к своеобразному «растворению» фольклорного первообраза в ткани литературного произведения. Вместе с тем даже «растворенный», фольклорный первообраз сохраняет потенциальную способность к возрождению (уже вторичному) фольклорной символики и – что более важно – ее развитию и возможному дальнейшему переосмыслению с тех или иных авторских позиций.
Литературная судьба фольклорно-сказочного леса (и контрастно противопоставленного ему сада) связана прежде всего с новой социально-бытовой и исторической трактовкой этого образа, которая приводит к расшатыванию, а иногда и к разрушению жесткой системы сопоставлений и противопоставлений, составляющих основу фольклорного первообраза.[254]254
Это можно увидеть уже в рамках самого фольклора, если обратиться к жанрам, условно говоря, более поздним, нежели волшебная сказка. В. И. Еремина, говоря об очень популярном в народной лирической поэзии образе сада, отмечает, что «Зеленый сад – образ очень большой емкости, он не вызывает строго постоянных ассоциаций, а потому не мог стать в народных песнях символом» (Еремина В. И. Поэтический строй русской народной лирики. Л., 1978, с. 123).
[Закрыть]
Социально-бытовое переосмысление сказочного образа Леса, например, легко обнаруживается в поэме Некрасова «Мороз, Красный нос», где структура фольклорной сказки о Морозке соотносится с законами (и беззаконием) реальной жизни крестьянина XIX в. и соответственно переосмысливается. С других позиций социально-бытовое освоение сказочного леса осуществляет в своих пьесах А. Н. Островский. Если в «Снегурочке» лес предстает в формах, весьма близких к первоначально-сказочным, то в пьесе «Лес» уже само ее название «символизирует ту темную, непролазную глушь, в которой живут герои комедии, и те темные дела, которые они творят в этой глуши».[255]255
Штейн А. Л. Мастер русской драмы. М., 1973, с. 223–224.
[Закрыть] Здесь появляется художественная семантика, отсутствующая в сказке, хотя фольклорно-сказочная атмосфера леса как «опасной зоны», враждебной человеку, пусть и в снятом виде, но остается.
Постепенно наряду с сохранением фольклорно-сказочного образа леса (и связанного с ним образа сада) в литературе формируется новая, собственно литературная трактовка этих взаимосвязанных образов. Она оказывается диаметрально противоположной трактовке сказочной. Попробуем сравнить два, пожалуй, самых известных сада классической русской литературы – чеховский «Вишневый сад» и блоковский «Соловьиный сад». При всей сложности символики вишневого сада, корни ее явственно проступают в пьесе: «Образ если и не заимствован из русского фольклора, то угадан писателем, обладающим применительно к народной эстетике абсолютным слухом».[256]256
Медриш Д. Н. Сюжетная ситуация в русской народной лирике и в произведениях А. П. Чехова. – В кн.: Русский фольклор, т. XVIII. Л., 1978, с. 94.
[Закрыть] Как и сказочный сад, сад чеховский являет собой истинную ценность. «Соловьиный сад» А. Блока, напротив, выглядит полемически на фоне народной сказки: «Человеческая душа чувствует себя осиротевшей, обездоленной, заброшенной в этом саду...».[257]257
Соловьев Б. Поэт и его подвиг: Творческий путь Александра Блока. М., 1968, с. 572.
[Закрыть] Сад в поэме А. Блока – это ценность, поставленная под сомнение.
Символика леса, как и символика сада, тоже может вбирать в себя противоположные сказочному фольклору значения. Сказочный опасный лес, в котором человека подстерегают различные испытания, который является преградой на его пути, превращается в лес добрый, светлый, мирный (а чудесный сказочный сад оборачивается коварной ловушкой).[258]258
Этот процесс происходит и в самом жанре сказки, усвоенном литературой, что особенно подчеркивает его закономерность. Лес литературной сказки и лес сказки фольклорной оказываются контрастно противоположными друг другу. В литературной сказке, например, о Винни-Пухе, «на первый план выходит то, что делает сказочный милновский лес подлинно идиллическим, тихим, глубоко мирным и теплым местом» (Липелис А. Сказка и реальный мир. – Детская литература, 1974, №1, с. 44).
[Закрыть]
Эволюция образа леса в литературе XIX–XX вв. – это история развития и борьбы двух его трактовок: фольклорной (лес – «опасная зона») и собственно литературной (значение опасности снимается). В литературе XX в. преобладающее влияние принадлежит собственно литературной трактовке. Литература, переработав фольклорно-сказочный образ леса, создает на его основе свой собственный глубокий символ. Исторический процесс создания этого символа в русской литературе завершается в романе Л. Леонова «Русский лес», где лес – в полном объеме разработанный символ народной жизни в ее историческом движении.[259]259
Суммированную оценку восприятия леоновского образа Леса в критике см.: Финк Л. Уроки Леонида Леонова. М, 1973, с. 227–229.
[Закрыть] В романе Л. Леонова имеется и Сад – скрытая за высоким забором с гребенкой ржавых гвоздей усадьба Чередилова, одного из антиподов Вихрова. Этот сад – полная противоположность и сказочному саду, и леоновскому лесу. Он – ценность ложная. Любопытно отметить, что в романе возникает еще одно противопоставление: Поля говорит о людях, которые должны были хотя бы одну вишенку посадить, и сразу же читатель вспоминает чеховскую мечту о новом вишневом саде. Е. В. Старикова, анализируя символику романа, подчеркивает нравственную дистанцию, разделяющую «Полину вишенку и чередиловский крыжовник (прямой потомок крыжовника чеховского – образ, использованный Леоновым уже в 1928 г. в “Провинциальной истории” в качестве символа мещанского самоуслаждения»).[260]260
Старикова Е. Леонид Леонов. Очерки творчества. М., 1972, с. 281.
[Закрыть]
Образ леса как символ народной жизни – это образ, противоположный сказочному «опасному» лесу (что, естественно, не исключает его общефольклорной окраски).[261]261
Поэтому, если быть точным, нельзя, говоря о романе Л. Леонова, согласиться с характеристиками типа «сказочный вихровский лес», «лес... приобретает черты сказочного чуда» (Старикова Е. Леонид Леонов, с. 282). Леоновский лес безусловно фольклорен, но не сказочен.
[Закрыть]
Думается, подобная, противоположная фольклорной, трактовка образа в литературе, по крайней мере новейшей, является доминирующей. Она впитывает в себя также экологическую проблематику, связанную с задачей охраны леса. Природное и социальное, как в романе Л. Леонова, сливаются воедино.
Вместе с тем в современной литературе можно встретить и другую тенденцию – к возрождению волшебно-сказочного образа Леса, и тенденция эта характерна прежде всего для жанра научной фантастики.
Конечно же, в научной фантастике встречается лес в привычных литературных формах – как фон действия, пейзаж, символ народной жизни, природно-хозяйственная проблема,[262]262
Выразительный пример последнего дает экологическая фантастика, для которой показателен, к примеру, рассказ известного советского фантаста С. Гансовского «Спасти декабра», повествующий о гибели венерианского леса вследствии неразумного вмешательства землян-колонистов.
[Закрыть] но, начиная, пожалуй, уже с Г. Уэллса возникает образ леса, типологически (а, возможно, в некоторых случаях и генетически) связанный с фольклорной волшебной сказкой.
Прежде всего научно-фантастический лес, как и лес волшебно-сказочный, – это некая «опасная зона», испытывающая, проверяющая героя. Изображение опасного леса можно встретить почти у любого писателя-фантаста. Причем, в любом случае, изображается ли экзотический тропический лес, как в рассказах Г. Уэллса, или инопланетные леса в космической фантастике, леса далекого прошлого в произведениях, связанных с сюжетом «путешествия во времени»; наконец, различные типы фантастических, живых и мертвых, прыгающих и поющих, искусственных и разумных, и прочих лесов, – в любом случае подчеркивается загадочность, таинственность, более того, какая-то чуждость человеку такого леса. Словом, подчеркивается то, что заключено в сказочной формуле «темный лес».
Это типологическое сходство и создает возможность для появления в научно-фантастическом лесу всех тех особенностей и свойств волшебно-сказочного леса, которые были отмечены выше. Вследствие присущего научной фантастике рационализма эти свойства и особенности проявляются в очень резкой (без полутонов) форме. Например, как уже говорилось, сказочный лес связан с миром мертвых. В научной фантастике это качество фольклорного образа воплощается в буквальном изображении различного рода мертвых лесов. Таковы металлические леса в романе С. Снегова «Люди как боги», романе С. Лема «Непобедимый», заросли черных маков на планете Зирда в романе И. А. Ефремова «Туманность Андромеды». Волшебно-сказочный мотив сна в лесу различии в часто встречающемся изображении сонного, дурманного состояния героя в научно-фантастическом лесу, рационально объясняемого ядовитыми испарениями, усталостью, катастрофой и т. д. Фольклорное уподобление леса горе, а также трансформированный мотив связи леса с женским началом определяют, например, развитие действия в научно-фантастическом романе В. Я. Брюсова «Гора Звезды». Значение же опасности леса передается в самых различных, поистине необозримых формах, из которых стоит отметить как особо выразительные своеобразный мотив «подглядывания за героем в лесу»[263]263
Вот только один пример: «Они миновали полосу белого опасного моха, потом красного опасного моха, снова началось мокрое болото... а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое существо и провожало их глазами на стебельках» (Стругацкие А. и Б. Улитка на склоне. – В кн.: Эллинский секрет. Л., 1966, с. 415).
[Закрыть] и чисто фольклорную ситуацию превращения злых существ в лужайку, полянку, цветы и деревья с целью поймать героя, которая в научной фантастике различима в широко распространенном изображении «хищного леса» (например, в повести молодого советского писателя-фантаста М. Пухова «Случайная последовательность», в известных в англо-американской фантастике романах Д. Уиндэма «День триффидов» и Г. Гаррисона «Неукротимая планета»). Как и в волшебной сказке, в научной фантастике дом в лесу всегда таит в себе опасность, это всегда на поверку некая коварная ловушка, псевдодом или антидом.
Какую же роль играет «опасный» волшебно-сказочный Лес в научной фантастике?
Ту же, что и в фольклоре – «роль задерживающей преграды», по цитировавшимся выше словам В. Я. Проппа. Научно-фантастический Лес, как и Лес волшебно-сказочный, преградой, препятствием становится на пути героя. Пройти через лес в научной фантастике, как и в сказке, – значит победить.
Итак, лес в научной фантастике – преграда, шире говоря, граница, как и в сказке, между «чужим» и «своим» мирами. На этой основе фольклорная функция вбирает в себя с: чисто научно-фантастические значения, ибо «пограничность» Леса истолковывается здесь в силу присущего жанру «духа науки» сугубо рационально. Анализ научно-фантастических произведений убеждает в том, что лес служит в них очень часто именно границей между известным и неизвестным; между различными (земными, инопланетными и т. д.) мирами; наконец, между прошлым и будущим.
Рациональное толкование «пограничности» леса приводит к тому, что в научной фантастике лес одновременно оказывается и символическим образом неизвестного или прошлого. Основания этой символики вполне понятны и кроются в «опасном» характере фантастического леса, ибо «по своему эволюционному опыту человек привык к тому, что неизвестное чаще несет в себе опасность; это привело к тому, что человек потенциально агрессивен к неизвестному».[264]264
Солодовников С. В. Человек и Неизвестное в научной фантастике. – Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. IV, 1975, №. 2, с. 21.
[Закрыть]
Образ леса как границы между мирами и одновременно символ неизвестного или прошлого в ряде научно-фантастических произведений играет важную композиционную роль. К числу таких произведений относятся многие романы Г. Уэллса. Так, в романе «Первые люди на Луне» герои, достигнув Луны, сразу же оказываются в лесу, мгновенно выросшем с наступлением лунного дня: «Представьте себя в нашем положении! Кругом безмолвный сказочный лес; колючие листья вверху; а под руками и коленями ползучие яркие лишайники...». Лес раскрывается как граница между миром Земли и фантастическим подлунным миром селенитов-муравьев: «Иногда из-под почвы под нами слышались удары, звон, странные необъяснимые механические звуки».[265]265
Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти т., т. 3. М., 1964, с. 65.
[Закрыть] Здесь образ леса служит для подготовки, «настройки» читателя на чудеса подлунного мира.
Более важную роль играет образ леса в романе «Остров Доктора Моро». Г. Уэллс использует характерный для него прием постепенного «проявления» образа. Первое впечатление от острова доктора Моро у героя романа, Эдварда Прендика, таково: «Остров был низкий, покрытый пышной растительностью, среди которой больше всего было пальм незнакомого мне вида. В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко, а затем расплывалась в воздухе...».[266]266
Там же, т. 1, с. 165.
[Закрыть] Описание нейтральное, скорее, подчеркивающее, обжитость, безопасность леса. По мере же развития событий лес постепенно предстает в своем истинном, «опасном» виде: «Весь лес сразу словно преобразился, каждый темный уголок казался засадой, каждый шорох – опасностью. Мне казалось, что какие-то незримые существа подстерегают меня всюду».[267]267
Там же, с. 177.
[Закрыть] Остров, покрытый лесом, скрывает в себе загадку, тайну, недаром герой называет его «таинственным островом».[268]268
Там же, с. 183.
[Закрыть]
Совпадение такого определения с названием известного романа Ж. Верна, думается, не простая случайность. Пространство в «Острове доктора Моро» и «Таинственном острове» Ж. Верна организовано одинаковым образом: остров, окруженный океаном. О волшебно-сказочной праоснове такой структуры говорилось в начале главы, сейчас же необходимо подчеркнуть, что у Г. Уэллса более важную роль играет лес, а у Ж. Верна – океан. Вообще, образ леса в какой-то степени является органичным для творческого воображения писателя, недаром даже в автобиографии Г. Уэллс употребляет характерный «лесной» образ «джунглей», по которым проходила его жизненная тропинка.[269]269
Цит. по: Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс. М., 1963, с. 141.
[Закрыть]
Активно используется образ леса и в знаменитой «Машине времени». Он играет в этом романе двойную роль – является границей между земным миром элоев и подземным миром морлоков и в то же время носит символический характер. Как и в «Острове доктора Моро», символический характер образа леса проявляется постепенно. Будущее вначале раскрывается перед героем романа, как сад: «Общее впечатление от окружающего было таково, как будто весь мир покрыт густой порослью красивых кустов и цветов, словно запущенный, но все еще прекрасный сад».[270]270
Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти т., т. 1, с. 78.
[Закрыть]
Но по мере того, как герой разбирается в обстановке, узнает о существовании морлоков, вступает с ними в борьбу, облик сада в его восприятии (и восприятии читателя) меняется – в нем проступают черты страшного опасного леса: «...Я увидел густую чащу леса, которая тянулась передо мной широкой и черной полосой. Я остановился в нерешительности. Этому лесу не было видно конца ни справа, ни слева». И далее: «Смертельно усталый, я присел на землю. Мне почудилось, что по лесу носился какой-то непонятный сонливый шепот... Вокруг была темнота, и руки морлоков касались моего тела».[271]271
Там же, с. 113, 125.
[Закрыть] И, наконец, в очень далеком будущем герой встречает лишь «выморочные места» – мхи и лишайники на берегу мертвого океана. Символика здесь прозрачна: сад, обернувшийся лесом, – это мнимое будущее, на поверку оказавшееся прошлым.
Образ леса художественно утверждаем негативный характер мира, изображенного писателем. Финальный аккорд в раскрытии образа Леса составляет очень выразительная деталь – на машине времени, какой ее увидели друзья путешественника, «висели клочья травы и мха».[272]272
Там же, с, 140.
[Закрыть] Т. А. Чернышева, отмечая эту деталь, подчеркивает создаваемое ею ощущение реальности путешествия.[273]273
Чернышева Т. А. К вопросу о традициях в научно-фантастической литературе. – Труды Иркутск, гос. ун-та, т. XXXIII. Сер. литературоведение и критики. Вып. 4. Иркутск, 1964, с. 98.
[Закрыть] Можно добавить – и его «лесной» характер.
В современной фантастике использование леса как символа прошлого очень выразительно у Р. Брэдбери – например, в широкоизвестном рассказе «И грянул гром».
Стоит отметить, что пространственная символика образа, как вытекает из только что сказанного, в равной степени оказывается и темпоральной. Это лишний раз подчеркивает тесное единство пространства и времени в научной фантастике, которое выразительно проявляется в образе леса.
Исключительная важность этого образа, его культурологическая значимость и емкость объясняют и появление в научной фантастике произведений, главным героем которых является именно этот трансформированный в научно-фантастическом духе лес волшебной сказки. Уже у Г. Уэллса есть серия произведений, в центре которых оказывается прежде всего лес. Пример такого произведения – рассказ «Царство муравьев»: «Холройд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порою мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то загадочные шорохи... Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошенным гостем».[274]274
Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти т., т. 6, с. 405–406.
[Закрыть] В контексте приведенных выше примеров фольклорно-сказочная формула «темный, таинственный лес» в рассказе Г. Уэллса уже не кажется случайной.
Пример полного использования структуры волшебно-сказочного леса дает первая часть дилогии А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне». Цитата из рассказа Г. Уэллса «Царство муравьев» вполне могла бы служить эпиграфом к этой повести. «Темный таинственный лес» становится здесь главным героем. Буквально все отмеченные нами сопоставления и противопоставления, образующее структуру волшебно-сказочного леса, реализуются в «Улитке на склоне». Хозяйки леса, «жрицы партеногенеза»;[275]275
Стругацкие А. и Б. Улитка на склоне, с. 456.
[Закрыть] бесконечные болота (ср. фольклорные «выморочные места») и коварные заросли, в которых бродят рукоеды и мертвяки, растут дурман-грибы и деревья-прыгуны; «дом в лесу», на поверку оказывающийся опасной ловушкой (антидомом); испытание героя, – эти и другие черты знакомой волшебно-сказочной первоструктуры явственно проступают в повести. В «Улитке на склоне» фольклорно-сказочная трактовка леса используется авторами, вероятно, сознательно, и, думается, анализ и оценка повести возможны лишь при учете этой волшебно-сказочной окраски произведения. С этой точки зрения может быть оспорена характеристика «Улитки на склоне», которую дает известный исследователь научной фантастики А. Ф. Бритиков. Отмечая «стилистическое и психологическое совершенство» произведения, он вместе с тем пишет об отсутствии в нем «конкретного социального опыта», абстрагировании «от социальных сил, приводимых прогрессом в движение и в свою очередь движущих его».[276]276
Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л, 1970, с. 356–357.
[Закрыть] Действительно, к этому выводу легко прийти, если читать повесть, не учитывая ее погруженности в волшебно-сказочную поэтику. Ведь и в народной волшебной сказке с ее «темным лесом», если оценить ее по критериям реалистической литературы, тоже обнаружится отсутствие «конкретного социального опыта», на основании чего во время дискуссии 20–30-х годов сказка порой и отвергалась. «Действие разворачивается на великолепно выписанном фантастическом фоне», – пишет А. Ф. Бритиков.[277]277
Там же, с. 354.
[Закрыть] Но лес в «Улитке...» – это не фон действия (как часто бывает в литературе), а самостоятельный образ (что более характерно для сказочного фольклора), более того, как уже говорилось, один из главных героев произведения.
Итак, мы отметили наиболее часто встречающиеся формы трансформации волшебно-сказочного леса в научно-фантастический.[278]278
Иногда в научной фантастике, как, например, в повести Стругацких «Пикник на обочине» встречается изображение города как леса. Такой город-лес очень популярен в детективном жанре, «и в этом сказочно-страшном, таинственном лесу будут блуждать герои, сменившие серого волка или волшебного коня на автомашину новой марки» (Меркулан Я. Зарубежный кинодетектив, с. 47); поэтому, вероятно, не случайно, что в научно-фантастических произведениях, использующих этот образ, как правило, присутствуют элементы детектива.
[Закрыть] Эта трансформация позволяет включить волшебно-сказочную образность в изображение мира в научной фантастике и тем самым оценить его. Так, характерно, что изображение космического корабля-дома, о котором уже шла речь, дополняется в современной научной фантастике изображением корабля-леса, возникающего в тех случаях, когда авторам необходимо подчеркнуть, что это «чужой», «враждебный», «опасный» корабль. Так, скажем, в повести М. Пухова «Станет светлее» герои, обнаружившие «чужой» космический корабль древней «культуры Маб», буквально вынуждены пройти через страшный лес, заполнивший отсеки звездолета.[279]279
См.: Пухов М. Станет светлее. – Искатель, 1982, №6, с. 49, и др.
[Закрыть] У другого автора герой, попав внутрь странного космического «чужого» устройства, «увидел себя стоящим в странном багрово светящемся лесу. Из темно-вишневой почвы выпирали тысячи тонких и толстых стволов, переплетавшихся друг с другом так, что просветов почти не было».[280]280
Головачев В. Реликт. Днепропетровск, 1982, с. 72.
[Закрыть] Третий автор так описывает впечатления своего героя, исследующего «чужую» космическую станцию: «Больше всего это походило на стеклянный лес. Толстые прозрачные жгуты разной толщины перекрещивались, разветвлялись, сходились в толстые узоры и разбегались бесчисленными каскадами...».[281]281
Гуляковский Е. Атланты держат небо. – В сб.: Фантастика-79. М., 1979, с. 85.
[Закрыть] Примеры можно продолжить, но закономерность, вероятно, уже ясна: «своему» доброму Кораблю-дому в научной фантастике противостоит «чужой» опасный корабль-лес. И «сказочное» в этом противопоставлении не менее важно, чем «научное».