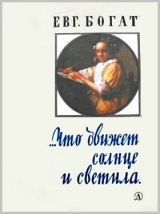
Текст книги "…Что движет солнце и светила. Любовь в письмах выдающихся людей"
Автор книги: Евгений Богат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТРАННОМ РУССКОМ РОМАНЕ«27 марта 1863 г.
Петропавловская крепость
Прощай, друг, мне ужасно стыдно перед тобой – я упросил тебя ехать, ты согласилась, и вот теперь столько терпишь через меня. Мне стало еще досаднее, что наши дела так расстроились, что остановилась и наша постройка и наше хозяйство; а ты, голубчик, вместо того, чтобы быть теперь у себя в деревне, встречаешь весну в Иркутске, и все это ты терпишь через меня. Прости меня еще раз.
25-го июля
Мне разрешено с тобой видеться[37]37
К тому времени Л. П. Шелгунова вернулась в Петербург.
[Закрыть], но только с тобой, в месяц три раза, или каждые десять дней один раз. Когда будет тебе можно, приезжай. Хотя можно видеть мне и Мишутку, но я представил себе, что для этого его нужно будить рано, везти не вовремя, оторвать от сада и занятий, одним словом – нарушить весь быт маленького мальчика, и для чего – чтобы привезти в пыльный Петербург, где он, пожалуй, еще захворает. Поэтому я думал бы не возить его теперь, а там посмотрим. Впрочем, как ты решишь, так и быть тому.17-го октября
… Жду тебя к себе в будущую пятницу и считаю каждый день, так мне хочется с тобой видеться и так мне отрадно свидание с тобой…
6-го ноября
…Впрочем, относительно свидания с тобою и Мишулькой я отличаюсь еще большей жадностью, чем самарский доктор, потому что если бы можно было вместо часу видеться с тобою шесть часов подряд, и этого я не нашел бы излишним… совершенно, как бедный – относительно денег – чем больше, тем лучше…
13-го ноября
Знаешь ли ты, голубчик, что чувствую в себе силу и способности писать к тебе письма такой же длины, как мои журнальные статьи? Но не бойся, я не стану пугать тебя подобными посланиями и в отвлеченности вдаваться не стану.
1-го декабря
…Очень я рад за Мишульку, которому швейцарский климат будет очень полезен[38]38
В конце ноября 1863 года Л. П. Шелгунова уехала с сыном Мишей за границу в Швейцарию, а Николай Васильевич продолжал сидеть в Петропавловской крепости, ожидая решения своей участи.
[Закрыть].15-го декабря
Теперь я начинаю снова чувствовать, что тебя здесь нет, милый мой дружок. И это я замечаю во всех мелочах.
…Сначала меня беспокоила мысль, чтобы не украли у тебя дорогой денег. Теперь же боюсь за твои вещи, отправленные с товарным поездом. Особенно если ты их не застраховала. Пожалуйста, напиши, когда их получишь.
Что это с Мишулькой, опять принялся за рисованье? И верно со страстностью?
Укрепляй, ради бога, ему здоровье, чтобы вышел железный.
18-го декабря
Так меня обрадовало твое последнее письмо, милый мой дружок. Теперь я знаю, что мы можем давать друг другу весть, как будто между нами телеграфная проволока. А то я уже начинал беспокоиться, не зная, чему приписать, что к тебе не доходили мои письма. Из того, что к тебе мое письмо шло 15 дней, а твои ко мне только 5, следует заключить, что от Петербурга до тебя втрое дальше, чем от тебя до Петербурга.
Подобный вопрос уже разрешался раз относительно Парижа в нашей литературе и, разумеется, не повел ни к чему.
Письмо твое доставило мне такое огромное наслаждение, что я читал его несколько раз и, засыпая, чувствовал у себя улыбку удовольствия на лице. Смешит меня Мишулька, обиду которого я понимаю вполне, хотя и смеюсь всякий раз, когда представляю его себе в обществе четырехлетней краснощекой немки.
15-го января 1864 г.
…Поручи мне что-нибудь сделать за тебя так, чтобы тебе было меньше дела. Мне же это ничего, потому что я, как мне кажется, так поглупел, что не в состоянии писать оригинальных статей. От однообразной жизни, лишенной всяких развлечений, голова у меня ужасно устала.
26-го января 1864 г.
Никогда, милый мой друг, не укладывался я в дорогу с такими мрачными мыслями, как вчера. Еду в Вологодскую губернию. Когда – не знаю, но в путь совсем готов и живу теперь на Сенатской гауптвахте.
11-го января 1865 г.
Тотьма.
Друг Людя! Тоска, тоска и тоска! Везде мне тоска. Дома тоже. Сейчас из гостей. А теперь всего 9 часов. Может быть, я болен? Не знаю и не понимаю ничего. Впрочем, со мною, кажется, это бывало всегда. Это не мизантропизм, потому что я знаю человек пять, с которыми мне бывало всегда отрадно. Ты, разумеется, номер первый… Не могу писать даже тебе, милый мой друг, как будто хочу спать. Спать, разумеется, не лягу, ибо всего несколько минут десятого. Начну рыться в книгах.
16-го января 1865 г.
Ответ на 13-е декабря
Сколько лет ты думаешь пробыть за границей? Отчего не понравилась карточка? Да только оттого, что у тебя эффектный торжественный вид, внушающий страх; а на первой карточке ты простой хороший человек, успокаивающий нервы. Я в сходстве не сомневаюсь, но ищу теплоты.
Ты права, что я относился к тебе враждебно, но, друг Людя, мог ли я относиться иначе, когда у меня не было ни одного утешительного факта? Я не знаю и не знал никогда печальных обстоятельств, о которых ты упоминаешь. Насчет денег будь спокойна. В марте я вышлю тебе малую толику, т. е. рублей 300, а до того времени у тебя достанет…
15-го февраля (1865 г.)
Твое замечание насчет реалистов совершенно… неправильно. Никто не воспитался лучше в реализме, как те, кого ты называешь идеалистами. Неужели ты думаешь, что те, кто понимает потребности своего времени, – мечтатели? Если так, то все новаторы были фантазеры, а между тем по фантазиям этих господ идут все дела мира. Какие же это мечтатели, когда все делается ими и по их проектам?
29 апреля
Дружок Людя. Сегодня написал я к Маше, к Вареньке[39]39
Сестры Л. П. Шелгуновой.
[Закрыть] и к Наде[40]40
Вероятно, Надежда Николаевна Богданович, с семьей которой Шелгуновы были близки.
[Закрыть] об отправлении ко мне Коли[41]41
За границей у Л. П. Шелгуновой родился сын после ее сближения с русским революционером-эмигрантом А. А. Серно-Соловьевичем.
[Закрыть] немедленно. Уж я его так люблю, потому что чувствую, что он заполнит мою жизнь. Я еще не заказал для него ничего; но закажу на днях: 1) кроватку. Она будет точеная и выкрашена отлично, как снег, белой краской, чтобы не укрылся ни один клоп, которых здесь в каждом доме мириады. Потом заказал уже филейную сетку из белых шнурков; ножки в чашках; 2) будет у него свой комод, свой гардеробный шкаф, свой стул, свой умывальный стол, ванна.Теперь ты мне напиши инструкции, как везти его.
20-го мая
Если твое письмо бывает в грустном тоне, то оно всегда сшибает меня с рельсов. Как прочны у нас с тобой узы.
27-го мая
…Уж как я люблю тебя, дружок мой, и как ты меня смешишь празднованием нашей свадьбы! А я всегда забываю этот день. Но в будущем году буду праздновать его непременно, только особенным образом, не так, как празднуют вообще люди. Действительно, голубчик, мы имеем на то некоторое право, потому что, если не в начале, но когда сами развились и созрели, сумели размежеваться в жизни и создали себе счастье, которое дается не многим, да еще долго не будет даваться, пока наши обыкновенные супруги будут пребывать в том остроумном турецком миросозерцании, в каком они обретаются.
1-го июля
Что я буду любить Колю любовью разумных людей, ты не сомневайся; но достанет ли во мне столько познаний, сколько нужно для хорошего его физического воспитания, – не ручаюсь, хотя прочитаю все, что нужно для этого.
30-го сентября
Друг мой Людя! Ты не ошиблась, что известие о смерти Михайлова произведет на меня очень, очень тяжелое впечатление. Я уже писал тебе об этом. Тяжело мне было потому, что я в будущем рисовал себе яркий камелек и перед ним компанию старцев, хороших, добрых, живущих одним миром. Теперь эта компания меньше. Ты не ошиблась и в том, что я стал еще более одинок. Сорок лет я кипятился и накидывался на людей с полной искренностью; я ненавидел ложь и обман в других, не позволял никогда их и себе. Я всегда был искренен и в этом считаю все свое достоинство».
(Из писем Н. В. Шелгунова к Л. П. Шелгуновой).
Это было в России, в шестидесятые годы XIX века. Лучшие люди того времени – «шестидесятники» – вошли в историю под именем «новых людей». И они действительно были новыми, потому что несли совершенно новые идеи, идеалы, по-новому видели жизнь, отношения между мужчиной и женщиной. Новые люди видели в женщине мыслящее, страдающее существо, одаренное богатой душой, созданное для радости; они хотели, чтобы женщина, которая веками в русском обществе не имела доступа к высшим видам творческой деятельности и к высшим сферам человеческого духа, раскрылась полно, неожиданно, ослепительно ярко.
Выразитель идеалов той эпохи Н. Г. Чернышевский говорил: «Никогда не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время. Никогда не любили так независимо от пошлостей, против которых еще долго будет надобно бороться любви».
«Странный русский роман», героями которого были Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, известный в то время поэт и беллетрист М. Л. Михайлов и революционер-эмигрант А. А. Серно-Соловьевич, кажется на первый взгляд неправдоподобным, «психологически недостоверным», как написали бы литературные критики, если бы этот роман был создан не самой жизнью, а писателем. Потому я и решил оставить читателя один на один с подлинными документами: в литературном пересказе эти отношения могут вызвать недоверие.
Мне хочется вернуться к одному из самых первых писем Н. В. Шелгунова к будущей жене, к тому письму, где он говорит: «относительно Вас во мне почти всегда действует духовный человек».
Люди шестидесятых годов – будучи в философском миропонимании убежденными материалистами – отличались особой духовностью; в области человеческих отношений они были «идеалистами», пожалуй, даже большими идеалистами, чем поколение тридцатых – сороковых годов русской жизни. Лучшие люди того поколения были идеалистами в области отвлеченной, они были идеалистами в чисто философском понимании идеализма, что, бесспорно, отражалось и на их отношениях к людям, к женщине…
Возвышенный идеализм «шестидесятников» поднял земное, житейское, повседневное на высоту истинного благородства, великодушия, бескорыстия и щедрости души, которая не может и сегодня не вызывать у нас изумленного восхищения. Шелгунов любил жену не только как женщину, но и как «суверенное» человеческое существо, чьи наклонности, увлечения, даже мимолетные капризы должны вызывать отношение почтительное, без тени раздражения или досады…
Его отношения с Михайловым – это подлинное торжество духа над тем, что во все века называли «плотью». Михайлов для него не соперник в любви, а тоже «суверенное» человеческое духовное существо, чье сердце не менее дорого ему, чем сердце собственное. Удивительные люди! Удивительные отношения! Он воспитывает детей, которые не были его родными детьми, хотя и были рождены женщиной, которую он любил и которая была его законной супругой, он воспитывает этих «чужих детей» не только с чувством большой ответственности за формирование их характера и за их будущее, но и с искреннейшей, чисто отеческой нежностью. Он их любит. И именно в этом тайна его, казалось бы, непостижимого отношения и к жене, и к Михайлову, и к Серно-Соловьевичу. Он любит.
Это сочетание любви интимной (чисто мужской или чисто женской) с любовью общечеловеческой и объясняет, казалось бы, необъяснимое в его поведении.
И в том, что он делает, нет жертвенности. А жертвенности нет, потому что, страдая (не страдать он не мог), он испытывал и радость от того, что хорошим людям рядом с ним хорошо жить.
Общеизвестна фабула романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Менее известно, что история, изложенная в нем, разыгралась в самой жизни: в ней участвовали П. И. Боков (прообраз Лопухова), студент-медик, потом врач, М. А. Обручева (прообраз Веры Павловны), И. М. Сеченов (прообраз Кирсанова)…
Как и в романе, Боков, готовя к экзаменам Машу Обручеву, оформил с ней фиктивный брак для того, чтобы дать ей возможность самостоятельно жить, учиться. Потом, тоже как в романе, Мария Александровна увлеклась талантливым физиологом Сеченовым; потом, тоже как в романе, их отношения перешли в любовь; потом, тоже как в романе, Боков устранился, сохранив на всю жизнь дружбу с обоими, а потом, как и Лопухов, встретил женщину, которая стала его женой.
Я чуть было не написал в конце последней фразы «тоже как в романе», но в том-то и дело, что когда Чернышевский писал роман, Боков, в отличие от Лопухова, еще не встретил будущую жену.
Можно подумать, что писатель «наколдовал» ему новое счастье. А это сама жизнь «наколдовала». Ибо она, великая, своенравная художница, писала в ту пору «неправдоподобные», «психологически недостоверные» романы.
«Странные русские романы», фабулы которых еще долго будут учить нас искусству человечности.
«В тревогах мирской суеты…»
10 июля 1870 года Алексей Константинович Толстой – поэт, романист, драматург – писал из Дрездена жене – Софье Андреевне Толстой:
Вот я здесь опять, и мне тяжело на сердце, когда вижу опять эти улицы, эту гостиницу и эту комнату без тебя. Я только что приехал, в 3 ¼ часа утра и не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже двадцать лет, что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал двадцать лет тому назад…
Двадцать лет назад он увидел ее первый раз «средь шумного бала, случайно…».
Эти стихи, положенные потом на музыку П. И. Чайковским, и посвящены первой встрече Толстого с будущей женой.
Кровь застывает в сердце, – писал он ей из старой дрезденской гостиницы через двадцать лет после «шумного бала», – кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять – я говорю себе: как ужасно глупо расставаться! Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной. Все вокруг лишь свет и счастье…
Они расставались часто. Его письма к ней – история двух сердец, постепенно соединившихся настолько, что можно говорить об одном человеческом сердце, об одном человеческом существе.
Началась эта история драматически. Софья Андреевна во времена «шумного бала» была замужем за нелюбимым человеком – кавалергардским полковником Л. Ф. Миллером, до замужества она пережила трагедию – была увлечена князем П. А. Вяземским, и из-за этого увлечения один из братьев ее был убит на дуэли…
Не был и Толстой счастлив. Он томился службой при царском дворе, «особыми», нравственно для него тяжелыми поручениями, а мечтал о литературе, об искусстве – хотел полностью им себя посвятить и не находил сил разорвать со службой, двором, мундиром.
Они оба тогда («… лишь очи печально глядели!») были во власти нелюбимого (она – нелюбимого мужа, он – нелюбимой службы) и оба мечтали о любимом; история их сложных отношений – это борьба за то, чтобы стать самими собой в любви, в искусстве, в жизни.
30 мая 1852 года, вскоре после их первых встреч, он писал ей из Парижа:
Мы никогда не будем вполне счастливы! но у нас есть удовлетворение в нашем обоюдном уважении, в сознании наших нравственных устоев и добра, которое мы делаем друг другу. Я люблю это счастье, полное страдания и печали.
Отчего мне случалось в детстве плакать без причины, отчего в тринадцатилетнем возрасте я прятался, чтобы выплакаться на свободе, – я, который казался для всех невозможно веселым?..
Он раскрывается перед любимой женщиной, как раскрываются перед матерью – кажется, что это пишет сын.
То духовное материнство, о котором я говорил, рассказывая о любви Элоизы к Абеляру, мужчиной ощутимо как духовное сыновство.
Подумай, – писал он ей через несколько месяцев, – что до тридцати шести лет мне было некому поверять мои огорчения, излить мою душу. Все то, что печалило меня, – а бывало это часто, хотя и незаметно для посторонних взглядов, – все то, чему я бы хотел найти отклик в уме, в сердце, я подавлял в самом себе.
И вдруг – ведь пишет это все же не сын, а возлюбленный! – он вырастает мгновенно из мальчика (и в тридцати шестилетнем мужчине мальчик может очнуться) в охотника, чародея, рыцаря.
Если снег останется и больше не выпадет, можно завтра идти на медведя и лосей… Не думаю, что я пошел бы их искать… Разве только с мыслью найти для твоих ног медвежью шкуру.
В этом «найти для твоих ног медвежью шкуру» то сочетание ребенка и сильного мужчины, которое создает лишь истинная любовь.
Я чувствую в себе, – пишет он ей тогда же, – сердце, ум, – и большое сердце, но на что оно мне?
А еще через несколько месяцев он сам же на этот вопрос отвечает:
Настоящая дружба (я не говорю о любви) основана на постоянном и безграничном излиянии одной души в другую.
Потом, в последующих письмах, он рассказывает о лучшем, что было в его жизни до встречи с нею, – о путешествии в Италию, когда ему было тринадцать лет. Нет, «рассказывает» не то слово, он в письмах дарит ей эту Италию: ее соборы, картины, статуи, ее образы, ее века. Он дарит ей мысли, которые вызывала в нем Италия в отрочестве и вызывает сейчас при воспоминании о том путешествии.
Я думаю, – пишет он, – что нельзя быть художником одному, самому по себе, когда нет художников среди окружающих нас…
И он имел в виду, конечно, высказывая эту мысль, не Италию времен Возрождения, а николаевскую Россию, в которой тосковали талантливые, думающие, мыслящие люди. «Энтузиазм, каков бы он ни был, скоро уничтожается нашими условиями жизни».
Да, нельзя быть художником одному, самому по себе, когда нет художников вокруг, но можно быть одному самому по себе любящим человеком.
Когда я рассказываю тебе про Венецию, – пишет ей любящий человек, мечтающий стать художником, – все эти воспоминания встают передо мною одно за другим. Мне кажется, я слышу шум, с которым укладывались гондольерами весла в гондолу, когда подходили к какому-нибудь дворцу, я чувствую запах каналов, дурной запах, но напоминающий хорошую эпоху моей жизни!..
А через несколько строк:
Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: служба, чин, вицмундир, начальство и тому подобное?
Он пишет ей о внутренних бурях, доводящих его до желания биться головой об стену. И он твердо решает порвать с карьерой, вицмундиром, службой, посвятить себя литературе, искусству. И после этого решения его любовь к ней возрастает, потому что, обретая душевную цельность, избавляясь от раздвоения, человек тем самым углубляет в себе и талант любви, великий талант самоотдачи: любимому существу, любимому делу. А с возрастанием любви к ней возвышается и его отношение вообще к миру.
Сегодня, – пишет он 8 августа 1854 года, – такая прекрасная ночь, так много звезд отражается в воде, воздух теплый… Когда я вижу подобную ночь, хотя я продолжаю так же сильно любить природу, мне кажется, что есть что-то лучшее, что должно быть нашей целью… Чувство это очень сильно во мне – и всегда было, но это очень больно. Вокруг нас масса цветов, и воздух благоухает, и глаза наслаждаются… Я чувствую недостаточность жизни… И хотя не говорю об этом, но это чувство очень искренне во мне.
Ему кажется, что он об этом, может быть, самом тайном в его душе не говорит. Но нет, он говорит об этом, ей, единственному человеку на земле, который может сейчас его понять.
Постараемся и мы понять это странное письмо.
Любовь, усиливая ощущение чуда жизни, окружающей нас действительности («масса цветов, и воздух благоухает, и глаза наслаждаются»), в то же время вызывает и тоску по чему-то большему, чем эта действительность. Мы наслаждаемся минутами – временем, когда воспринимаем красоту мира, и, несмотря на это, «выходим» из времени в вечность. Это тоска по бесконечному, но чему-то таинственно великому – загадочное качество любви. Испытывать эту тоску действительно «очень больно».
И все время, все время в его непрестанно развивающемся чувстве к ней оживает мальчик, ее «сын».
…Когда мне было пятнадцать лет, я написал стихи:
Я верю в чистую любовь
И в душ соединенье;
И мысли все, и жизнь, и кровь,
И каждой жилки бьенье
Отдам я с радостию той.
Которой образ милый
Меня любовию святой
Исполнит до могилы.
Я говорил тогда только о любви до могилы и не думал тогда, что любовь должна идти еще дальше… Спокойной ночи. Посылаю тебе всю мою душу – да будет она всегда с тобой.
Все это и есть то чувство недостаточности жизни, о котором он раньше писал, и оно нашу любовь к жизни не ослабляет, а усиливает, усиливает ее настолько, что она находит в реальной действительности то, чего не видел когда-то…
Но была, увы, и иная действительность – жестокая, социальная (то, что Николая I на троне сменил Александр II, лишь осложнило положение художника, ибо император питал к нему особую «симпатию» и надеялся на него как на деятельное должностное лицо). Софья Андреевна оставалась по-прежнему женой кавалергардского полковника, ибо развод в царской России был делом почти неосуществимым… И эта действительность не отпускала, держала в плену.
Они освободились душевно: он отдавал лучшие силы стихам и роману «Князь Серебряный» (и, конечно же, ей), а не особо «почетным» поручениям государя; она любила его, а не мужа, но полного освобождения от того, что не любишь, все еще не наступило…
Я хочу заняться… моим искусством – меня к нему влечет как никогда, – пишет он ей, – помоги мне жить вне мундиров и парадов.
А через несколько дней он писал ей же из парадно-чиновного Петербурга в тихую усадьбу, где она жила:
Я ощущаю такую потребность говорить с тобой об искусстве, о поэзии, поделиться с тобою всеми моими мыслями и теориями.
Он подарил ей однажды Италию и хочет все время дарить что-то бесценное, чтобы росла ее душа.
Я хочу доставить тебе маленькое удовольствие: я достал великолепные фотографии Толедо, Венеции и Гренады… Рассматривая в лупу, ты сможешь разобрать: кирпич, мох, собак и исполинских мух.
Он все время всматривается в ее душу, в ее лицо. Тайна, которая покрывала ее черты в день их встречи, стала со временем не менее, а более явственной, хотя давно отшумел тот бал и истлели те маски.
Это – тайна любимого лица, о котором мы говорили, восстанавливая историю поклонения Петрарки перед Лаурой.
Почему надо раскрыть тайну? Это вопрос о смысле любви. Сегодня любовь для человека то же самое, читаем у одного старого философа, чем был разум для мира животного: она существует лишь в первоначальных задатках, но еще не на самом деле. Но если огромные мировые периоды не помешали этому разуму наконец осуществиться, то тем более неосуществленность подлинной любви в течение немногих тысячелетий, пережитых историческим человечеством, не дает нам основания заключать, что в будущем она не раскроется с той полнотой, с какой раскрылся в человеке разум, живший некогда под спудом, в потемках.
Это будущее наступало уже не раз в отношениях людей, сумевших оправдать на деле высший смысл любви, то есть соединить две жизни в одну, два существа в единую личность. Соединение, это возможно при одном непременном условии: видеть абсолютную непреходящую ценность в духовном мире человека, который сейчас перед тобой, о котором можешь бессонной ночью поразмыслить: «И кажется мне, что люблю» (строка из того же первого стихотворения-романса А. К. Толстого).
Чтобы снять это «кажется», надо, повторяю, увидеть бесконечную ценность в душе будто бы любимого человека, то есть ощутить его лицо как тайну, которая требует раскрытия, расшифровки не менее кропотливой, углубленной и медлительной, чем разгадка надписей на развалинах городов майя или иероглифов иных исчезнувших цивилизаций. Но различие в этих трудах, конечно, великое: если в последнем случае воскресает перед тобой давно ушедшая в небытие культура: с ее языком, молитвами, шепотом любви, мечтами о бессмертии, то в первом случае, когда ты раскрываешь тайну будто бы любимого лица, перед тобой рождается сегодняшний удивительный мир: тончайших душевных переживаний, невысказанных мыслей, невоплотившейся доброты, нераскрывшихся богатств духа. И по мере того, как все это раскрывается, воплощается, человек все более становится твоим человеком. И ты умираешь как отдельная личность, чтобы воскреснуть в новом чудесном существе, соединившем навсегда две человеческие личности.
В сущности, история любви А. К. Толстого и С. А. Миллер – история этого умирания и воскресения.
Вот она в Италии. Он из Петербурга пишет ей 4 июля 1857 года:
Обрати внимание на характер ломбардских церквей, постарайся изучить физиономию различных архитектур, поезжай в Верону – там есть ломбардский собор и римский амфитеатр, очень хорошо сохраненный… И потом могила Ромео…
А через несколько недель он твердо пишет императору Александру II:
«Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому. И надо делать выбор».
Он пишет императору о том, что больше не может носить мундира. Давнишнее внутреннее решение становится долгожданной реальностью.
И вот наконец он пишет из гостиницы «Виктория» в городе Шлангенбад не Софье Андреевне Миллер, а Софье Андреевне Толстой: она развелась и стала его женой. Исполнилось то, о чем они мечтали годы, – освобождение от постылого, соединение с любимым. Он пишет ей о чем-то странном, на первый взгляд даже непонятном:
У улиток у всех на правом боку была дыра (он рассказывает о том, как встретил в лесу трех рыжих улиток), была дыра, чтобы дышать, а у меня… нет такой дыры, и я должен дышать через горло.
А через несколько дней он повторяет опять, как что-то весьма важное:
У каждой улитки есть, кроме рта, на правом боку дыра, чтобы дышать, а у сына человеческого нет дыры на боку, и он дышит только через рот.
Конечно, это настойчивое возвращение к улиткам, это завистливое напоминание об их странном устройстве можно объяснить тем, что Толстой в то время уже тяжело болел астмой.
Но он ведь замечал не одних улиток. Вот он пишет ей еще через несколько дней:
Здесь очень много птиц, и они никого не боятся (письмо из Карлсбада от 22 июня 1863 года). Намедни я сидел во время дождя под навесом и пил кофе, а птица, одна маленькая и мокрая, прилетела и села передо мною на спинке стула. Я ей дал крошку, она взяла и села подле моей чашки и продолжала есть. Здесь есть тоже белки…
Мне хочется сейчас вернуться к самому началу их любви (когда она была еще будто бы любовью) – к письму от 22 августа 1851 года из скромного именьица А. К. Толстого – Пустынька.
Сейчас только вернулся из лесу, где искал и нашел много грибов. Мы раз как-то говорили о влиянии запахов и до какой степени они могут напомнить и восстановить в памяти то, что было забыто уже много лет. Мне кажется, что лесные запахи обладают всего больше этим свойством… Вот сейчас, нюхая рыжик, я увидел перед собой, как в молнии, все мое детство во всех подробностях до семилетнего возраста.
Тогда, в 1851 году, у него не было астмы, и все же он, видимо, позавидовал бы улиткам, которые могут воспринимать запахи, воздух мира полнее, чем он, – всем телом.
С особой силой он испытал эту зависть, когда все исполнилось: он стал художником, она – его женой.
И возросла жажда еще большей полноты бытия, еще более полного переживания мира. Возрастание этой жажды – тоже странное качество любви. Оно, по-видимому, объяснимо тем, что когда двое становятся одной личностью, то эта одна личность, естественно, хочет ощущать, переживать, «вдыхать» мир в два раза полнее, и она готова даже завидовать улитке, у которой дыра в боку!
И оттого, что сейчас они – одно мыслящее, страдающее, чувствующее существо, разлука переживается особенно тяжело.
Когда я вижу, – пишет он, больной, стареющий, из Карлсбада, – что-нибудь хорошее, тотчас подумаю о тебе и ничем удивительным не могу наслаждаться без тебя.
И он наслаждается – не один! – с нею и тогда, когда незнакомая старая женщина в кафе дарит ему розу, и тогда, когда рассеивается утренний туман и горы выступают в чудесной отчетливости.
Все дышит здесь рыцарством и Западом, – делится он с ней впечатлениями о старинном замке. – А через коридор от меня есть комната, где нечистая сила и картина во весь рост одной ландграфини, про которую картину мне управляющий рассказывал сейчас страшную историю, с ним случившуюся, вследствии которой он много лет был охвачен тоской… А я опять пошел в страшную комнату и смотрел на ландграфиню. Она освещена месяцем… а быть там не страшно, и ничего не случилось… Мне давно хотелось быть в таком замке…
Но в этом замке он был не один. Была в нем и та, которую он любил. Он это понимал и не понимал в загадочной, заколдованной тиши рыцарской ночи.
В комнате рядом со мной кто-то очень ясно ходит, и когда я туда войду со свечой – никого нет…
Это она ходила. Она была с ним повсюду. А началось это единение с чувства духовного материнства и духовного сыновства в любви. Материнство было и в чувстве Элоизы к Абеляру, а вот сыновства в его чувстве к ней не было… Она мечтала о нем как о высшей форме отношений между мужчиной и женщиной, что бы ни отдала она, чтобы он рассказывал ей как матери о том, что страшно и что не страшно!..
Когда я был такой, как на портрете, который ты смотрела, – писал Толстой 24 сентября 1867 года, – я был маленький, и мне взяли гувернера, и он со мной гулял в Веймарском парке с собакой, и он не позволял мне давать собаке нести палку – он говорил, что это не годится в парке герцога. И он мне объяснял историю Фауста, и он уверял, что когда Фауст возвратился домой с черной собакой, он ей говорил: «Пудель, зачем ты бормочешь? Пудель, не бормочи!» – и я навострял уши и слушал.
А через несколько дней он ей пишет, что видел, тоже в старом замке, инструменты миннезингеров XII века:
Как бы тебе там понравилось и показалось бы уютно!
Он пишет ей о доме Гете, о старых городах и картинах, о живописных стариках, о собаках и о деревьях…
Он все острее и все больнее воспринимал бесценные мимолетности жизни. Он видел мир в новых измерениях, переживал его историю, минувшие века как историю собственной жизни.
В письмах его нарастает новая тема: сыновности в мире – любви сына к бесценным дарам, которые он получает из материнских рук, – этим паркам, этим озерам, этим голубям, этим старинным улицам.
…Почти через сто лет письма А. К. Толстого к С. А. Толстой будет читать и перечитывать на чужбине, во Франции, Иван Алексеевич Бунин – русский художник, чувствовавший с остротой необыкновенной бесценность, телесно-духовную красоту мира. И он напишет женщине, которой был тогда увлечен, Марии Владимировне Карамзиной, о А. К. Толстом:
Совершенно удивительный был человек (и поэт конечно). Достаньте… и перечитайте.
За год до этого в письме к ней же, цитируя ее стихи (она была поэтессой):
Светил и туч полночный бег.
Струй низвергающихся топот…
Душа – кочующий ковчег В волнах любовного потопа… – он вдруг добавляет неожиданно:
А вот вам японские стихи – не дивитесь на такой дикий скачок в моей голове:
Огонь под пеплом,
Дом под снегом.
Полночь.
«Огонь под пеплом…»
Вероятно, оттого, что письма Алексея Константиновича Толстого соединяются в моем воображении с письмами Бунина к Карамзиной, я думаю иногда, читая и перечитывая их, об Японии, в которой никогда не был, и о рисунках японских художников… Один из японских художников, чьи рисунки особенно много говорят моему сердцу, хотел в детстве покончить жизнь самоубийством и вдруг увидел, как заходит багрово-красное солнце и лучи его освещают холмы, и решил из жизни не уходить: разве можно расстаться с такой красотой! Он потом часто рисовал горы и землю в освещении этого багрово-красного солнца.








