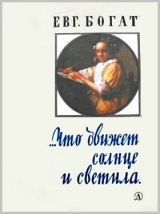
Текст книги "…Что движет солнце и светила. Любовь в письмах выдающихся людей"
Автор книги: Евгений Богат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Письмо перед казнью
Как часто перечитываю я твои строки! Я прижимаю их к сердцу, покрываю поцелуями. Я уже не надеялась получить их…
…Друг мой! Твое письмо от 15-го написано в том мужественном тоне, по которому я узнаю твою свободолюбивую душу, занятую грандиозными проектами, возвышенную судьбою, способную на великодушные решения, на обоснованные требования, – по всему этому я снова узнала моего друга и снова пережила все чувства, связывающие меня с ним. Письмо от 17-го очень печально. Какими мрачными мыслями кончается оно! Нет, в самом деле, разве важно знать, будет ли жить после тебя или нет известная женщина! Дело идет о том, чтобы сохранить твою жизнь и направить ее на благо Отечеству, – остальное уже решит время.
Пусть совершится! Мы не можем перестать быть достойными тех чувств, которые мы внушали друг другу. С этим нельзя быть несчастным. Прощай, мой друг, прощай, мой многолюбимый!
Автор этого письма – Мари Ролан – в юности любовь отвергала как чувство, которое не может занять господствующего места в жизни человека. История души Ролан отражает духовную историю столетия, его восхождение от сентиментального пафоса, от «заблуждений сердца и ума»[6]6
«Заблуждения сердца и ума» – название романа французского писателя XVIII века Жолио Кребийона-сына (1707–1777). Отец его был драматургом.
[Закрыть] – к великой трагической серьезности.
Ее письма и мемуары рисуют ту историю чувств, без которой непонятна и история идей.
Она в юности любовь отвергала… В девятнадцать лет Мари писала лучшей подруге:
Любовь почти всегда обязана своим могуществом иллюзии, это – волшебное зеркало, представляющее предметы в привлекательном образе. Преувеличенное представление о наслаждении – главный источник жгучести желаний и стремлений так же, как разочарования после первого испытания… Сердце мое вполне свободно… Радуюсь равнодушию моему и спокойствию…
Странное отношение к любви в любвеобильном, «галантном» XVIII веке. (Мари родилась в середине его, в 1754 году.)
Счастлив тот, – пишет она подруге, – кто умеет подчинять и направлять чувства любви, еще более, быть может, счастлив тот, кто никогда не покоряется ее внушениям… В большинстве случаев любовь – источник несчастия.
Рисуется она или искренна?
Сердцу моему при всей его чувствительности не свойственна страстная любовь; волнение, являющееся следствием страсти, слишком противоречит моему непреодолимому стремлению к покою…
Это писала в юности женщина, чья душа потом испытала сильнейшую страсть, чей опыт любви вошел в общечеловеческую сокровищницу чувств.
И она была искренна. Три обстоятельства обусловливали ее странное отношение к любви – два из них имеют отношение к духовно-нравственной атмосфере второй половины XVIII века во Франции, третья – к маленьким событиям ее девической жизни.
«Галантный» век – век любовных писем, маскарадов, интриг, чувствительности стал уставать от игры в любовь; столетие, подобно человеку, утомленному развлечениями, начинало мечтать о великом и серьезном. Утомленность от игры в любовь растворялась в воздухе середины века, часто порождала у нового поколения непринятие любви. Воздействовала на характер Мари и вторая существенная черта тех десятилетий: увлечение умственными интересами, философией (даже Руссо, который обращался к сердцу, на самом деле больше будил ум), жажда деятельности, которая неизменно сопутствует росту разума… Жажда деятельности и углубленное философией чувство нравственного долга.
А небольшие личные обстоятельства, повлиявшие на ее критическое отношение к любви, заключались в том, что была она единственной дочерью богатого коммерсанта и не успела выйти она из отроческих лет, как руки ее искали самые разные люди, одинаково безразличные ей. Поначалу это был золотых дел мастер, казалось бы завидная партия.
Мари писала о нем подруге с чисто философским равнодушием:
Небогато наделенный дарами природы, он далеко не хорош собой, но ты знаешь по моему образу мыслей, насколько это для меня безразлично. Он мог бы быть еще более некрасив, лишь бы под внешней оболочкой скрывалась хорошая душа. Впрочем, я ничего не вижу в нем безобразного… Он – среднего роста, блондин ли он или брюнет, не помню в точности. Кажется, у него желтый цвет лица с сильными следами оспы, острый подбородок, худое, длинное лицо. Во всей его особе ничего нет привлекательного, но и ничего прямо отталкивающего.
Если бы Мари Ролан увяла, состарилась, умерла в безвестности и сохранилось лишь это ее первое письмо о «любви», о «женихе», мы бы подумали: холодное, мертвое сердце! И, может быть, лишь чувство юмора, которым окрашены некоторые строки, заставило бы нас отнестись к его автору – двадцатилетней девушке – милостивей.
Но золотых дел мастер от дальнейших исканий ее руки почему-то отказался, его быстро заменил хозяин мясной лавки, потом некий молодой врач.
Мари было безразлично, чьей женой стать. Она писала подруге, что относится к будущей семейной жизни как к исполнению нравственного долга, не ожидая от нее радостей. И если она не стала женой ни хозяина мясной лавки, ни золотых дел мастера, ни молодого врача, то лишь потому, что те были недостаточно настойчивы, а ее родители недостаточно покладисты.
Я вижу в супружестве бесконечные испытания, – писала она подруге, – которые вознаграждаются лишь удовольствием давать обществу полезных людей.
В чем же она видела счастье?
Я чувствую, – писала она в том же письме, – потребность деятельности, которая мучает меня, коль скоро я ее не удовлетворяю; серьезные умственные занятия необходимы для меня, без них я, против воли, волнуюсь и скучаю… Эта потребность деятельности составляет в одно и то же время мое счастье и мое мучение.
Мари было семь лет, когда она открыла тома Плутарха, и восемнадцать – когда она открыла книги Руссо. Под воздействием этих писателей и формировался ее духовный мир. Плутарх, его жизнеописания античных героев, Руссо, его философия естественного чувства, углубляли любовь к человечеству, к «общему благу».
Она писала о Плутархе:
Казалось, он явился истолкователем чувств, которые я уже ранее искала, но которые он один умел объяснить мне.
Она писала о Руссо:
Иметь всего Жан-Жака в своем распоряжении, чтобы каждую минуту своей жизни совещаться, утешаться и возвышаться с ним, – это наслаждение, счастье, которое возможно испытать, лишь боготворя его так, как я.
Чаши ума и сердца все время колеблются в ней. Дитя XVIII века, воспитанное на поклонении разуму, и поклонница Руссо с его безраздельной верой в мудрость сердца, она один день живет умом, второй – душой; но нравственное содержание жизни не меняется: «горячая любовь к добру».
В этой девушке с «холодным» сердцем, безразличным к тому, кто будет ее мужем, идет большая, непрестанная внутренняя работа. В ее письмах к подруге чувствуется нравственный мыслитель, которому недостает лишь немного, чтобы стать мыслителем политическим.
Через ряд десятилетий она напишет в тюрьме:
Научные мои занятия делались мне все дороже. Я любила себе отдавать отчет в моих мыслях, и перо помогало мне уяснять их…
Чему же были посвящены ее мысли, что она хотела уяснить?
Ее возмущает неравенство, несвобода, отсталость политических учреждений, и в этом чувствуется влияние теории Руссо. Ее огорчает, что она не видит вокруг себя великих людей, поражающих мир героизмом, энергией духа и любовью к отечеству, и в этом чувствуется влияние Плутарха.
Но в письмах ее, в ее мыслях, в первых ее литературных опытах резко ощущается и ее собственная личность.
Изучая историю, – писала она подруге, когда ей было семнадцать лет, – я желаю ознакомиться не столько с фактами, сколько с людьми; в истории народов я вижу и нахожу историю человеческого сердца.
Острый интерес к истории человеческого сердца, к жизни человеческой души отличал ее и потом, в более поздние и мудрые периоды ее существования. Но как это совместить: любовь, любопытство к человеческому сердцу и безразличие к сердцу собственному, к его жизни, к его тайнам? Эти строки из письма к подруге и те, в которых описывается безразлично-иронически будущий муж, будто бы написаны разными людьми. А писал их один человек, чье сердце заключало в себе великие, неведомые ему самому загадки.
История странного сердца Мари, одного из самых непостижимых женских сердец, – увлекательнейшая страница тысячелетней истории человеческих чувств…
Вокруг мыслящей и «загадочно-холодной» девушки постепенно собираются молодые и не совсем молодые люди: поэты, философы, офицеры, путешественники. Некоторых из них по-настоящему захватывает красота (она была красива удивительно, судя по сохранившимся портретам) и богатство умственной и нравственной жизни Мари. И вот в ее жизнь вошла первая любовь.
О, милый друг, – пишет она той же верной подруге Софи Конне, – что может скрыть от тебя сердце, которого первое удовольствие – делиться с тобой своими впечатлениями! Да, ты узнаешь все мои испытания и горести. Когда любовь поражает нас своими стрелами, где можно найти утешение, как не в объятиях дружбы! У меня нет сил ни подавить свою любовь, ни бороться с ней.
Человек, о котором она пишет, некто Лабланшери, чье имя было бы давным-давно позабыто, если бы им не увлеклась эта замечательная женщина, был молодым ученым, как и она, горячим поклонником Жан-Жака Руссо. Он занимался в то время составлением дидактических сочинений, он дал их читать Мари, и она сообщила той же верной подруге: «Если бы я не любила добродетель, он бы сумел мне внушить любовь к ней».
Но через две-три недели ее восторженно-сентиментальное настроение несколько меняется, она начинает относиться к чувству, которое казалось ей подлинной любовью, более трезво.
Страстно-душевное волнение мое улеглось незаметно, – пишет она Софи, – любовь не оставила меня, только чувство это так срослось с моей душой, что волнует ее так же мало, как чувство любви к родителям.
А через месяц с небольшим она начинает судить собственное сердце еще более решительно.
Я странный человек, – пишет она Софи, – настроение мое меняется не по дням, а по часам. Когда я углубляюсь в научные занятия, мне не нужна любовь. Когда я удаляюсь в мою философию, Лабланшери кажется мне чересчур заурядным.
Она жалеет его, но уже не может с собой ничего поделать.
Друг мой, – пишет она Софи, – этот несчастный Лабланшери страшно изменился, он имеет вид такой печальный, измученный! Сон покинул его, беспокойство и горе подтачивают его…
Ничтожное обстоятельство убило это чувство.
На днях я встречаю Лабланшери в Люксембургском парке с султаном на шляпе: ты не можешь вообразить, как этот султан изумил меня. Я пыталась примирить это пустое, суетное украшение с той философией, с тем стремлением к простоте, с тем образом мыслей, которые привязывают меня к Лабланшери. Эти тщетные попытки измучили меня…
Чувство юмора, сильно развитое в ней, убило менее сильное чувство, казавшееся любовью. И с тем большим пылом она ушла в научные занятия, философию. Она оправдывает увлечение «умственностью» тем, что «без занятий любовь, быть может, воспламенила бы мое воображение до помешательства».
Но в тот период ее жизни любовь к мудрости настолько сильнее любви к тому или иному человеку, что помешательство может угрожать ей лишь со стороны философии, которой она увлекается все больше.
Мозг мой кипит, как растопленный воск; я бешусь на кратковременность дня. Я бы хотела быть одной где-нибудь подальше, чтобы хоть раз иметь возможность вдоволь помечтать и поработать.
Зачем я родилась женщиной! – восклицает она. – Поистине, мне страшно надоело быть женщиной. Мне следовало бы быть спартанкой, или римлянкой, или, по крайней мере, французом.
Она начинает изучать физику и естественную историю, в голове у нее складывается план философского романа.
Ум мой поглощает по очереди то философию, то физику, то историю, – пишет она.
Но, увы, Мари родилась не мужчиной, а женщиной. Женихи ищут ее руки, и вот она начинает мечтать о фантастическом идеальном браке, несколько напоминающем мечтания русских людей 60-х годов XIX века.
Мари сообщает Софи о намерении выйти фиктивно замуж за человека вдвое старше ее, к которому она относится лишь с чувством дружеского уважения и который к тому же, по семейным обстоятельствам, не может сочетаться с ней юридически. Это мечтатель-идеалист, философ Севелэнж.
Я уже, кажется, описывала тебе этого человека, в высшей степени чувствительного, мягкого, с наклонностями к меланхолии, мечтательного склада. У него характер доверчивый, не чуждый некоторой сдержанности и робости, – той робости, которая не исключает силы и великодушия. Он проникнут уважением ко мне и убежден, что я необходима для его счастья. Большая часть состояния Севелэнжа принадлежит первой жене его; следовательно, вторая жена лишила бы его сыновей состояния, которое принадлежит им по справедливости. Поэтому Севелэнж решил под именем жены приобрести себе жену-друга. Я одобрила намерение, которое разум мой оправдывает и которое делает честь нам обоим…
Мои чувства, положение, все, что окружает меня, – поневоле располагает меня к безбрачию. Я буду в состоянии способствовать счастью человека, которого глубоко уважаю. Но безбрачие в браке! Я знаю все, что богословы и казуисты наговорили по этому поводу; но я отрицаю авторитет их и признаю лишь голос моей совести. Ничего нет отраднее в моих глазах, чем такое полное самопожертвование чувству дружбы. Можешь ли представить себе более чистое наслаждение, как всецело посвятить себя счастью чувствительного человека.
Долгое время она и он переписывались, наслаждаясь умственным общением на расстоянии – они жили в разных городах. Потом он оказался в Париже, вошел к ним в дом, и она… его не узнала, потому что успела забыть черты его лица. Это обидело философа, и идеальный брак не состоялся.
И вот она познакомилась с Жан-Мари Роланом.
От четырнадцати до шестнадцати лет, – писала она после этой встречи подруге, – я мечтала о благовоспитанном муже; от шестнадцати до восемнадцати лет – о муже с высоким умственным развитием; начиная с восемнадцати лет, я мечтаю о философе – в истинном значении этого слова. Таким образом, если я буду постепенно увеличивать мои требования, в тридцать лет меня лишь удовлетворит ангел в человеческом образе.
Мари увидела в Ролане философа-мудреца, хотя и занимал он далеко не философский пост инспектора мануфактур в городе Амьене. Но в ту эпоху философствовали все интеллигентные люди. Ролан, как и Мари, увлекается Платоном, Аристотелем, Руссо, Монтенем. Он показался ей удивительным человеком, она окрестила его именем античного мудреца Фалеса.
В XVIII веке во Франции модным было выражение «электризовать». «Вы меня электризуете», – говорил мужчина женщине, когда она ему нравилась. Рассказывая в письмах о Ролане, Мари говорит об «электрическом токе симпатии».
Он уезжает в Италию, потом возвращается, пишет ей патетическое письмо:
Вы жалеете, что я подвергался опасностям на море и от разбойников, – напрасно; все это ни на минуту не устрашило меня. Я готов умереть, и только друзья помешали мне закончить счеты с жизнью.
Так писали в XVIII веке мужчины женщинам, когда хотели им понравиться…
Я тронута, восхищена, я глубоко опечалена, – ответила ему Мари, – я жалею вас… Если бы я менее вас уважала, я бы вас очень боялась. Ваше письмо заставило меня пролить слезы, и между тем я счастлива с тех пор, как получила его.
Я чуть было не повторил почти дословно: так писали в XVIII веке женщины, когда… Но нет! В этом письме есть фраза, единственная, уникальная, которую могла написать только одна женщина – Мари: «Как счастливы вы, что вызываете сострадание».
Их переписка все более утрачивает философичность, делается человечнее, интимнее; философские формулы заменяются полупризнаниями, цитаты из сочинений философов – словами, вырывающимися из сердца.
И вот он в Париже, и Мари, верная себе, дает ему понять, что она хочет не игры в любовь, а любовь без игры, единственную, настоящую, на всю жизнь.
Она требует твердого решения при расставании с ним.
Я должна соединиться вскоре с тобой, – пишет она ему, – в мире любви и доверия или быть для тебя лишь воспоминанием.
Так писали женщины во все века, когда любили.
И вот они соединяются в мире любви; забыты Плутарх, Руссо и Монтень; воцаряется покой и уют семейной жизни. Они живут в Амьене, потом, когда Ролана переводят инспектором мануфактур в Лион, – в его родовом доме близ Лиона.
С самого начала семейной жизни Мари Ролан уходит в повседневность, в будни с тем увлечением, с которым она раньше углублялась в философию.
Я могу говорить, – пишет она подруге, – лишь о собаках, которые будят меня лаем; о птицах, утешающих меня в бессонные ночи; о вишневых деревьях перед нашими окнами и телятах, что пасутся на дворе.
Она делается деревенским лекарем и после переселения в Лион, в родовой дом Ролана, забывает о Париже, о философских диспутах, пишет, что стала «тяжеловатой», воспитывает дочь, улаживает семейные конфликты между мужем и его родными. Кажется, что поклонница Плутарха и Руссо умерла. Но вот в одном из писем, посвященном домашней жизни, семейной атмосфере, которая была тяжелой из-за неладов с матерью Ролана, фраза-молния: «Никакая несправедливость не побудит меня быть несправедливой, и никогда я не стану мстить судьбе и людям иначе как добром».
Когда Ролан уезжает, она называет его в письмах «своим голубем», «возлюбленным своего сердца».
Многие исследователи жизни этой женщины пишут об этом «сельском периоде» с удивлением и даже с нескрываемым разочарованием. Действительно, кажется, что, если бы не революция, «была бы верная подруга и добродетельная мать». Не больше. Но разве поведение человека в повседневности менее существенно, чем в обстоятельствах возвышенно-философических или исключительно-героических? Повседневность – тяжкое испытание, и выдержать его не легче, чем испытания более эффектные.
Да, она забывала Плутарха, но она не забывала человечность. Да, она не раскрывала тома Руссо, но она раскрывала сердце в общении с крестьянами. Да, она не философствовала, но она жила. Любила мужа, растила дочь, ухаживала за больными, сажала деревья, не чуралась черной работы, вносила мир в малейшие раздоры. Перестав философствовать в письмах и беседах, она вела философский образ жизни, что неизмеримо важнее для человека и мира. Она утратила тот несколько сентиментально-возвышенный пафос, который был вообще характерен для ее времени, но не утратила чувства юмора. В сущности, сама того не сознавая (в письмах она иногда со стыдом писала о том, что отстает от философии и поэзии), она воплощала в жизнь те идеалы, которые воодушевляли ее в юности при чтении великих томов. Она жила сосредоточенно и достойно. Она из деревни писала:
Унции беспечности и бессердечия были бы полезны мне в физическом отношении, но лекарство это не купишь в аптеке, да оно и отвратительно мне…
Этот буднично-повседневный период ее жизни не менее важен, чем более ранний: возвышенно-философский и более поздний: героический – без него не было бы между ними «надежного моста».
Но история ее жизни, ее души далеко не кончалась в мирном, а точнее, в немирном родовом доме инспектора мануфактур Ролана.
Разумеется, они не жили отшельниками: у них бывали молодые люди, и мадам Ролан очаровывала их. В тот век не особенно строгих нравов она вела себя абсолютно «несовременно» с точки зрения ее поклонников: она останавливала их на первых полупризнаниях.
В письмах из Лиона она не перестает повторять, говоря о Ролане: «Человек высоких достоинств, которого я люблю всей душой».
Она повторяет это чересчур часто, тревожно часто, будто бы завораживая самое себя.
Идут однообразные дни – забыты и остальные любимые занятия: английский язык, итальянский, музыка…
Письма ее все будничнее, все тяжелее, но не исчезает ощущение достойно и честно выполняемого долга:
Порядок и мир во всем, что окружает меня, что доверено мне, – вот все мои заботы и все мои удовольствия.
Но в большом мире не было ни порядка, ни мира. В 1788 году до деревни близ Лиона доходят вести о первом столкновении парламента с королем. С этой минуты все симпатии Мари Ролан на стороне народа. В ней очнулась, страстно заговорила ученица Плутарха, Монтеня, Руссо. Если еще недавно она писала одному парижанину, что для нее капуста дороже наук, скотный двор интересней великолепнейших коллекций и она не понимает, чем можно заниматься, если нет уборки винограда, то теперь мирные, сельские, домашние интересы оттеснены, забыты – и уже навсегда.
Друзья человечества, поклонники свободы, – писала она через несколько лет в тюрьме, – мы думали, что явились в мир, чтобы снять позорное клеймо бедности с несчастного сословия, возбуждавшего в нас такое глубокое сострадание. Мы восприняли революцию с восторгом.
Но я пишу сейчас не историю Великой французской революции, а историю жизни одного человеческого сердца, поэтому, отвлекаясь от грандиозных событий, что разыгрывались вокруг госпожи Ролан все более бурно[7]7
Муж ее был избран депутатом Национального собрании, потом стал министром внутренних дел, потом был низвергнут…
[Закрыть], сосредоточусь на той интимнейшей сфере человеческого духа, которая и составляет содержание моей книги.
Стендаль, явившийся в мир позднее, чем госпожа Ролан, писал о четырех родах любви: он исследовал любовь-страсть, любовь-влечение, физическую любовь и любовь-тщеславие…
Стендаль любил научно точную классификацию. Опыт сердца Мари Ролан разрушает ее. Она пережила любовь сентиментально-рассудочную к молодому философу Лабланшери; любовь – идеальное самопожертвование на благо пожилого философа, который не хотел обижать жену и детей; высоконравственное чувство к мужу и… самое интересное в жизни сердца лишь начиналось!
Из Лиона она пишет пламенные патриотические письма парижанам, которые некогда посещали ее маленький философский салон. Она воодушевляет их на то, чтобы возродить идеалы античной республики. Она наблюдает за выступлениями поклонников Руссо и Плутарха в парижской печати, замечает имя Банкаля, пишет ему романтически-политическое письмо: «Не отрадней ли бороться за счастье целой нации, чем для счастья собственного» – и вызывает у Банкаля желание познакомиться с ней лично; тот едет в Лион.
Мари Ролан – тридцать пять лет, она была в расцвете телесных и душевных сил, по воспоминаниям современников, «красива, как никогда». И Банкаль, увидев ее, начинает мечтать не только о счастье целой нации, но и о счастье собственном, вопреки данному ею возвышенно-философскому совету. Он возвращается в Париж, и начинается в жизни сердца Мари новый период, удивительно созвучный и по форме и по содержанию духу эпохи, – роман в письмах.
Банкаль был воспитан на высоких идеалах лучших философов всех времен и народов, и поэтому по возвращении в Париж он написал письмо не Мари, а Роланам – мужу и жене, – в котором не скрывал (точнее, почти не скрывал) чувств, родившихся в его сердце после посещения Лиона.
Ответ госпожи Ролан замечателен; известный историк Французской революции Мишле называет его «неоцененным свидетельством нравственной ее чистоты и девственности сердца».
Я берусь за перо, – пишет она Банкалю, – не взвешивая и не зная, что скажу вам. В голове у меня много разных мыслей, которые, без сомнения, мне легче было бы выразить, если бы они сопровождались чувством менее бурным… Воля моя безупречна, сердце чисто, и между тем я неспокойна. «Она составит величайшую отраду нашей жизни, – пишете вы, – и мы не будем бесполезны для наших ближних»; вы говорите это о дружбе, связывающей нас, но эти утешительные слова не возвращают мне еще спокойствия… Это потому, что я не уверена в вашем счастье, – потому что мне показалось, что вы связываете его отчасти с условиями, которые ложны в моих глазах, с надеждами, которые я должна воспретить…
Без сомнения, – говорит она в том же письме, – привязанность, которая сближает нас, должна придать новую прелесть и цену нашей жизни. Без сомнения, добродетели, которые может развить или поддержать подобная привязанность, должны быть возвышенны и плодотворны: вот основа моей веры; вот скала, поддерживающая меня среди сильнейших волнений бури, но кто может предвидеть влияние волнений слишком сильных или слишком часто возобновляемых? Не должно ли избегать их, если бы даже следствием их была лишь та слабость духа, которая временно унижает нравственное существо человека, делает его неспособным стоять на высоте своего положения? Но нет, я ошибаюсь, – вы далеки от этого: вы можете испытывать иногда грусть, но неспособны падать духом; между тем только слабость может привести к унынию или к попутным увлечениям. Вера в вашу силу поддерживает меня… Сообщайте мне, или лучше – нам, о ваших действиях и проектах, о том, что вы знаете об общественном деле и что предполагаете предпринять для него.
Почему эти строки, которые я вам пишу, – говорит она дальше, – не могут быть посланы иначе, как под покровом тайны? Почему приходится скрывать от взоров людских чувство, в котором нет причины стыдиться и перед высшим божеством. Когда мы увидимся с вами – вопрос, который я часто делаю себе и который не смею разрешить…
Прекрасные дни, которые мы провели с вами здесь, сменились непогодой; в самый вечер вашего отъезда погода изменилась и по случайности, не обычной в это время года, не проходило дня в течение всей недели, чтобы не слышны были раскаты грома. Гроза надвигается и в настоящую минуту; мне нравится величественный мрачный характер, который она придает окружающей природе; но если бы вид ее был ужасен, она не внушила бы мне чувства страха. Явления природы, заставляющие бледнеть, падать духом слабого, на чувствительного человека, поглощенного великими интересами, производят лишь относительное впечатление, всегда менее потрясающее, чем те, которые происходят в его собственном сердце.
Письмо это написано 8 октября 1790 года. Через двадцать дней она ему писала:
…Бывают такие разлуки, в которых расстояние не имеет почти значения… Что представляет пространство для друзей?
И, как бы боясь, что личным она отвлекает от революции, она пишет:
Великие интересы общественного дела представляют достойные предметы для вашей деятельности. Патриоты должны поддерживать священный огонь…
В ноябре 1790 года Банкаль уехал в Англию, их переписка делается реже. 11 февраля 1791 года она уведомляет его, что едет с мужем в Париж.
…Я буду откровенна и признаюсь вам даже, что обстоятельство это вызывает во мне раскаяние в том, что я убеждала вас поскорее возвратиться из Англии. В этом положении есть бесконечно много оттенков, которые живо чувствуются, но не могут быть выражены словами. Но одно ясно, и это я вам откровенно выскажу, – я бы не желала, чтобы вы когда-либо руководствовались в вашем образе действия временными соображениями и частными привязанностями. Помните, если мне нужно счастье друзей моих, счастье это (для тех, которые думают и чувствуют, как мы) обуславливается полной безупречностью. Вот точка, где мы, надеюсь, всегда встретимся, и она настолько возвышенна, что мы можем соединиться в ней, несмотря на превратности мира.
Романы в письмах живут лишь в письмах. После переезда Роланов в Париж в ее отношениях с Банкалем исчезают романтические оттенки и углубляется общность политического мировоззрения.
Они по-прежнему обмениваются письмами, когда он уезжает из столицы по делам революции в те или иные департаменты, но это уже чисто политическая переписка. Она не стала менее романтической, нет; она пишет ему о пламенной любви к добру, об «отважной твердости духа, которая сокрушает невзгоды судьбы», но так же, как раньше, в деревенский период ее жизни, Монтень и Плутарх жили «под пеплом» (ее собственное выражение тоже из писем мирного сельского времени), так же теперь «под пеплом» живет и тайная жизнь ее сердца. До встречи с Бюзо… (К нему обращено то письмо перед казнью, с которого мы начали рассказ об этой женщине.)
Франсуа Николай Леонард Бюзо был деятелем партии Жиронды, близким к Ролану.
Это был самый тяжелый период ее жизни – и потому, что Французская революция вошла в ту трагическую полосу массового террора, когда стала, подобно мифическому Сатурну, пожирать собственных детей, и потому, что любовь-страсть к Бюзо вызвала в ней мучительную борьбу с пониманием нравственного долга перед мужем.
В мемуарах, написанных накануне казни, она рассказывала, что после ареста испытала радость от того, что теперь любовь может не бороться с ее нравственным «я».
Мари Ролан, кажется мне порой, создана гением Стендаля[8]8
Именно поэтому я и помещаю главу о ней после главы, посвященной Стендалю.
[Закрыть]… Она напоминает его героев величием души, нравственной чистотой, мужеством, возрастающим в минуту опасности. Напоминает она героев Стендаля и одной совершенно замечательной чертой: подобно Жюльену Сорелю из «Красного и черного» и Фабрицио из «Пармской обители», она в тюрьме узнает полноту и покой любви…
То бесценно-человеческое, что вкладывал Жюльен Сорель, обращаясь к госпоже Реналь во время их встреч после суда, ту надежду и ту страсть, что были во взглядах Фабрицио, когда он из башни высокой темницы наблюдал за Клелией, ухаживающей за канарейками, – все это Мари Ролан вкладывала в письма к Бюзо из тюрьмы.
Не жалей меня, – писала она ему, – в моем одиночестве я ближе к тебе, чем прежде. Благодаря лишению свободы я могу пожертвовать собой мужу и всецело принадлежать тебе, согласуя любовь с чувством долга.
Четыре дня назад мне удалось достать твой портрет, который по какому-то суеверию я не хотела брать с собой в тюрьму… Он спрятан ото всех взглядов… Мне не верится, чтобы судьба предназначала одни испытания чувствам столь чистым и достойным ее покровительству. Мысль эта дает мне силу выносить жизнь и спокойно ожидать смерть. Будем же с благодарностью пользоваться теми благами, которые даны нам. Кто умеет любить так, как мы, тот способен на великое, тот получает награды за самые тяжелые жертвы, возмездие за все горести.
Упоминая о Ролане[9]9
Он скрывался тогда вдали от Парижа.
[Закрыть], она пишет, что освобождение из тюрьмы возобновило бы узы, соединяющие ее с мужем. И узы, возлагаемые возвышенным пониманием долга, тяжелее тюремных оков, страшнее эшафота.
Ты не можешь представить себе, – говорит она Бюзо в одном из самых странных писем к нему, – как привлекательна жизнь в тюрьме, где не требуется тяжелых нравственных жертв, где можно отдаться влечениям сердца, где ревнивый взгляд не следит за выражением чувства. Возвратившись к истине, можно, не оскорбляя прав или привязанностей кого-либо, обрести духовную независимость среди кажущейся неволи… Независимость эту я не позволяла себе искать ценою счастья другого, – счастья, которое было так трудно мне поддерживать. Я принадлежу лишь тому, кто любит меня и кто достоин моей любви. Продолжай начатое дело, будь полезен Отечеству, – каждое из твоих деяний внушает мне радость и гордость.
По воспоминаниям современников, в повседневности тюрьмы (а в тот период революции тюрьма, к сожалению, стала трагической повседневностью) Мари Ролан вела себя с тем же достоинством, что и в обыденной сельской жизни. Она и тут была лекарем-утешителем.








