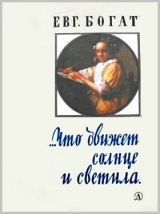
Текст книги "…Что движет солнце и светила. Любовь в письмах выдающихся людей"
Автор книги: Евгений Богат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Когда мы читаем письма Грановского к невесте, нам известно, что ничего плохого с их любовью не будет. Наоборот, она станет лишь нежнее и ярче. Четырнадцать лет они будут радовать и утешать друг друга, пока он не умрёт, целуя ее руку… Он умрет, целуя ее руку и любя ее ничуть не меньше, чем в те июньские дни 1841 года…
В одной из самых последних записок к ней (он настолько тосковал при любом, даже недолгом, «минутном» расставании, что посылал ей то и дело записки) он объяснил, почему тоскует: «Я люблю жизнь только потому, что встретил тебя. А ведь это был случай. Без тебя я не хотел бы жизни». Да, нам известно, что их любовь не умрет, и все же чувство тревоги велико, потому что нам хорошо известно, чем была николаевская Россия…
Грановский был, пожалуй, единственным из выдающихся людей той эпохи, который не был объявлен сумасшедшим, как Чаадаев, не был убит у барьера или в постели – пулей или насилием над мыслью и душой, – как Лермонтов или Белинский, не уехал за границу, чтобы оттуда бороться с самодержавием, как Герцен и Огарев; оставаясь в России, он даже чуть перешагнул за рубеж мрачного царствования, пережил на несколько месяцев Николая I.
Но, оставаясь в николаевской стране-тюрьме, где царили шпицрутены и доносы, он не пошел ни на малейшую нравственную уступку, ни в чем не отступил от высоких идеалов юности, был во всем верен себе до конца. Герцен писал о нем: «…говорили не только его речи, но и его молчание». Царизм тревожно ощущал молчание Грановского. После очередного доноса – а доносы шли на него кипами – он вынужден был нанести визит московскому митрополиту Филарету, тому самому печально известному Филарету, который после казни пяти декабристов отслужил в Московском Кремле благодарственный молебен.
«Я давно слежу за вашей деятельностью, – сказал ему митрополит, – она оказывает сильное влияние на умы юношества, талант ваш известен, но в вашей деятельности есть что-то скрытое, в ней будто бы таится невысказываемая мысль».
Эту «невысказываемую мысль» хорошо ощутили те, кто стоял у власти. Грановский ни разу не формулировал ее с кафедры Московского университета; рассказывая о минувших веках, он как будто ничего не говорил о сегодняшнем страшном русском дне. Его будто бы не за что было арестовывать, заключать в Петропавловскую крепость, ссылать в Сибирь. И в то же время, обладая талантом переживать историю человечества как историю личную, он поднимался на эшафот с революционерами, на костер с еретиками, он воспитывал в юношестве ненависть к деспотизму и тирании, сострадание к павшим борцам, гуманное отношение к человеку. И сама его личность, даже этот внешний облик старого рыцаря, величавые черты лица, начисто отвергающие всякую форму рабства, сама его личность с ее непримиримостью к унижению, бесчеловечности, с ее высоким пониманием достоинства человека, досказывала то, что не досказывали обращенные будто бы только в минувшее речи: совесть не может мириться с николаевским режимом!
Эта борьба нелегко ему давалась, она требовала огромных душевных сил. «Какой-нибудь поздний историк, – говорил Грановский, – будет умно и интересно объяснять то, что теперь совершается, но каково переживать это нам…»
В конце концов Николай и его убил. Грановский умер сорокадвухлетним, истощив в борьбе за человечность все телесные и душевные силы. «Если бы не жена, – говорил он иногда, – я охотно ушел бы из жизни».
Если бы не жена и не Россия – они давно соединились в его сердце воедино.
Диву даешься, как он выдержал эти последовавшие за тем июнем 1841 года четырнадцать лет! Его спасла невеста, жена, любовь.
Чувство к Лизе помогло установлению во внутреннем мире Грановского того равновесия между сердцем и мыслью – при все большем «утяжелении» сердца – той гармонии, которая была для него источником сил.
В эпоху, когда мысль убивали, как живого человека, чувство занимало в жизни мыслящей личности особое место; оно жило и за себя и за мысль. Оно выполняло как бы двойную работу; а чувство убить труднее, оно жизнеспособнее, живучей мысли. В мертвые эпохи, подобные николаевской, потребность жить чувством, сердцем бывает особенно велика у людей самых мыслящих. Можно объявить высочайшим указом сумасшедшей мысль, как поступили с Чаадаевым, но нельзя объявить сумасшедшим сердце. Нелепо объявлять его сумасшедшим; оно и должно таковым быть. И остается ненавидеть человека за «невысказываемую мысль», которая тем не менее ясна.
Но вернемся к его письмам из Погорельца летом 1841 года.
Сможешь ли ты когда-нибудь простить мне те глупости, которые я тебе писал и которые так тебя огорчили. Я едва не заставил тебя расплакаться! Мамочка моя, будь великодушна к несчастному негодяю, который только тем единственным достоинством и обладает, что любит тебя. Я много рассуждаю, но лишь затем, чтобы сохранить рассудок. Пиши мне столько, сколько можешь, но не кради часы у сна (я ведь угадал?) и будь уверена, отныне ты не услышишь из моих уст ни одного упрека. Нехорошо тебе говорить, будто я люблю тебя меньше, чем прежде. С чего ты это взяла? Ты говоришь еще, будто я резок с тобой, мой бедный баранчик, будто я хвастаю тем, что не сплю до часу ночи, чтобы писать к тебе.
Во всех случаях я признаю себя виновным, хотя и не в той мере, в какой считаешь меня виновным ты. Мое главное преступление в том, что я едва не заставил тебя плакать, притом, что самое страстное мое желание – уберечь тебя от слез. Но если мне и случалось иной раз огорчить тебя, поверь, я вовсе этого не хотел. Ты еще будешь в этом сомневаться? Ты в самом деле считаешь, будто я стал любить тебя меньше, чем перед отъездом? Мои сестры могут за меня поручиться, если ты не веришь моим словам. Скажи, что нужно, чтобы любить сильнее, я все исполню, но полагаю, что ни больше, ни меньше для меня одинаково невозможно. Мои слова теряют что-то от слишком частых повторений.
И наконец:
Это мое последнее письмо к тебе, 15-го вечером или 16-го утром надеюсь увидеть тебя.
Они и увиделись в Москве 16 июля 1841 года.
А 15-го вечером у подножия горы Машук был убит Лермонтов.
Странный русский роман
Часть 1. Шелгунов и Шелгунова«Четырнадцатилетней девочкой я перешла в старший класс и воображала себя большой. Не понимаю, каким образом я могла переходить из класса в класс, да еще вдобавок считаться хорошей ученицей? Мне думается, что я тогда ровно ничего не знала, хотя и перешла в старший класс. Раз как-то в субботу вечером, когда я вернулась откуда-то с братом домой, мать встретила нас такой фразой:
– А у нас Коля Шелгунов.
Услыхав, что Николай Васильевич у нас, мы опрометью бросились в зал, и я вдруг остановилась в смущении. Я была уже в длинном платье, и Н[иколай] В[асильевич] вместо шумных объятий и поцелуев только сказал:
– Да Людинька совсем большая!
С этого дня Шелгунов стал к нам ходить сначала каждую неделю, а потом уж и каждый день. Я вышла из пансиона и серьезно занималась музыкой.
Мать не вмешивалась в наши разговоры, как не вмешивалась в те книги, которые я читала по указанию Н[иколая] В[асильевича]. Она была твердо уверена, что я выйду за него замуж, и говорила:
– Он воспитывает себе жену, и мне мешаться не для чего».
(Л. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»)
Май 1848 г.
Отчего так трудно написать к Вам письмо? Принимаюсь уже за четвертое: два письма разорвал, усладительное написать не смею, не имею на то права, жесткое не могу, а между тем мне хочется сказать Вам: один бог на небе, один дядя на земле, который умеет любить так свою племянницу[30]30
Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) – революционный демократ, соратник Н. Г. Чернышевского. Л. П. Шелгунова, в девичестве Михаэлис (1832–1901), была дальней родственницей Н. В. Шелгунова, и поэтому в письмах, когда она была его невестой, он шутливо называет ее племянницей.
[Закрыть], как я…Не знаю, все ли люди созданы так глупо, как я, – представьте – мне необходимо, нужно иметь подле себя человека, которого я люблю, если же это невозможно, то из окружающих меня людей я избираю одного, на которого обращаю всю свою нежность…
Март 1849. Гатчина
Людинька! Вы просите меня отвечать на каждое Ваше письмо отдельно, – но это сделалось уже невозможным: я прочел все, что Вы мне пишете, и отвечаю и буду отвечать постоянно на весь Ваш журнал. – Я не мог удерживать себя долго и на первой же станции начал читать Ваш журнал, – прочитав первое письмо, первый дневник, я почувствовал, что слезы выступили у меня на глаза, мне сделалось жарко, очень жарко, Людинька, мне сделалось стыдно за себя, мне казалось и кажется, что я не стою Вашей любви, я не умел ценить и я не умел понять Вас, Людинька, простите меня, – мои слезы должны извинить меня пред Вами, и я желал бы надеяться, что Вы простите меня. Разве я не люблю Вас? Нет! Я люблю Вас, как только может любить одна живая душа другую душу – моя вина постоянная в том, что я не умею быть кротким, что я раздражителен слишком с Вами, но разве это не оттого, что я люблю Вас более себя, и это не фраза, не мертвое слово, но живая истина, подсказанная моим сердцем. Если бы я жил с Вами, все лучшее, удобное было бы Вашим, – моим бы было только все необходимое для человека, как животного. Я сумел бы сидеть даже на гвозде и был бы совершенно счастлив в уверенности, что вклады удобства на Вашей стороне, мне достаточно было бы корки черствого хлеба, и я был бы сыт и счастлив, зная, что через это я могу доставить Вам кусочек более сладкий – я спал бы на сырой земле под дождем и уступил бы Вам свой последний плащ, зимой, в холод, я покрыл бы Вас своим платьем и согрел Ваши рученьки и ножки своим дыханием, своими поцелуями, неужели это не любовь? Если я был с Вами дерзок, капризен, то оттого, что я не знал Вас вполне и не умел ценить Вас, Людинька, мне стыдно за себя в прошлом, мне досадно на себя…
Пятница 18-е марта (1849)
Витебск, 56 минут 8-го
Два дня я не читал Ваш журнал, Людинька, но сегодня прочитаю его непременно, прочитаю и поцелую. Целуя Ваши вещи, я думаю: «Людинька, я люблю Вас» – и целую их и наслаждаюсь. Как счастлив человек, который имеет кого любить! В своем настоящем положении я не желаю ничего лучшего, – но могу ли я желать? Может ли человек иметь большее счастье? Не думаю. Сегодняшние мои мечты были и приятны и неприятны, я заглянул слишком вперед и за эту дерзость воображение мое наказало меня. Я был уже женат, жена любила меня сначала, потом перестала любить.
Витебск, 19 марта 1849
Суббота 49 минут 12-го утром
Людинька, заклинаю Вас своею любовью, ведите журнал, пишите в нем все, что Вы чувствуете, все, что Вы думаете, все, о чем Вы мечтаете – пишите, не думая, что этот журнал Вы дадите мне, а между тем все-таки отдайте. Из нескольких листов Вашего журнала я узнал Вас более, чем из всего нашего четырехлетнего знакомства.
Если я буду жить в Самаре, то буду непременно вести журнал, вести журнал точно так же, как веду его теперь, у меня не будет ни одной такой мысли, которую бы Вы не знали, буду писать все, что будет думать моя голова, все, что станет чувствовать мое сердце, – и обо всем этом будете знать Вы, моя Людинька, потому что такой, как я есть, буду существовать только для Вас, Людинька, довольны ли Вы мной? Согласны ли Вы действовать таким образом? Согласитесь, прошу Вас. И отчего Вам не согласиться? Разве я не знаю, что у Вас есть сердце? Разве я не знаю, что это сердце умеет чувствовать? Я знаю все, значит, Вам нечего скрывать от меня.
…Я не хочу думать, я хочу говорить Вам… «Людинька, я люблю Вас, люблю Вас очень, очень, несмотря на то, что Вы говорили, будто бы я люблю Вас менее, чем Вы меня, мне кажется, однако, что вы ошиблись, я не скажу Вам, что я люблю Вас более, чем Вы меня, но уверен, что люблю не менее…»
(Карандашом без даты)
…Для меня Вы, Людинька, такое лучезарное светлое существо, которому я поклоняюсь, и я Вас боготворю, вижу в Вас светлый, чистый, прекрасный человеческий образ, далекий грязных понятий остальных женщин, и потому уважаю Вас, Людинька, умоляю Вас, сохраните навсегда ту чистоту души, которою Вы владеете теперь…
18-го апреля
Я скажу вам, что думаю о поцелуях: большинство людей стремятся к телесным наслаждениям; в эти минуты человек забывает свою духовность, забывает все, а потому эти минуты называются минутами счастья, но есть еще минуты – минуты высшего наслаждения, когда не чувство телесности управляет нашими действиями, но чувство бескорыстное, чувство высокой, чистой любви, дружбы. Поцелуи первого чувства хороши, но они часто оставляют за собою чувство разочарования, но если поцелуй будет результатом второго чувства, то легко делается на душе человека и нет в сердце его другого ощущения, кроме прекрасной высокой радости, радости безотчетной и чистой, которая оставляет по себе вечное, приятное воспоминание. Причину этих двух противоположных результатов Вы понимаете: в первом случае действует материализм, во втором – духовность. Я могу быть материалистом, я это знаю, но не хочу быть им относительно Вас, мне кажется, я оскорбляю тогда мое чувство, я оскорбляю Вас.
19-го апреля
Во мне странным образом делится человек – я не могу согласить духовного с телесным, и оттого во мне два отдельных человека. Относительно Вас во мне почти всегда действует духовный человек…
Самара [31]31
Н. В. Шелгунов учился в Лесном институте и, окончив его, в 1842 году получил чин подпоручика и место таксатора в лесном департаменте. В 1849 году он был послан в Самару, где служил при управлении казенными землями до 1851 года.
[Закрыть] . 27-го июняЛюдинька! Вам известны мои некоторые недостатки, которые я сознаю в себе, Вам известно, что я властолюбив, горд и не люблю быть вторым там, где я могу быть первым.
Вы говорите, что я не великодушен; выслушайте меня: я не великодушен с сильными, не уступлю равному бойцу и буду драться с ним насмерть до тех пор, пока он не положит оружия, я первый не положу его никогда, но со слабым я не тот. Вы видели это на себе, дерзости и неприятности я говорил Вам всегда до тех пор, пока я видел, что Вы боретесь со мною. Желчь кипела во мне до тех пор, пока я не видел, что огорчил Вас действительно, а когда сожаление и раскаяние сменяли во мне досаду, я готов был просить у Вас прощения…
Самара. 2-го сентября
…Читая Ваш дневник, где Вы говорите, чего требуете от своего мужа, я чувствовал, что мое сердце сжалось, и я испугался за себя. Людинька, Вы хотите, чтобы муж был в зависимости от жены, и тогда только видите возможность равенства…
…Жизнь супругов должна быть основана на товариществе, в котором равенство есть первое основание благоденствия. Понимая, что я муж, я подчиняюсь своей жене, я буду делать только то, что захочет моя жена, я убежден, что добрая, любящая, нежная жена всегда больше своего мужа, потому что на ее стороне сердце. В деле подчинения выйдет то, что вы хотите, но основанием подчинения будет не Ваша идея. Вы хотите, чтобы муж подчинялся жене по закону равенства и по убеждению, что жена лучше сумеет управлять супружеским счастьем, а я подчиняюсь своей жене как существо, сознающее свою силу и крепость, которое отказывается от этих прав, потому что хочет находиться под влиянием любви. По-Вашему выходит, что женщина – глава, потому что она сильнее, по-моему же потому только, что она слабее… Вот мысль, которую я хотел передать Вам…
(Из писем Н. В. Шелгунова к А. П. Михаэлис)
«Ровно через год после отъезда Н. В. в Самару мы были обвенчаны в Выборге и поехали в своем тарантасе в Самару.
Денег у нас было так мало, что мы должны были соблюдать экономию во всем, но это нисколько не мешало нам веселиться…
Молодежь собиралась (у нас), рассуждала, спорила, кричала, горячилась и, закусив самым скромным куском, расходилась…
Когда Самара стала губернским городом, то, конечно, наехало множество новых чиновников. Один из них и перетащил Николая Васильевича в Петербург…
Мы наняли крошечную квартиру в Большой Конюшенной».
Часть 2. Шелгунов, Шелгунова н Михайлов[32]32(Л. П. Шелгунова «Из недалекого прошлого»).
Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) – член редакции «Современника», соратник Чернышевского и Добролюбова; поэт, переводчик, прозаик.
[Закрыть]
«Зимой 1855/56 года Михайлов через Пекарского[33]33
Пекарский Петр Петрович (1827–1872) – исследователь русской литературы, историк, сотрудничал в «Современнике».
[Закрыть] познакомился с Шелгуновыми, с которыми очень сблизился.
Жена Николая Васильевича Людмила Петровна Шелгунова переживала тогда еще свою молодость. Живая, общительная, она собирала вокруг себя большое общество друзей и поклонников.
…В жизни Михайлова она сыграла исключительную роль. Знакомство с поэтом, происшедшее чрезвычайно оригинально в маскараде, превратилось в дружбу и сменилось любовью, глубоким и сильным чувством, по крайней мере со стороны Михайлова. Эти отношения с Людмилой Петровной не мешали ни его искренней дружбе с Николаем Васильевичем Шелгуновым, ни столь же сердечным отношениям Н. В. к жене.
Наружность его была очень оригинальна: маленький, худенький, с остренькими чертами лица и с замечательно черными густыми бровями. Веки глаз у него были полузакрыты; в детстве ему делали операцию, но все-таки веки лишены были способности подыматься, вследствие чего глаз почти не видно было, и Михайлов носил большие очки; губы у него были до того яркого цвета, что издали бросались в глаза. Михайлов сшил себе летний серый костюм, и Тургенев уверял, что в сумерки он может испугать, так как он похож на летучую мышь».
(Из воспоминаний современников)
«С Михаилом Ларионовичем Михайловым познакомил меня тоже Пекарский (они были земляки)… Не припомню точно, когда я познакомился с Михайловым, но к концу Крымской войны мы уже были знакомы очень близко…
Михайлов был небольшого роста, тонкий и стройный. Он держался несколько прямо, как все люди небольшого роста. В его изящной фигуре было что-то такое, что сообщало всем его манерам и движениям стройность, грацию, какую-то опрятность. Это природное изящество сообщалось Михайловым всему, что он носил. Галстук, самый обыкновенный на других, на Михайлове смотрелся совсем иначе, и это зависело от того, что Михайлов своими тонкими „умными“ пальцами умел завязать его с женской аккуратностью и изяществом».
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания).
«Вчера был вечером у Шелгунова, жена его очень милая дама и большая музыкантша.
Недавно Михайлов М.Л., влюбленный в нее всем пылом первой юношеской страсти, с замиранием в сердце признавался мне, что он пользуется взаимностью, что он счастлив…»
«Познакомившись с Людм. Петр. Шелгуновой зимою 1855/56 года в маскараде, Михайлов связал с нею всю свою жизнь. Знакомство скоро перешло в дружбу и сменилось обоюдной любовью. Произошло то, что бывало довольно часто в шестидесятых годах. Не желая стеснять свободного чувства своей жены, полюбившей другого, Н. В. Шелгунов уступил место своему другу, сохранив, однако, свои дружеские отношения и со своей прежней женою и со своим другом. Михайлов поселился в одной квартире с Шелгуновыми. Дружеские отношения между этими тремя людьми не нарушались. Михайлов еще более, чем прежде, любил Шелгунова, который постоянно в своих письмах к Людмиле Петровне говорил о Михайлове в самых дружеских тонах. У Михайлова и Шелгуновой был сын Михаил…»
(Из воспоминаний современников).
Уральск, 25-го февраля 57-го г.
Милый друг, Николай Васильевич!
В настоящую минуту у меня три желания; во-первых, обнять тебя поскорее, во-вторых, быть таким же хорошим человеком, как ты, чтобы тебе не совестно было обнимать меня; в-третьих, быть богатым, чтобы не брать никаких поручений от морского министерства, и если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь. Но, взявшись за гуж, будь дюж. Надо хоть в исполнении этой пословицы быть похожим на тебя. Я по-мужски стараюсь об этом…
(Письмо М. Л. Михайлова к Н. В. Шелгунову).
Вот, наконец, после долгих скитаний, я вернулся. Вчера приехал я в Лисино[35]35
Лесничество, в котором работал Н. В. Шелгунов.
[Закрыть] и застал здесь одну Л[юдмилу] П[етровну], Ник[олай] Вас[ильевич] в П-бурге. У меня так хорошо и светло на сердце, что и описать тебе трудно. Да ты поймешь, впрочем. Я приехал из родных мест, а между тем родина моя здесь, а вовсе не там. Как это у Лермонтова-то? «Где любят нас, где верят нам». Отрадное чувство – сознавать, что есть такая родина для сердца. Надо бы рассказать тебе всю историю моего странствия и возврата, но у меня нет на то времени, ни достаточного спокойствия: я слишком счастлив и весел, что здесь теперь и что во время моего отсутствия ничто не изменилось из того, что для меня дороже всего на свете, как не переменился и сам я…(Письмо М. А. Михайлова к Я. П. Полонскому).
«Ко мне в Лисино приехал Михайлов и страшно захворал тифом с каким-то странным осложнением.
Михайлов… долго боролся со смертью. Когда он начал поправляться, то пускался даже на воровство, чтобы получить лишний крендель. Пойманный однажды мною у буфета, он не на шутку на меня рассердился.
Вот что писал мне Н[иколай] В[асильевич]:
…Все эти командировки и служебные треволнения до того отучили меня от Лисина, что я, не считая себя лисинским жителем и убежденный в переводе, сам не зная куда, жду чего-то – и не дождусь. Неловкость такого положения тем более неприятна, что хотелось бы упрочиться в Питере и все читать, читать и покупать книги. Людинька, ведь мы устроим библиотеку, а? и хорошую? Голубушка, прощайте, я здоров, ем, сплю, хорошо…
Отчего это мне хорошо только с Вами? Нет, не с одними Вами, а с М[ихайловым]…
Что у Вас в Лисине? Читаете, гуляете? А я не имею даже времени писать письма.»
(Л. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»).
Лисино, 31-го августа (57-го г.), ночь
Теперь в Лисине тишина – все спят, я же сижу у постели нашего общего друга Михайлова. Он очень болен, опасно болен, я в таком горе, что чуть не растерялась…
(Письмо Л. П. Шелгуновой к Я. П. Полонскому).
Мы приехали в Питер. Михайлов живет с нами, он чуть не умер…
(Из письма Л. П. Шелгуновой к Полонскому).
15-го июля 1858 года
Если человек может обойтись без другого день, он может обойтись неделю, месяц, вечность. Тут есть немного правды, но, кажется, есть и софизм. Правда в том, что мне не хотелось бы, чтобы она применилась ко мне и к Вам.
(Из письма Н. В. Шелгунова жене, которая тогда была в Дрездене).
«В январе 1859 года я вернулся в Париж, а в конце февраля… отправился в Лондон. Михайлов уехал дня за три ранее, чтоб приискать, между прочим, квартиру. В этом ему помог Герцен…
Я видел Герцена в апогее его популярности: лондонские издания его и „Колокол“ расходились с возрастающим успехом. Обращение его было простое, дружеское, с ним было легко и свободно… Огарев появлялся только к обеду и к чаю и, распределяясь, должно быть, по тяготениям, я садился всегда рядом с Огаревым, а Михайлов – с Герценом».
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания).
«…В ту же зиму (1861) я написал прокламацию „К молодому поколению“, но мы решили печатать ее в Лондоне в „Русской печати“. Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня».
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания).
«Прокламация „К молодому поколению“ была распространена с большим шумом и с замечательной смелостью… Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш приклеивали к стенам, в концертных залах совали, как рассказывают, даже в карманы; а про прокламацию „К молодому поколению“ говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево…»
(А. П. Шелгунова. «Из недалекого прошлого»).
«На другой день после распространения прокламации „К молодому поколению“ (сентябрь 1861 г.) у Михайлова был обыск очень тщательный, окончившийся только к 7-ми часам утра. Ничего компрометирующего найдено не было…»
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания).
«У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят».
(Н. А. Добролюбов – Н. А. Некрасову).
«Арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературном кружке. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя».
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания).
13-го ноября 1861 г.
Милая моя Людмила Петровна и дорогой Николай Васильевич. Как ни уныл исход дела, а хотелось бы, чтоб решенье вышло скорее. Вы рисуете мне светлые картины: иногда, хоть и редко, они и мне снятся. Сегодня ходил гулять. День такой чудный, солнечный. Посмотрел через мерзлую Неву на ПБ. Хоть он и очень скверен и холоден, а все жаль будет кинуть его. Много тут было для меня и светлого и счастливого. Что это вы не писали мне, отняли ли Мишу от груди? Ради бога, лечитесь хорошенько. А ведь ты не ворчишь, голубчик Н[иколай] В[асильевич]? Не ворчи, пожалуйста. И так уже кумир разлетелся прахом. Как вздумаешь сердиться, вспомни, что есть такой человек, которому вдвое тяжелее покажется и горе и неволя, если он будет бояться этого… Мне бы доставило большое удовольствие, если б стихи мои, как вы писали, собрали и напечатали… Хотелось бы хоть что-нибудь оставить на память о себе, а стихи мои едва ли не лучшее из всего, что мною написано. Вот о каком вздоре говорю. Но уже так видно устроен человек… Завтра ровно 2 месяца, как меня вычеркнули из Жизни, а кажется уж бог знает, сколько времени прошло. Каково же 12 лет! Если доживешь, поседеешь, одичаешь и непременно поглупеешь. Хотел написать вам письмо веселое или, по крайней мере, бодрое, а тяну канитель. Простите, голубушка моя, прости, Н[иколай] Васильевич]… Как бы я хотел расцеловать милого соловушку Мишутку и понянчить его, и показать ему снежок беленький; этого ведь я еще не объяснял ему… Бумага к концу, а потому целую вас крепко и без счета, милые мои, милые друзья.
(Из письма М. Л. Михайлова из тюрьмы Н. В. и Л. П. Шелгуновым).
14-го сего декабря, в 8 ч. утра, назначено публичное объявление на площади перед Сытным рынком, что в Петербургской части, отставному губернскому секретарю Михаилу Михайлову высочайше утвержденного мнения Государственного Совета, коим определено: Михайлова, виновного в злоумышленном распространении сочинения, в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти для потрясения основных учреждений Государства, но осталось без вредных последствий по причинам от Михайлова независимым – лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на шесть лет.
(«Ведомости СПБ. Городской Полиции», 14 декабря 1861 г.).
«„Любовь и дружба“ – Л. П. и Н. В. Шелгуновы – нашли его и в ссылке. Они не оставляли своих забот о ссыльном друге все время. Они устраивали его литературные дела, поддерживали его материально, для чего пустили в лотерею часть большой библиотеки Михайлова. С Людм. Петровной Михайлов находился в постоянной переписке. В сибирских городах, которые проезжал Михайлов, его ждали письма Л. П. В своих письмах к ней он делился впечатлениями, планами, поручал ей помещение написанных им в Сибири рассказов и стихотворений.
Н. В. Шелгунов особенно тяжело переживал дело Михайлова, чувствуя долю своей вины в страданиях друга. Этим и объясняется та поездка, которую Шелгуновы предприняли, чтобы навестить Михайлова[36]36
Михайлов вел себя с большим мужеством после ареста и не назвал имя истинного автора прокламации, то есть Н. В. Шелгунова.
[Закрыть].
Они и поехали к нему в Сибирь на каторгу, где были оба арестованы: Н. В. Шелгунова увезли в Петербург в Петропавловскую крепость, А. П. Шелгунова осталась с ребенком в Иркутске под домашним арестом»
(Из воспоминаний современников).








