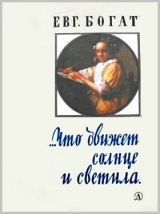
Текст книги "…Что движет солнце и светила. Любовь в письмах выдающихся людей"
Автор книги: Евгений Богат
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Сам он сумел соединить страсть с добродетелью.
Он сумел соединить страсть с добродетелью, потому что у него было большое сердце. (А. П. Чехов как-то восхищался тем неожиданно-бесхитростным определением, которое один мальчик дал морю: «Море было большое».) У Дидро было большое сердце.
Вот в череде «городских анекдотов» он рассказывает подруге и такой: одна бедная женщина явилась к человеку, который помог ей выиграть судебное дело; чтобы его поблагодарить, во время разговора она достала из кармана дешевенькую табакерку и собрала кончиками пальцев остатки табака. «Ах, у вас нет больше табаку, – сказал ее покровитель, – дайте мне вашу табакерку». И он положил туда два луидора, насыпал сверху табака, чтобы их не было видно.
«Такой великодушный поступок нравится мне…»
«Мне более по душе осушать слезы несчастным, чем разделять чужую радость».
Порой, рассказывая ей о том, что волновало старый Париж, он добавляет: «Философы много смеются над этими событиями».
Да, никогда философы не смеялись так много и так чистосердечно, как в XVIII веке. «Философы много смеются…» (Робеспьеру тогда было четыре года, он кормил голубей на пустынных улицах маленького города…)
В письмах Дидро к Софи ощутима смутная тоска по совершенному человеку, по человеку, который все может делать красиво: красиво любить, красиво шутить, красиво мыслить, даже… красиво играть в карты!
Дидро казался себе старомодным человеком, но на самом деле он был уже в открытом море, различая далекие берега новой жизни…
И вот он уехал, в конце концов, в Россию после долгих настояний его товарищей-энциклопедистов и самой Софи Волан, уехал не ради милостей Екатерины II, а потому что питал надежду содействовать освобождению русских крепостных и утверждению в Российской империи мудрого законодательства.
По дороге в Россию из Гааги он писал ей: «Где бы я ни находился волею небес, всегда буду носить любовь в своем сердце». «Разница в градусах широты не изменит моих чувств; и под полюсом вы будете столь же дороги мне…» «…Мы вновь увидимся, моя милая, нежная подруга!» Он называл ее, уже пятидесятилетнюю, «мое дитя».
Он вернулся, они увиделись, и долгими вечерами у камина он рассказывал ей, ее сестрам и матери о снежной России…
Когда-то он в одном из писем задал ей очередной «детский» вопрос: «Почему старики бывают красивы, а старухи нет?»
Она старела, ей исполнилось шестьдесят, шестьдесят пять – она стала старухой, – его любовь и нежность не убывали: она казалась ему по-прежнему красивой.
Накануне отъезда в Россию его чувство к ней выдержало, быть может, самое большое испытание, которое может выпасть на долю любви: испытание новой любви.
В 1770 году, когда Дидро было пятьдесят семь лет, он увлекся мадам Демо, сорокапятилетней красавицей, с которой познакомился на курорте. В большинстве жизнеописаний Дидро об этой его любви ничего не пишут, видимо не желая разрушить ощущение цельности его почти тридцатилетних отношений с Софи Волан. Но ложь не совместима с любовью и с повествованием о любви.
О волнениях этой последней любви Дидро писал другу, и почти в то же самое время он писал Софи Волан о нежности, о чувствах, которые испытывает к ней… Он лгал, лукавил? Нет! Искренность Дидро, как и его великодушие, вне сомнения. Все дело в том, что «милая подруга» стала для него настолько же родным человеком, как сестра, как мать, как нечто совершенно неотрывное от его сердца, она стала самой дорогой частью его души, и расстаться с ней было невозможно, как расстаться с лучшим в себе самом.
Когда Софи умерла, он, узнав об этом от дочери (Софи и дочь Дидро подружились в последние годы), выразил одно желание: уйти из жизни вслед за нею.
Через пять месяцев это желание исполнилось. Он умер за завтраком, жена обратилась к нему с вопросом, он не ответил.
Он умер без страданий, но жил он, страдая.
Когда-то, в самом начале любви к Софи, он пересказал ей в письме историю, услышанную от одного моряка:
Была сильная буря, она повалила мачты и паруса, матросы изнемогали от усталости, корабль без руля был отдан на волю волн и ветра, который гнал его на рифы. Люди ожидали крушения, и тут один матрос нашел в трюме старый парус, истлевший, испещренный дырами; он натянул его, как мог, и тем самым спас корабль: потому что новые паруса под напором массы ветра рвутся, как бумага, этот же устоял в борьбе с ветром – потому что был дырявым – и повел корабль…
Когда читаешь письма Дидро к Софи Волан, кажется, что достаешь из трюма тот самый спасительный старый парус.
А дыры в нем – раны в человеческом сердце.
Накануне
В 1818 году в жизнь Стендаля вошла великая любовь к Метильде Дембовской.
В 1817 году вышла его книга «Рим, Неаполь и Флоренция».
Читая ее, мы можем увидеть, исследовать те душевные состояния, из которых рождается любовь.
Он не любил, когда писал эту книгу.
Но его душа уже была открыта для великого чувства…
И ниже речь пойдет не о любви, а о том долюбовном состоянии человеческого сердца, без которого подлинная любовь немыслима.
Это был тяжелый период в жизни писателя; крах наполеоновской империи, реставрация Бурбонов, торжество политической реакции в Европе порой заставляли духовно богатых, нелицемерных, честно мыслящих людей раскрывать лучшие силы души в жизни не общественной, а частной. Стендаль сумел, путешествуя по Италии, изучая ее искусство, нравы, расширить сферу «частной жизни» до общечеловеческого, до «мировых уравнений…» (он увлекался математикой и любил естественнонаучные термины), до «мировых уравнений красоты».
В Милане ему посоветовали посмотреть собор в час ночи, когда восходит луна.
Царила изумительная тишина, – пишет Стендаль, – эти беломраморные пирамиды такого строгого готического стиля и такие стройные, устремленные в небо и четко вырисовывающиеся на его усеянной звездами темной, южной синеве…
Я оборву цитату на полуслове, чтобы тем явственнее было услышано:
…восхитительное мгновение.
И потом он еженощно ходил к собору ради этих «восхитительных мгновений».
Лишь человек, способный переживать подобные мгновения, может потом испытать и великую любовь. В сущности, как некая чудесная возможность она уже заключена в этих «восхитительных мгновениях», нужны лишь дальнейший рост души и счастливая встреча, чтобы она родилась.
Он все больше и больше наслаждается миланским собором, он дает ему замечательную характеристику: «Архитектура эта, лишенная разумных оснований, кажется воздвигнутой по какой-то причуде, она находится в согласии с безрассудными иллюзиями любви».
Через два года он будет писать о «безрассудных иллюзиях» женщине, которую глубоко, пламенно полюбит.
В эти полуночные миланские часы шлифовалась, углублялась, «обтачивалась» душа для великой любви.
Стендаль испытывал в то время «животрепещущий интерес» ко всему, что открывала ему Италия: к старинным палаццо, к фонтанам на улице, картинам и статуям, нравам и лицам. Для него это было чем-то большим, чем красотой, для него это было «введением в историю человеческого сердца».
Что-то ему, конечно, и не нравилось, и он искренне говорил об этом итальянцам, он не умел быть неискренним. «Когда я лгу, – писал он, – становится скучно».
Позднее, первый раз в жизни истинно полюбив, он открыл, что и в любви малейшая неискренность за себя мстит.
Книга «Рим, Неаполь и Флоренция» замечательна тем, что описывает душевные состояния, одинаково естественно рождающиеся в человеке и под влиянием большого искусства, и под влиянием большой любви.
Его волновали, конечно, не только памятники архитектуры, но и живые человеческие страсти. С «животрепещущим интересом» относится он к анекдотической истории о некой Теодолинде, которая, узнав, что ее возлюбленный, полковник М., ей не верен, посылает ему вызов от неизвестного лица, требуя удовлетворения за неизвестную обиду и указывая определенное место и час дуэли.
В назначенном месте, в назначенный час, после того как были заряжены пистолеты и отмерены двенадцать шагов, полковник с великим удивлением узнает в щупленьком человечке, закутанном в меха, который решил с ним стреляться, собственную возлюбленную и, конечно, пытается все обратить в шутку. Ответ женщины восхищает Стендаля, пожалуй, не меньше, чем миланский собор в час полнолуния. «Вы чудовище, – говорит она ему, – или вы, или я должны умереть».
В той серьезности, с которой Стендаль излагает эту историю, чувствуется его великая тоска по большим характерам и большим страстям. Эти характеры и эти страсти он застал в детстве, накануне Великой французской революции. В эпоху вернувшихся на трон Бурбонов и могущества Меттерниха, когда во всех европейских столицах торжествовали посредственность и тщеславие, ему не могла не импонировать эта женщина-дуэлянтка…
Потом из его тоски по великим страстям и характерам выросли великая любовь и великие романы.
Но вернемся к тем состояниям души, которые мы решили исследовать… Он пишет о том, что созерцание миланского собора и картин делают его все более чувствительным к красоте и все менее склонным к помышлениям о деньгах и карьере.
С точки зрения человека, занятого этими помышлениями, он ведет в Милане образ жизни бездельника. Ходит по городу, заглядывает в мастерские художников… Зачем? Затем, ответил бы Стендаль этому серьезному и унылому судье, чтобы понять тип ломбардской красоты, одной из самых трогательных в мире.
Вот он зашел в мастерскую известного портретиста, обладающего коллекцией портретов самых замечательных женщин Милана.
Я испытал, – пишет он, – чувство удовлетворенного самолюбия, или, если угодно, гордости артистической от того, что угадал ломбардскую красоту еще до посещения этой очаровательной мастерской.
После слов «гордости артистической» следует сноска неожиданная, как всегда у Стендаля: «Обещающей радости в будущем».
В будущем этот тип ломбардской красоты, особенно замечательный нежным и меланхолическим выражением лица, одарил его не одной лишь радостью, но и страданием, он одарил его страданием-радостью, потому что Метильда Дембовская его не любила, и его неразделенная любовь к ней была сильнейшим счастьем-несчастьем его жизни. Его сердце угадало это счастье-несчастье в мастерской миланского портретиста.
Помедлим… Останемся в этой мастерской со Стендалем еще несколько минут. Он вглядывается в портреты. Вот облик, полный юности и силы, оживленный душою бурной, страстной… Вот красота совершенная, ослепительная… Вот красота трогательная, выдающая борьбу религиозных чувств с нежностью… А вот то, что особенно волнует стендалевское сердце: ангельское выражение, утонченность черт, напоминающих нежное благородство образов Леонардо да Винчи… Стендаль испытывает восторг, смешанный с почтением, чувство, которое он испытает потом не раз с тысячекратной силой в гостиной Метильды Дембовской…
Эта головка, – пишет Стендаль об одном из портретов, – которая выражала бы такую доброту, справедливость, такое возвышенное понимание, если бы думала о вас, мечтает, кажется, о далеком счастье.
Как много должно было пережить человеческое сердце в течение веков, даже тысячелетий, чтобы подняться до такого одухотворенного понимания красоты, не отрывного от доброты, справедливости! В сущности, это обещание великой человечности, которая трагически раскроется – изумившись жестокости мира – в отношениях между мужчиной и женщиной в XX веке. «…Если бы думала о вас…» – пишет Стендаль. Сегодня она думает о нас. Она думает о нас, потому что о ней думал Стендаль. Она думает о нас, потому что человеческий дух, запечатленный в портретах, развивается, восходит. Она думает о нас, как думают о нас старики Рембрандта. И именно потому, что она думает о нас, мы сегодня тверже, увереннее, чем Стендаль, ставим рядом с красотой доброту, справедливость. А дальше у Стендаля идет нечто милое, детское.
Невольно начинаешь мечтать, – пишет он, – что знакомишься с этой необыкновенной женщиной в каком-нибудь уединенном готическом замке, возвышающемся над красивой долиной и окруженном горным потоком…
Это детское, милое раскроется во всей беззащитности через год после выхода его книги, когда Стендаль полюбит.
Стендаль вводит нас в то интимное понимание красоты в искусстве, которое является обещанием новых, высших форм общения в самой жизни.
Но не меньше посещений мастерских он любит выслушивать истории о странностях любви.
Нынче вечером в Скала один несчастный стал изливать мне душу… Я до безумия люблю рассказы, в которых со всеми подробностями изображаются движения человеческого сердца, и потому весь обратился в слух.
…После долгих разговоров о любви в укромном уголке кафе мы пустились в обстоятельнейшее обсуждение самых трудных вопросов живописи, музыки и т. д.
А ведь, в сущности, понимаем мы сегодня, Стендаль и его собеседники говорили об одном – о формировании наивысших форм отношений между человеком и человеком, человеком и миром, ибо и в любви, и в переживании красоты в искусстве царит один и тот же закон: человек, вбирая в себя как можно больше, становится все полнее самим собой. И это есть высшее искусство счастья.
Они не отвлекались от темы о любви, беседуя о живописи, и они не забывали о живописи, когда опять начинали говорить о любви. Они говорили о человеке.
Чтобы понимать искусство, надо уметь любить не одни картины и статуи. Но и чтобы любить не одни картины и статуи, надо уметь восхищаться (ведь именно с восхищения начинается любовь, об этом Стендаль писал не раз), и нет лучшей школы восхищения, чем общение с искусством. (Мне хочется все время разрушать «барьеры повествования», «барьеры темы», а в сущности – почему разрушать? – любовь – одна из тем, не имеющих барьеров.)
Но мы несколько отвлеклись от «Рима, Неаполя и Флоренции». На одной из страниц этой книги Стендаль пишет:
…тот, кто в восемнадцать лет не любил великого человека настолько, чтобы восхищаться даже смешными его чертами, не годится мне в собеседники по вопросам искусства.
Думается, что если мы в этой чеканной формуле «снимем» определение «великий», то лучше поймем Стендаля.
«Чему же, – возможно, воскликнет некий педант, – надо научиться в первую очередь: искусству восхищаться искусством или искусству восхищаться подлинным человеком?» А надо научиться восхищаться жизнью. Книга Стендаля – школа этого восхищения.
Героиня его книги – душа «пламенная, мечтательная и глубоко чувствительная». Она же, эта «пламенная и глубоко чувствительная душа», – героиня той захватывающей воображение истории человеческих чувств, которая увлекательнее, ярче самых великих романов. Собственно говоря, более великого романа не написало человеческое сердце, чем роман о самом себе.
А души «черствые изгоняют за дверь просто силою вещей». Стендаль относит это положение к литературе, искусству, но не относится ли оно к любви в еще большей степени? И вообще резкая, интересная черта стендалевских переживаний, ощущений, впечатлений в области искусства заключается в том, что они с еще большим основанием относятся к любви. Не говорит ли это о сложной цельности, о странном единстве всех «пластов», всех «измерений» человеческой души? Стендаль пишет о том, что лишь непосредственность чувства открывает в картине, статуе их сокровенную красоту. Это и о любви. И, уж конечно, одинаково относятся и к любви, и к искусству его рассуждения об искусстве быть счастливым.
И когда Стендаль как бы невзначай говорит о жителе Милана, что он «существо незлое», и добавляет: «...самая надежная гарантия этого заключается в том, что он счастлив», мы с ним выходим из сфер искусства в широкую, бескрайнюю жизнь и понимаем, почему не злы истинно любящие.
Гарантия та же: они счастливы.
Стендаль исследует душу, способную на великую страсть, – собственную душу, он показывает ее нам в состоянии до-любви, но нам известно (об этом расскажут письма к Метильде Дембовской, публикуемые ниже), какой она была в состоянии любви-страсти.
На улицах Корреджо – города, чье название обессмертил горячо любимый им художник, – ему попадались женские лица, напоминающие мадонн этого живописца. И это наполняло его радостными мыслями о единстве искусства и жизни. Он еще больше верил чувствам, написанным на лицах мадонн Корреджо, потому что видел эти же чувства на лицах горожанок.
По-моему, нет ничего более увлекательного, волнующего, чем погружение в те душевные состояния, которые переживали лучшие люди минувших веков. Вот Стендаль описывает «божественный вечер» у госпожи М. Читали новую поэму Байрона «Паризина», которую хозяйка получила от одного любезного англичанина. Дойдя до середины поэмы, они вынуждены отложить чтение, «утомленные избытком удовольствия».
«Сердца наши были переполнены, – пишет Стендаль. – Они погрузились в мечтания, вызванные захватившим их чувством».
Напоминанием об этом «божественном вечере» Стендаль будит чувства, уснувшие в нашей душе, он их «теребит», он заставляет их очнуться, ибо они, эти чувства, – когда погружаешься в мечтания от избытка удовольствия, вызванного поэзией, – не умерли, они лишь уснули, как засыпает иногда человек в самолете, хотя, казалось бы, он должен взволнованно бодрствовать, потрясенный сознанием высоты и собственного странного положения в мироздании…
Но и душу Стендаля тоже будили напоминания о великих чувствах, о великих характерах минувших веков. И не в этом ли закон восхождения человеческой души, что все время в нее стучится ушедшее и вечно живое?
Стендаль любил рыться в старинных рукописях, отыскивать полузабытые истории. Эта его страсть общеизвестна. Я иногда ловлю себя на том, что решаю, читая старые редкие книги: «стендалевская» эта история или «нестендалевская». Само собой разумеется, что я имею в виду истории, в которых человек выявился необыкновенно интересно…
В последний раз решил: «стендалевская». Я читал документы о Сиене, осажденной в 1555 году войсками испанского императора Карла V.
Хочу разрешить себе это отступление, потому что в нем пойдет речь о том, что особенно было дорого Стендалю, – о величии человеческой души. Автор старинной истории города Сиены рассказывает о том, что жители его, ради защиты и сопротивления, не останавливались перед разрушением собственных домов, мешавших действиям их артиллерии. «Все эти бедные горожане, не показывая ни неудовольствия, ни сожаления о разрушении своих домов, первыми взялись за работу. Всякий помогал, чем мог. Никогда их не было на месте работы меньше четырех тысяч, и среди них мне показали множество благородных сиенских дам, носивших землю в корзинах на головах. О сиенские дамы! До тех пор, пока будет жива книга Монлюка[4]4
Монлюк Блез (1502–1577) – французский писатель, политический деятель. Участник защиты города Сиены. Автор исторической хроники.
[Закрыть], я должен увековечить вас, ибо поистине вы достойны бессмертной хвалы. Едва ли когда-нибудь заслуженной женщинами! Как только этот народ положил прекрасное решение отстаивать свою свободу, все городские дамы разделились на три отряда. Первым командовала сеньора Фортегверра, одетая в лиловое, так же, как те, которые были с ней, и платья у них были короткие, как у нимф. Второй была сеньора Пиколамини, одетая в алый атлас и весь отряд ее тоже. Третьей была сеньора Ливия Фауста в белом, и шедшие за ней несли белое знамя. На знаменах у них были славные девизы, я много бы дал, чтобы их вспомнить.
Эти три отряда состояли из трех тысяч дам, благородных или городского сословия, вооруженных пиками, крюками и фашинами. И в таком виде они вышли на смотр и пошли на закладку укреплений. Мосье де Терм, который был в начале осады и видел их, рассказывал мне это, говоря, что никогда ему не приходилось видеть ничего столь же прекрасного. Знамена их я видел сам потом. Они сложили песню в честь Франции, которую пели, когда шли на укрепления. Я отдал бы свою лучшую лошадь за то, чтобы знать эту песню и привести ее здесь».
Да, стендалевская…
И когда Стендаль на улицах итальянских городов вглядывался в лица женщин, не пленяло ли его именно это сочетание нежности с силой характера, унаследованной от «благородных сиенских дам»?..
Но вернемся к книге Стендаля. Самый большой враг в общении человека с искусством – тщеславие. И оно же самый большой враг в любви. Тщеславный человек не может отдаться тому непосредственному чувству, без которого окружающий мир остается для нас наглухо закрытым. Тщеславный человек чересчур занят собой, ему недоступен «талант растворения»: ни в чуде искусства, ни в чуде любви.
Тщеславный человек нерастворим.
«Ярмарка тщеславия» (определение Стендаля) убивает царство любви. «У тщеславного человека, – пишет Стендаль о современных ему парижанах „большого света“, – времени не было чем-либо восторгаться».
При чтении этой книги постепенно рождается странное чувство: ее автору мало созерцать даже и великое в искусстве. Ему хочется действий – действий в любви.
Вот он рассказывает о некоем молодом нотариусе, который ворвался с пистолетом в руке к любимой женщине, чтобы защитить ее от изверга-мужа, и мы невольно чувствуем, что Стендаль завидует этому нотариусу. Вот он рассказывает о втором возлюбленном, который забрался на незнакомый чердак и жил на нем, не выходя на улицы, чтобы из укромного окна наблюдать, не изменяет ли ему его возлюбленная.
(Из писем самого Стендаля к Метильде Дембовской мы узнаем, что и он совершал те или иные «маленькие безумства».)
А пока он вглядывается в лица людей на улицах, в церквах, в мастерских художников, ему важно понять, способны ли они на великие чувства, ибо лишь этой способностью измерялась для Стендаля ценность человека. Он называет иногда ее и более широко – способностью к воодушевлению…
Он удивительно точно умеет видеть в человеческом лице то новое, что вошло в человеческую душу, он чувствовал восхождение человеческой души из века в век и с наслаждением улавливал черты, моменты этого восхождения. Вот, оказавшись в деревне, он видит на лицах юных крестьянок не только ум, рассудительность, но и нечто «утонченно-вызывающее». Вот, сопоставляя флорентинцев на картинах ранних художников итальянского Ренессанса с образами более поздних мастеров, он пишет о том, чтó ему интересно и не интересно в человеке. Ему не интересно сухое, узкое, рассудительное, покорное условностям, чуждое увлечениям. А что интересно? Это великий вопрос. Чтобы ответить на него, мало подойти к полотну Тициана или Тинторетто, лучше углубиться в мир самого Стендаля, а для этого раскрыть его письма, письма не о любви.
Молодой, двадцатилетний, он из Парижа пишет сестре Полине:
Жалки и достойны сострадания холодные сердца, открытые только для науки! Что мне пользы знать, что Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, если изучение этих вещей заставляет меня терять дни, дарованные для наслаждения! Немало людей одержимо этим безумием, но мы, дорогая Полина, не последуем их примеру!
Заметим, что, несмотря на чересчур резкое и ироничное высказывание о науке, он в последующих, более «трезвых» письмах к сестре советовал ей относиться к наукам серьезно – для развития ума, потому что одним лишь сердцем человек жить не может. Но сердце не должно быть холодным! Вот мысль, которой он был одержим с юношеских лет.
А через месяц он пишет ей взволнованно о могуществе сильных страстей, о том, что если человек желает что-нибудь горячо и упорно, он достигает цели. И тут же несколькими строками ниже более трезво о «добродетели и образовании» как о двух основополагающих в жизни истинах.
Через два года, перечитав задушевные и нежные письма сестры, он пишет ей: «Ты, милая Полина, рождена, чтобы стать необыкновенной женщиной». О, как хотелось ему видеть рядом с собой необыкновенную женщину! Даже если это не «больше», чем сестра.
И дальше он обращается к будущей «необыкновенной женщине»:
Только одно порождает великого гения – это меланхолия. Благородная душа, понимающая, в чем заключаются небесные наслаждения, воображает, что они существуют в повседневной жизни…
Потом к концу жизни Стендаль поймет, что «небесные наслаждения» действительно существуют и в повседневной жизни. Но в двадцать лет ему кажется, что их надо искать лишь на том уровне, который был доступен Вергилию и Шекспиру; став мудрее, он осознает, что талантом чувствовать может обладать самый обыкновенный человек, и чем больше обыкновенных людей будет обладать им, тем ярче станет жизнь.
Но в этом же молодом наивном письме он с четкостью афоризма высказывает мысль, которой останется верен до седых волос: «Мера доступного человеку счастья зависит от силы его страстей».
А в 1835 году, пережив сильные страсти и устав от борьбы, он пишет из Рима:
Я обожал и все еще обожаю, по крайней мере, мне так кажется, женщину по имени Милан. Страсть эта доходила до безумия от 1814 до 1821 года. Я получил в жены ее старшую сестру по имени Рим[5]5
Стендаль исполнял тогда обязанности французского консула в одном из маленьких городов близ Рима.
[Закрыть]; эта женщина достойная, серьезная, строгая, не любящая музыки. Я знаю ее досконально и глубоко: между нами не осталось ничего восторженного и романтического после четырех лет брака. Я с удовольствием покину ее для мадемуазель Валенсии, о которой говорят много хорошего, но характер девушки – загадка…
Он к концу жизни любил (и не любил) города, как женщин, потому что были в его жизни периоды, когда женщины, особенно самая любимая из них Метильда Дембовская, были для него больше, чем города – миры. Но во времена написания «Рима, Неаполя и Флоренции» он любил города, как любят города, не меньше, но и не больше.
Что же интересно Стендалю в Человеке? То же самое, что было ему интересно в девушке по имени Валенсия, – загадка. Холодные, черствые, узкие, рассудительные люди не заключают в себе загадки. Загадка живет лишь в страстном, остро и сильно чувствующем мир человеке, ибо непредсказуема и жизнь его души, и образ его действия. Существует лишь одна гарантия – он не совершит низость.
Стендаль покидал Рим в 1817 году через ворота Сан-Джованни ин Латерано.
«Великолепный вид на Аппиеву дорогу, окаймленную рядами полуразрушенных памятников…»
У одного из этих полуразрушенных памятников он остановил коляску, чтобы разобрать несколько римских надписей. Ему хотелось опуститься на колени, чтобы полнее насладиться чтением какой-либо надписи, подлинно начертанной римлянами. В эту минуту – минуту необычного переживания – мы и оставим его сейчас.
ИЗ ПИСЕМ СТЕНДАЛЯ МЕТИЛЬДЕ ДЕМБОВСКОЙ
Варезе, 16 ноября 1818 года
(Передано 17 ноября)
Самое большое удовольствие, которое я получил сегодня, было, когда я ставил дату на этом письме. Живу той мыслью, что через месяц буду иметь счастье увидеть вас. Но что делать в течение этих тридцати дней? Надеюсь, что они пройдут, как и девять длинных дней, которые только что протекли. Каждый раз, как заканчивается какое-нибудь развлечение, какая-нибудь прогулка, я снова остаюсь с самим собой и ощущаю ужасную пустоту. Я обсуждал тысячу раз, я доставлял удовольствие тысячу раз повторять себе самые незначительные вещи, которые вы говорили в последние дни, когда я имел счастье вас видеть. Мое усталое воображение уже не в силах представлять себе картины, которые отныне слишком связаны с ужасной мыслью о вашем отсутствии, и я чувствую, что с каждым днем в моем сердце становится все мрачнее.
Я немного утешился в церкви Мадонны дель Монте: я вспомнил божественную музыку, которую слышал там прежде. На днях я уезжаю в Милан, навстречу одному из ваших писем, потому что я все же рассчитываю на ваше человеколюбие и верю, что вы не откажете мне в нескольких строках, – вам так легко их начертать, а они так драгоценны, так утешительны для отчаявшегося сердца. Вы, конечно, слишком уверены в вашей абсолютной власти надо мной, чтобы вас хоть на мгновение мог остановить напрасный страх, что, отвечая мне, вы как бы поощряете мою страсть. Я знаю себя: я буду любить вас весь остаток жизни; что бы вы ни сделали, это ничего не изменит в мечте, завладевшей моей душой, в мечте о счастье быть любимым вами и в презрении, внушенном мне ею, ко всякому другому счастью! Наконец, у меня потребность, жажда видеть вас. Я, кажется, отдал бы остаток жизни, чтобы поговорить с вами в течение четверти часа о самых безразличных вещах.
Прощайте, я покидаю вас, чтобы быть еще ближе к вам, чтобы сметь говорить с вами со всей откровенностью, со всей силой страсти, меня пожирающей.
(Май 1819 года)
Сударыня,
Ах, как тянется время с тех пор, как вы уехали! А прошло всего только пять с половиной часов! Что
я буду делать все эти сорок убийственных дней? Неужели я должен отбросить всякую надежду, уехать и погрузиться в общественные дела? Боюсь, что у меня не хватит мужества перевалить за Мон-Сени. Нет, я никогда не соглашусь на то, чтобы меня от вас отделяли горы. Смею ли я надеяться любовью оживить сердце, которое не может быть бесчувственным к такой страсти? Верно, я кажусь вам смешным, моя робость и молчаливость наскучили вам, а мой приход для вас – настоящее бедствие. Я ненавижу себя. Не будь я последним из людей, я должен был бы вчера, перед вашим отъездом, добиться решительного объяснения; тогда бы я ясно видел, на что мне надеяться.
Когда вы с таким искренним чувством сказали: «Ах, как хорошо, что уже полночь!» – не должен ли я был понять, что вы рады избавиться от моей назойливости, и дать себе слово никогда больше не видеться с вами? Но я бываю смел только вдали от вас. В вашем присутствии я робок, как ребенок, слова замирают у меня на губах, я могу только смотреть на вас и любоваться вами. И нужно же, чтобы я при этом становился несравненно беспомощнее и глупее, чем я есть на самом деле, и таким плоским?
Варезе, 7 июня 1819 года
Сударыня,
Вы приводите меня в отчаяние. Вы несколько раз упрекнули меня в непорядочности, как будто такое обвинение в ваших устах для меня пустяк. Кто бы мог предсказать, когда я расставался с вами в Милане, что первое ваше письмо будет начинаться словом «сударь» и что вы будете упрекать меня в непорядочности.
Ах, сударыня, как легко человеку, не обуреваемому страстью, вести себя всегда сдержанно и осторожно! Я тоже, когда владею собой, как будто не лишен скромности, но я охвачен пагубной страстью и уже не могу отвечать за свои поступки. Я поклялся отправиться куда-нибудь в морское путешествие или по крайней мере не видеть вас и не писать вам до вашего возвращения; сила, более могущественная, чем все принятые мною решения, увлекла меня туда, где находитесь вы. Я чувствую: отныне эта страсть стала важнее всего в моей жизни. Все другие интересы, все соображения бледнеют перед нею. Эта роковая потребность видеть вас владеет мною, увлекает и вдохновляет меня. Бывают мгновения в долгие одинокие вечера, когда я мог бы стать убийцей, если бы нужно было совершить убийство для того, чтобы увидеть вас.
Вот уже пять лет, как я в Милане. Будем считать неверным все, что говорят о моей прежней жизни. Пять лет, от тридцати одного года до тридцати шести лет, – это значительный отрезок в жизни человека, особенно если эти пять лет ему пришлось провести в трудных обстоятельствах. Если когда-нибудь вы соизволите, за неимением более интересной темы, подумать о моих нравственных свойствах, соблаговолите, сударыня, сравнить эти пять лет моей жизни с пятью годами, взятыми из жизни любого другого человека. Вы найдете жизни, отмеченные несравненно более ярким блеском таланта, и жизни, гораздо более счастливые; но не думаю, чтобы в какой-нибудь другой жизни вы нашли больше чести и постоянства, чем в моей. Много ли возлюбленных было у меня за эти пять лет в Милане? Разве я когда-нибудь поступился честью? Но я недостойно забыл бы честь, если бы попытался хоть в самой малейшей степени скомпрометировать своим поведением существо, которое не может потребовать, чтобы я обнажил шпагу.
Любите меня, если хотите, божественная Метильда, но, ради бога, не презирайте меня. Такая пытка выше моих сил. При вашем столь справедливом образе мыслей ваше презрение навсегда лишило бы меня возможности быть любимым.
Зная вашу возвышенную душу, мог ли я избрать более верный способ отвратить вас от себя, чем тот, в котором вы меня обвиняете? Я так боюсь вызвать ваше неудовольствие, что тот миг, когда я вечером 3-го увидел вас впервые, тот миг, который должен был бы стать блаженнейшим в моей жизни, стал, напротив, одним из самых тревожных из-за боязни не угодить вам.
Флоренция, 11 июня 1819 года
Сударыня,
С тех пор, как я оставил вас вчера вечером, я чувствую непреодолимую потребность умолять вас о прощении за бестактность и неделикатность, до которых на последнюю неделю довела меня губительная страсть. Раскаяние мое искренне; раз уж я не угодил вам, то лучше бы мне совсем не приезжать в Вольтерру. Я выразил бы вам свое глубокое сожаление еще вчера, когда вы соблаговолили принять меня; но позвольте мне сказать это вам, вы не приучили меня к снисходительности, совсем напротив. И вот я боялся, чтобы вы не сочли, будто, прося у вас прощения за свои безумства, я говорю вам о любви и нарушаю данную вам клятву.
Но я изменил бы той совершенной правдивости, которая в бездне, куда я ввергнут, остается моим единственным правилом поведения, если бы сказал, что понимаю, в чем заключается моя неделикатность. Боюсь, что в этом признании вы усмотрите грубость неспособной понять вас души. Вы почувствовали эту неделикатность, значит, для вас она существовала.
Не думайте, сударыня, что я сразу решил приехать в Вольтерру. Право, с вами я не так смел; каждый раз, как, исполненный нежности, я лечу к вам, я уверен, что ваша обидная суровость вернет меня с небес на землю. Увидев на карте, что Ливорно совсем близко от Вольтерры, я навел справки, и мне сказали, что из Пизы можно видеть стены этого счастливого города, в котором находитесь вы. На пароходе я думал, что, переменив платье и надев зеленые очки, я смогу провести три дня в Вольтерре, выходя только ночью, так, чтобы вы меня не узнали. Я приехал 3-го, и первый человек, кого я увидел в Вольтерре, были вы, сударыня; был час пополудни; вы, наверное, вышли из коллежа и направлялись обедать; вы меня не узнали. Вечером, в четверть девятого, когда стало совсем темно, я снял очки, чтобы не показаться чудаком Шнейдеру. В тот момент, когда я снимал их, прошли вы, и мой план, так удачно осуществлявшийся до тех пор, провалился.
Я тут же подумал: если я подойду к г-же Дембовской, она скажет мне что-нибудь суровое, а в тот момент я слишком любил вас и суровые слова убили бы меня; если я подойду к ней, как миланский знакомый, все в этом маленьком городке скажут, что я ее любовник. Значит, я гораздо лучше докажу ей свое уважение, если останусь неузнанным. Все эти размышления промелькнули у меня в один миг; в пятницу, 4-го, я весь день действовал согласно им.
Ночью с 4-го на 5-е я думал о том, что я самый старинный из друзей г-жи Дембовской. Эта мысль переполнила меня гордостью. Может быть, она захочет сказать мне что-нибудь о своих детях, о своем путешествии, о множестве вещей, не имеющих отношения к моей любви. Я напишу ей два таких письма, что она, если захочет, сможет объяснить мой приезд своим здешним друзьям и принять меня. Если же она не захочет, она ответит мне «Нет», и на этом все будет кончено. Так как, запечатывая любое свое письмо, я всегда думаю о том, что оно может быть перехвачено, так как я знаю низкие души и зависть, владеющую ими, я отказался от мысли присоединить свою записку к двум официальным письмам, чтобы в случае, если ваш хозяин по ошибке распечатает их, он не увидел бы там ничего предосудительного.
Признаюсь, сударыня, быть может рискуя не угодить вам своим признанием, до сих пор я не вижу, в чем проявилась моя неделикатность.
Вы написали мне очень сурово; а главное, вы подумали, что я хочу явиться к вам против вашей воли, – такие вещи совсем не в моем характере. Я пошел раздумывать обо всем этом за ворота Сельча; выходя из ворот, я случайно не пошел направо; я увидел, что нужно спуститься и снова подняться, я хотел быть совершенно спокойным и всецело отдаться своим мыслям. Так я дошел до Луга, куда потом пришли и вы. Я оперся на парапет и два часа смотрел на это море, принесшее меня к вам, в котором мне лучше было бы закончить свои дни.
Заметьте, сударыня, я и понятия не имел, что этот Луг – обычное место ваших прогулок. Кто мог сказать мне об этом?.. Я могу сказать, что то было одно из самых счастливых мгновений в моей жизни, но оно целиком ускользнуло из моего сознания. Такова печальная судьба нежных душ: горести они помнят в мельчайших подробностях, а минуты счастья повергают их в такое смятение, что потом они не могут ничего припомнить.
…Совершенно очевидно, что какой-нибудь прозаический человек не появился бы в Вольтерре: во-первых, потому, что денег он там не заработал бы; во-вторых, потому, что там плохие гостиницы. Но так как я имею несчастье любить по-настоящему и так как вы узнали меня в четверг 3 июня, что мне было делать?.. Я отнюдь не претендую на то, чтобы получить от вас подробный ответ на этот мой дневник; но, быть может, ваша благородная и чистая душа будет хоть немного справедлива ко мне, и какими бы ни были те отношения, которые судьба сохранит между нами, вы не откажетесь признать, что уважение к тому, кого любишь с нежностью, – великое благо.
Гренобль, 25 августа 1819 года
Я получил ваше письмо три дня тому назад. Увидев снова ваш почерк, я был так глубоко взволнован, что опять не в состоянии был ответить вам подобающим образом. Это прекрасный день среди смрадной пустыни, и как бы вы ни были ко мне суровы, я все-таки обязан вам единственными мгновениями счастья.
…Прощайте, сударыня, будьте счастливы; мне кажется, что для вас это возможно только тогда, когда вы любите. Будьте же счастливы, даже любя другого, а не меня.
Я могу вполне искренне написать вам то, что повторяю беспрерывно:
Когда бы смерть и ад разверзлись предо мной,
Я б из любви к тебе сошел туда живой.
Анри.
Через десять лет в книге «Прогулки по Риму», тоже посвященной Италии, он написал о чувстве, напоминающем то, что в любви называют ударом молнии, – это чувство охватывает нас перед картиной или статуей, если художнику удалось открыть нашей душе то, чего она давно хотела, сама того не сознавая.








