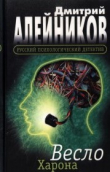Текст книги "Золотое весло"
Автор книги: Евгений Богат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Он воспринимал теперь картины с той радостной сосредоточенностью, которая наступает иногда после большого душевного напряжения.
Оставались залы итальянской живописи. В первых двух сияли краски Джорджоне,[16]16
У Эдуарда Гольдернесса в цикле стихов, посвященных Дрезденской галерее, написано о «Венере» Джорджоне: «Небрежно руку заложив за шею, лежит она, желанна, как весна. Глаза закрыты – верно духи сна с любовию склоняются над нею. Непревзойденной красотой своею горда и наготой не смущена, почти что улыбается она, похожа на загадочную фею. Где ключ улыбки той высокомерной, кто ей сказал, по праву легковерной, что ей по красоте соперниц нет, что эти чары вечно с ней пребудут, что в эту красоту поэты будут влюбляться даже через сотни лет!»
[Закрыть] Тициана и Тинторетто. Через эти залы люди шли, как через чистилище, стряхивая с сердца все лишнее, что не нужно человеку для счастья. И выходили в третий зал. Там, в широкой нише, висела «Сикстинская мадонна» Рафаэля.
Воронихин вошел в этот зал, посмотрел в изумленно-счастливое, опечаленное лицо мадонны и понял, что видит мать, с великой тревогой отдающую ребенка в недостроенный мир. На лесах этого мира работают паркетчики, с черными по локоть руками, и женщины-маляры, и та женщина в ожерельице, и старый мастер – и Воронихин о них подумал…
Потом, хотя это и не имело ровно никакого отношения к картине Рафаэля, он подумал о собаках, несущих сани по бескрайнему снегу, о бетоне, который мучительно-напряженно набирает прочность на большом морозе, и о прекрасных глазах жены…
Он подошел ближе к «Сикстинской мадонне». У него выступили слезы, и сквозь пелену слез показалось, что именно к нему доверчиво идет с облаков босоногая женщина с большеглазым мальчишкой на слабых руках. И он почувствовал, что отвечает за будущее этого мальчишки.
Июль – август 1955 года
Жить и умереть
(Судьба двух коллекций – несколько жизненных историй)

История первая
ДАР
В день, когда я первый раз был у Александра Семеновича Жигалко, он получил из города Чайковского письмо, в котором рассказывалось о том, что с замечательным собранием картин, которые он подарил городу, уже познакомилось около семидесяти тысяч человек.
Нет, пожалуй, ни одного большого русского и советского художника, чьи картины не украшали бы сегодня маленький город на Каме. Кипренский, Орловский, Брюллов, Тропинин, Венецианов, А. Иванов, Суриков, Репин, Шишкин, Айвазовский, Левитан, Нестеров, Коровин, Поленов, Серов, Рерих, Борисов-Мусатов, Архипов, Кустодиев, Пластов, Рылов, Кончаловский…
Передо мной сидел старый человек, с опущенной от нездоровья – или в раздумье? – головой, с серьезным и строгим лицом, сидел в молчании, замкнуто, даже сурово. Едва войдя в комнату, я отметил про себя молчащее лицо и этот заваленный обильно газетами, письмами, документами стол и подумал, что мне явственно дают понять нежелательность утомительной беседы. Перелистав бумаги, я посмотрел на стены, увешанные картинами, рама к раме, теми немногими, что остались от большой, в четыре тысячи полотен, коллекции; стояли картины и на полу; чувствовался в этом канун дороги, что-то временное, вокзальное, и мне показалось, что даже в диковинном, живописном беспорядке антикварного магазина больше уюта. Разумеется, я догадывался, что оставлено самое… нет, не любимое даже, а личное, сокровенное и даже, пожалуй, не сокровенное, а неотрывное, что ли, потому что и не картины это вовсе, а сама ткань его жизни – живая ткань, которую от себя не отодрать, как живую кожу. Но понять, почему остались именно эти, я, конечно, не мог. А он молчал, пока я рассматривал картины, как молчал и тогда, когда я читал газеты и письма, разбросанные по столу. Он сидел отстраненно, точно оставлял меня один на один с тем, что было сутью его жизни; молчанье его можно было истолковать и как доверие к моему пониманию, и как безразличие к моему суждению о нем. Я подумал о безразличии: понуро молчавший старый человек, казалось, не замечал меня.
Но через минуту, когда я рассматривал самое большое в комнате полотно, на котором бесспорно мощная кисть запечатлела немолодого человека в арестантском халате, с оплывшим тюремным лицом, вдруг услышал:
– Это Репин. Эскиз к картине «Не ждали».
Я обернулся. Жигалко мимо меня уставился, не мигая… в арестанта? – нет, куда-то поверх него, будто не картина это, а окно большое, и он видит по ту сторону толстого, для меня непроглядного стекла нечто явственно волнующее, достойное углубленной сосредоточенности.
– Это моя первая, – заговорил опять. – Купил в девятьсот четвертом… студентом… на дешевой распродаже… оказалось, Репин… думали даже: портрет Достоевского… нет, конечно… эскиз к «Не ждали»… долго рылся… на Кузнецком мосту… с него и пошло…
Оттого, что он перед этим молчал и сейчас говорил с паузами, на коротком дыхании, не отрываясь от окна-картины, речь его показалась мне долгой, уемистой, как повесть.
Я понадеялся, что он при мне сейчас посмотрит и в соседние окна-картины, но Жигалко опять опустил голову, углубился в себя. Я же, усевшись опять за стол, стал перебирать бумаги, перечитал письмо от директора местного музея (дар Жигалко – его коллекция картин – поставил этот музей в один ряд с лучшими картинными галереями). Письмо восторженное и в то же время целеустремленное, душевное и в чем-то утилитарное. «Картины, которые у Вас остались (я передаю его содержание не дословно, а по памяти) могут обогатить и пополнить ряд ценных разделов рожденной Вашей несравненной щедростью галереи. Репин, Айвазовский, Левитан, Серов…. Мы их вернем по первому Вашему настоянию, а сейчас не лучше ли ввести их в нашу экспозицию? Кто их видит в Вашей комнате?»
Отложив письмо, я посмотрел на Жигалко и решился на первый мой вопрос:
– Отдадите?
Подумал, ответил:
– Не отдам.
И пояснил:
– Я отдал больше, чем может отдать человек. Я хочу что-то оставить себе.
Опять подумал:
– Не отдам, – и сощурился иронично, подался ко мне: – Полагаете, я должен отдать и это?
– Нет, – ответил я, – это вы не должны, а вернее, не можете отдать…
– Не могу? – улыбнулся первый раз. – А те две картины: Серова и Боровиковского?
– Вы послали их после этого письма?
– Я не посылал, а отдал их ему лично, он ведь не только пишет, ему сесть в поезд…
– Не отдавайте ничего больше, – повторил я более уверенно, вообразив его в голых стенах, в стенах без этих окон в его жизнь.
– Не отдам, – сказал он и чуть удивился, – вот уж не думал, что вы посоветуете не отдавать. Был до вас журналист, убеждал меня отдать до последней дощечки. Говорю, я отдал тысячу… потом две тысячи… потом четыре тысячи… А он: ну вот и хорошо, а эти пожалели?
– Вам нельзя это отдавать, – повторил я и высказал мысль, появившуюся у меня в его доме в первые же минуты: – Это ведь больше чем картины, это сама ваша жизнь.
– А разве там, – он слабо махнул рукой куда-то, – там, в Чайковском, не моя жизнь?!
– Мне казалось, – уточнил я, – что эти картины дороги вам особенно. Я ошибся?
– Он удивительный человек, – начал Жигалко рассказывать, не отвечая на мой вопрос. – Он на редкость бескорыстный, работает на общественных началах… без денег… за семьдесят ему… а сесть в поезд… он дышит этой галереей… когда я дал ему Серова и Боровиковского, он… да если бы не он… может, и галереи не было бы. Он редкий человек, вы не осуждайте его за письмо.
– И не думаю осуждать, – ответил я, – но это, – показал на стены, – но это не отдавайте.
И тут опять в его лице явственно мелькнуло что-то похожее на иронию. Мелькнуло и растворилось. Он нахмурился, нахохлился, наклонил голову, помолчал и, перебирая почти машинально бумаги на столе, тихо, печально подтвердил:
– Не отдам.
А в ворохе бумаг была, – я уже видел ее, – та, в которой он завещал похоронить себя не в Москве, а в Чайковском, поближе к картинной галерее…
Уходя от него, я мучился двумя сомнениями: первое касалось истории его уникальной коллекции (как удалось собрать четыре тысячи ценных полотен?!), второе же сомнение имело отношение к мотивам (самым потаенным) передачи этой галереи городу. Мелькавшие в местных газетах слова «щедрость», «зов сердца», «патриотический шаг», более или менее точно характеризуя социальную или нравственную суть действия, не объясняли его истоков.
Идя к нему второй раз, я понимал, что, вероятно, он опять будет весьма немногословен, и решал поэтому, чем бы мне сегодня сосредоточенно заняться в его доме: стенами (то есть картинами), или столом (то есть документами, статьями, вырезками из газет и так далее). Разумеется, ни стол, ни стены сами по себе не могли ответить на мои вопросы-сомнения. Но они, несомненно, содержали подсказки к постижению его характера и его судьбы, а ведь постигнуть судьбу и характер этого человека и означало бы разобраться в истории его коллекции и в истории его дара… И тут я подумал о семейном фотоальбоме, мне захотелось увидеть его не восьмидесятишестилетнего, нахохлившегося, молчащего с загадочно-ироничным лицом, а мальчишкой на излете уже ставшего баснословным XIX века, юношей на заре двадцатого, студентом, инженером-путейцем (я, разумеется, был уже достаточно хорошо осведомлен о вехах его жизни), мне захотелось увидеть его студийцем, учеником большого художника Архипова, увидеть художником, исследующим натуру, и фанатическим коллекционером. Мне захотелось увидеть девочку, его дочь, которая стала потом искусствоведом, увидеть (именно увидеть!) то давнее, полулегендарное, из чего состояла его жизнь, из чего состоит жизнь любого старого человека.
Он ничуть не удивился моему желанию познакомиться с семейным фотоальбомом, будто бы ожидал даже, что я попрошу его сегодня именно об этом. С удивившей меня легкостью он наклонился и достал из нижнего отделения шкафа что-то музейно-тяжкое, будто кованое, живописное, бережно поднял темную крышку…
Сегодня мы фотографируемся чисто утилитарно; на удостоверения, в «личное дело» или – самый душевный повод – для холодновато-шутливого послания товарищу юношеских лет, с которым за изобилием неотложных дел не виделись последние четверть века ни разу. Ушли из быта фотоальбомы, которые рассматривались любовно по вечерам, – они помогали что-то опять пережить, оживить, понять или искупить, ушли из быта те самые альбомы, которыми иногда развлекали гостей, но чаще утоляли неосознанную жажду наивного самопознания. Эти альбомы заменены в сегодняшней жизни иллюстрированными изданиями и экранами телевизоров.
Жигалко поднял темную крышку-переплет, и я увидел большую, в бедных нарядах, застывшую торжественно, с пониманием величия минуты семью: мужчину с лицом рабочего-интеллигента, женщину, с почтительной радостью замершую перед фотообъективом, и посреди малышей тонкого, как лоза, мальчика в форме реального училища. Хотя внуки и бывают часто похожи в детстве на дедов, но сам человек настолько телесно перестраивается с десятилетиями, что в размытом потоком дней восьмидесятилетнем лице ничего не остается обычно от изящной четкости отрочества. (Это поражало рисовавших себя в течение долгой жизни художников, особенно, конечно, Рембрандта.) Я поднял голову и вздрогнул от открытия, что тут время, несмотря на могучее усердие, не размыло. Я опять наклонился к альбому и долго не закрывал первого листа, чувствуя, что и старик и мальчик над моей головой поглощены узнаванием.
Потом я листал быстро, нетерпеливо, не скрывая любопытства: я видел юных инженеров-путейцев у самоварно-гротесковых паровозов и женщин, напоминавших забытое немое кино, с утрированно печальными, «роковыми» лицами, и совершенно новые лица, рожденные революцией, видел совещания, стройки, я видел Жигалко на берегу моря с семьей и одного в кабинете (в двадцатых-тридцатых годах любили фотографироваться в кабинетах), волевого, исполненного телесных и душевных сил человека, который не чертами и обликом, а чем-то внутренним, потаенным отстоял гораздо дальше от сегодняшнего восьмидесятилетнего Жигалко, чем тот мальчик. И когда я опустил последний лист альбома, то с удивлением подумал, что в нем начисто отсутствует Жигалко-художник и Жигалко-коллекционер. То, что составляло, казалось бы, само существо его жизни, сюда не вошло. А может быть, собирательство и художество были не сутью, а увлечением, отдыхом, хобби, как теперь говорят. Он тянул полотна дорог, строил мосты, чертил, рассчитывал… Точно подтверждая это, Жигалко начал рассказывать о давнем, паровозном, инженерном, и рассказывать с тем увлечением, которое не чувствовалось у него, когда речь шла в тот раз о картинах. Может быть, подумал я, не чувствовалось потому, что теперь он был откровеннее, чем тогда?
Мне показалось, что он нарочно уводит меня от сути моего интереса к нему, от существа моих сомнений, потому что эта – в фотоальбоме – область его жизни обладает цельностью и ясностью, которых нет в той, занимающей меня несравненно больше. Пока он рассказывал о стройках и дорогах, я опять перебирал бумаги на столе, их, кажется, и не убирали. Некоторые из них я начал читать; одно, не замеченное мной в тот раз письмо, я дочитал до последней строки. «Уважаемые товарищи, – писал Жигалко, – когда я работал в НКПС, в двадцатых годах, тогда уже поднимался вопрос о реконструкции нынешней вокзальной площади. Была организована комиссия из работников города и наркомата. На одном из заседаний я был от НКПС. Был высказан, а затем документально зафиксирован ряд существенных соображений по разгрузке этой части Москвы…» Дальше шли сами меры и заключительная строка: «Думаю, что в архиве МПС вы найдете подробные сообщения и данные».
– Что это, Александр Семенович, за письмо?
– Заболел, вот и не послал вовремя, – опечалился он. Потом, помолчав, подумав о чем-то, объяснил: – В «Вечерней Москве» известие было о том, что начала работать комиссия по реконструкции Комсомольской площади, я и решил написать туда. Мы ведь в двадцатых уже об этом думали… В архивах, наверное, осталось? Резонные были у нас сображения… Стоило бы, наверное, вернуться к ним… Понимаете, – он выхватил из вороха чистый лист, быстро нашарил карандаш и начал чертить. – Вот эти подземные переходы…
Я ощутил остро его искренность, меня удивило, даже ударило, не то, что он не забыл о небольшом техническом решении полувековой давности и хочет сейчас его отдать, подарить, а вот эта его печаль, что из-за нездоровья, из-за того, что не ушло вовремя письмо, в тех бездонных министерских архивах что-то бесплодно истлеет…
В тот день мы не говорили ни о Чайковском, ни о его даре, но, когда я уходил, он опять наклонился, порылся в потаенной части шкафа и вытащил оттуда дощечку: пейзаж – весеннюю березу, облака.
– Один из самых моих первых, – улыбнулся, – двенадцати лет писал это, или даже десяти, уже не помню точно. Тоже мое, – показал на пейзаж рядом с эскизом Репина, – и вот… Помолчал и, погладив переплет альбома, тихо закончил: – строил, писал…
Он замолчал, и я довершил:
– Строили, писали и собирали картины…
– Собирал? – резко посерьезнел он. – Да. Это было как болезнь.
– Болезнь? – удивился я.
Он утвердительно наклонил голову.
Конечно, я понимал, что собирательство занимало в его судьбе несравненно большее место, чем виделось это ему сейчас в сегодняшнем нашем общении над семейным фотоальбомом, но было ясно мне и то, что он не лукавил: ведь ландшафт жизни, как и ландшафт местности, может выглядеть по-разному в зависимости от точки зрения. При сегодняшней точке зрения собирательство отдалилось, и это, я догадывался, объяснялось не возрастом его, когда страсти уже угасают (коллекционерство – единственная, может быть, страсть, увеличивающаяся с годами, становящаяся иногда совершенно нестерпимой, переходящая в старости в подлинное сумасшествие, в клиническое безумие), нет, тут было что-то иное, изменилась, видимо, сама структура души, и это, несомненно, имело самое непосредственное отношение к тем двум моим первоначальным вопросам-сомнениям – к истории коллекции и к истории дара. Я называю мучившие меня мысли сомнениями, потому что с самого начала не верил не то что в абсолютную чистоту – нравственную – первой и второй историй, нет, подобных сомнений я старался себе не позволять, но я не верил в легкость, в отдающую восторженной репортерской строкой возвышенность мотивов действия, когда человек отрывает от себя самое дорогое, чему посвящалась жизнь. Философы давно поняли, что победа над собой – самая трудная из побед… Это драма, в которой судья и подсудимый выступают в одном лице.
Мои сомнения оставались неразрешенными, но начали вырисовываться характер и судьба Жигалко, и в этом было обещание ответов.
Да, собирательство картин было господствующей в его жизни страстью. С того самого часа, когда он, побуждаемый естественной любовью к живописи (не только студент-путеец, но и юный художник), купил в лавке на Кузнецком мосту за бесценок картину, оказавшуюся эскизом Репина, беспокойство души, ревность, жажда обладания, которыми были отмечены во все века все коллекционеры, стали его обычными состояниями.
В то далекое первое десятилетие века на развалах бойко шла дешевая распродажа картин, и юный Жигалко рылся, рылся, покупал на последние деньги, ограничивал себя в одежде и даже в еде. Чутье художника и интуиция коллекционера, становившиеся все более тонкими и безошибочными с годами, сообщали его выбору изумительную точность. Он уносил самое ценное – неказистая с виду, захватанная руками, покрытая пылью дощечка или порванный холст оказывались этюдами Репина, Левитана, Поленова… Он подружился с хозяевами «развалов», с коллекционерами, подружился с талантливыми молодыми художниками, дарил им собственные работы, и они тоже в ответ дарили (многое из того, что тогда подарили они, потом, через десятилетия, вызывало зависть у музеев).
Да извинят меня честные собиратели, которых большинство, но «лучшее» время для коллекционера – время больших социальных потрясений, войн, разрух, когда вещи резко, парадоксально меняют цену: море Айвазовского стоит дешевле ржаного ломтя, а солнце Италии на картинах Брюллова – глотка молока… К честным коллекционерам, подобным Жигалко, это, повторяю, не имеет непосредственного отношения, но бывает, что по странной воле судеб и у них потом оседают эти отмеченные человеческим горем ценности, миновав ряд нечестных рук…
К середине 20-х годов Жигалко обладал одной из интереснейших в нашей стране коллекций. Полотна с почетным титлом «из личного собрания А. С. Жигалко» участвовали в союзных выставках, посвященных Репину, Айвазовскому, Левитану, – честь для коллекционера большая.
Одна из трех комнат его квартиры в старом московском доме была заполнена полотнами: они лежали, и надо было поддерживать определенную температуру, ухаживать за ними. А страсть коллекционера – одна из самых мощных и загадочных человеческих страстей – не только не остывала, но делалась более мучительной.
И тут началась реконструкция Москвы. Жигалко лазил по развалинам, по чердакам обреченных на слом домов и находил в тяжкой рухляди то, что может понять и оценить лишь опытный коллекционер. Это было хорошее для его коллекции время; комната стала похожа на запасник большого музея. Стояли, лежали, теснились полотна, точно ждали чего-то. Чего?
А Жигалко тащил и тащил сюда новое, бесценное, и уже тяжело ему стало совмещать работу инженера в НКПС с коллекционерством и уходом за картинами, и он пошел в школу учителем рисования и был, видимо, отличным учителем, сам художник, некогда близкий к Архипову.
Коллекция Жигалко состояла из четырех тысяч полотен… Это было его сокровище, смысл и дело его жизни. Четыре тысячи полотен в его доме – его радость, его страсть, его собственность. Он заглядывал сюда то и дело, часто ночами, вытаскивал то или иное полотно, отвечающее его воспоминаниям, душевному состоянию, мыслям, – рассматривал и точно бы осязал ткань собственной жизни. Однажды его поразила мысль, что жизнь, казавшаяся такой разнообразной, исполненной поисков, новизны, волнений, в которой были и стройки, и любовь, и выезды весной «на натуру», – эта с дорогами, ручьями, лесами, запахом угля и сена жизнь уместилась в одну небольшую комнату в старом обветшалом доме. Мир съежился. И в съежившемся мире вызревал постепенно вопрос: зачем, во имя чего жил?
И стало сильнее и сильнее тянуть его в город, где он родился, бегал мальчишкой в реальное, где фотограф торжественно запечатлел на самой заре века большую рабочую семью, положив начало семейному альбому. В этом городе был хороший музей, и Жигалко написал туда, что хочет передать собранные в течение десятилетий картины, с тем чтобы ему оставаться рядом при этих бесконечно дорогих ему полотнах до конца дней… Письмо это вызвало восторг, потому что в музее достаточно хорошо была известна ценность коллекции Жигалко. К нему тотчас же выехал сотрудник, который в ознаменование завязавшихся между двумя сторонами добрых отношений отобрал несколько полотен, наиболее замечательных; уехал с ними и написал ему потом, что они уже выставлены, и музейные работники так же, как и посетители, восторгаются широтой его души. А он ждал, потому что хотел передать не несколько полотен, а коллекцию полностью, ибо была она для него чем-то неразрушимо цельным, и передать ее с самим собой, ибо себя не мог он от этой коллекции отделить. Шли месяцы; музей молчал. Жигалко написал опять, ему ответили уже суше, без тени былой восторженности, чтобы он набрался терпения, потому что организационно решить его дело нелегко. Потом сообщили, что это и вовсе не удается, и поэтому от его дара вынуждены отказаться. Картины честно вернули, хотя и не полностью, что-то оставили у себя. Жигалко не возражал, ведь это был город его детства.
Теперь его мысли были заняты одним: найти город, которому можно было бы передать коллекцию хотя бы и без себя, но полностью и непременно для постоянной экспозиции, ему показалось, что он действительно был нескромен, навязывал к бесценным полотнам собственную персону, в силу весьма пожилого возраста достаточно обременительную.
И он начал думать, советоваться, искать. Жигалко понимал: это должен быть молодой город, город с большим будущим, чья судьба лишь начинает складываться. В этой судьбе его галерея (а он мечтал именно о галерее) может стать особым событием (как Третьяковка, думалось порой нескромно, в судьбе Москвы). После долгих раздумий выбрал Жигалко один из молодых городов, известный обилием научно-исследовательских институтов, и решил, что лучшего места на земле для новой картинной галереи, конечно, не найти! Он написал туда, что хочет подарить молодому городу науки две тысячи ценных картин русских и советских художников. Ответ был получен немедленно: высылайте!
Александр Семенович погрузил картины в контейнеры (заплатил по тридцать девять рублей за контейнер).
Сообщения о «патриотическом шаге» Жигалко появились в местной печати. А когда в Доме ученых открылась выставка части подаренных Александром Семеновичем картин, местная газета поместила большой фоторепортаж с фотографиями, где мелькали в восторженном тексте имена Кипренского, Сурикова, Коровина… Заканчивался репортаж «Подарок любителям живописи» строкой о том, что решено создать «в научном городке постоянную картинную галерею». Жигалко, разумеется, был на открытии выставки, да и сама экспозиция составлялась при его деятельном участии. И хотя это была только выставка, а не картинная галерея, ему казалось, что великий замысел исполнился. Он помолодел, носился с утра до вечера по залам, изучал освещение, перемещал картины, наблюдал радостно за посетителями, обдумывал оптимальные варианты соседства различных полотен. Он переживал великие дни; видные, известные стране и миру ученые, сами коллекционеры, подолгу беседовали с ним; он взволнованно обсуждал возможное авторство анонимных картин и старался не думать о том, что долгие десятилетия то, что сейчас его окружает, покоилось в тесно набитой комнате…
Потом он уехал – дома оставались тоже две тысячи, надо было решить их судьбу. Он уехал с уверенностью, что половина коллекции устроена надежно, ничего, что пока в Доме ученых выставлена лишь часть ее, рождение галереи – дело не одного дня, нужна серьезная оргработа, надо набраться терпения…
А через некоторое время он получил из того города от любителя живописи, с которым успел подружиться, опечалившее его письмо. Картины со стен сняли. Он написал, ему ответили, чтобы не волновался, картины опять вернут. А местные печать и радио замолчали, и никто не заговаривал больше о постоянно действующей картинной галерее. Жигалко, теряя терпение (особенно возмутило его известие, что картины лежат на железнодорожном складе), послал резкое письмо, его уведомили холодно и четко, что картины помещены теперь в запасники библиотеки Дома ученых. А в этих запасниках Жигалко бывал тогда, в незабываемые дни торжеств, – там душно, для картин нехорошо. «Да, – думал он вечерами, – выставка – это мимолетная радость, однодневное торжество, а картинная галерея – будни, штаты, сметы, реконструкция, ремонты. А у них наука, большие дела, до меня ли…»
То, что он испытывал тогда, точнее назвать печалью, чем обидой. Порой он даже осуждал себя за то, что оторвал и отрывает людей, поглощенных, видимо, неотложными делами, на заботы о его картинах, возможную роль которых в судьбе города науки он нескромно переоценил…
А дома лежала половина коллекции. Две тысячи осели в запасниках библиотеки, две тысячи остались в той самой комнате, которая точно заколдовала эти полотна, не давая им выйти навсегда к людям.
И тут Жигалко в состоянии духа, как думается мне, несколько раздражительном – более на себя самого, – утратив надежду на рождение постоянной галереи, сохраняющей навечно в чудесной цельности собранные им сокровища, начал раздаривать полотна. Несколько этюдов Левитана он подарил Дому-музею П. И. Чайковского в Клину. И волей судьбы этот нечаянный подарок решил участь его сокровища. Одна из сотрудниц дома-музея, будучи на родине композитора, рассказала в молодом городе Чайковском о том, что живет в Москве старый-старый коллекционер, который хочет подарить великолепное собрание картин и не может найти кому… Люди, которым сотрудница об этом рассказала, разумеется, не поверили (да я и сам бы, услышав, не поверил), подумали: легенда; и вот пошла легенда гулять по городу, дошла до горкома партии и горисполкома; и вызвали туда директора малюсенького местного краеведческого музея Николая Петровича Кузьмина, попросили его написать в Москву Жигалко, а если надо, то и поехать к нему.
А когда в Чайковском удостоверились, что за легендой стоит реальность – четыре тысячи полотен, местная общественность повела дело настолько целеустремленно и энергично, что теперь уже не Жигалко наступал, а его самого осаждали: «Берем, устроим музей, это наше, наше!» Сообщения сыпались на него без перерыва: нашли двести сорок квадратных метров… решили, мало… нашли девятьсот квадратных метров, началась реконструкция… строителей выделил Воткинскгэсстрой… текстильный комбинат готовит портьеры… Весь город строит музей!
И в этих сообщениях не было восторженного пустословия: город действительно строил, точнее, перестраивал старый дом, создавая «нашу третьяковку». Новую картинную галерею Чайковский открыл в день рождения Александра Семеновича Жигалко – ему исполнилось восемьдесят четыре года. Его поздравили пятьдесят тысяч человек. День его рождения отпраздновал город.
Было это в феврале; в залах местной «третьяковки» выставили две тысячи полотен. Остальные две тысячи оставались еще в том городе. Александр Семенович собрал душевные силы и написал письмо о расторжении дарственной, ибо не выполнено основное ее условие: «показ картин народу». В этом письме он сообщил о рождении постоянной галереи в Чайковском: «Мое сокровище нашло родной дом». В июле Жигалко получил ответ: «Мы готовы вернуть Вам Ваш дар».
Брюллов, Репин, Левитан поехали в последний раз – в город Чайковский.
И опять я сижу в его комнате (он переехал недавно в новый дом, тот, где хранились десятилетия четыре тысячи полотен, пошел на слом), сижу за столом, заваленным бумагами, по-прежнему листаю их, перечитываю.
Александру Семеновичу все еще нездоровится, изредка обмениваемся замечаниями, а все больше думаем. Я думаю о том, что Жигалко совершил удивительное, завершившее собой его жизненный путь, путь к истине. Уже на излете жизни он осуществил ту великую переоценку ценностей, которая сообщила его бытию высший смысл. Все помыслы его сейчас в Чайковском. О былых мытарствах он говорит полушутливо:
– Нетерпелив я был. Надо было подождать, попросить, поклониться, задобрить, а я резкие письма писал.
– Задобрить? – удивляюсь. – Ведь вы же дарите?
– Ну и что ж что дарю. Бывают подарки и обременительные.
– Но вот же Чайковский не нужно было задабривать.
– Чайковский, – улыбается. – Чудо…
Я опять листаю письма из Чайковского, в которых содержатся переписанные строки из книги отзывов.
«Рабочие Ижевского металлургического завода благодарят Александра Семеновича за чувство возвышенного, которое его картины дарят каждому».
В разговоре со мной один из коллекционеров назвал Жигалко Дон-Кихотом. В душевном «зерне» и внешнем облике его действительно есть что-то подкупающе-явственное от «рыцаря печального образа». Жигалко сухопар, высок, часто поверх собеседника рассматривает что-то видимое ему одному, его медлительность, даже некоторая заторможенность, порой резко обламывается порывистым жестом, быстрым ритмом речи, как у человека, который мешкал перед дорогой и, решившись наконец, не идет, а бежит по ней.
Я опять оглядываю стены его комнаты, на которых висит то неотрывное, что он себе из четырех тысяч оставил. И, угадав мои мысли, Жигалко говорит:
– А Николая Петровича Кузьмина вы не осуждайте за то, что он в том письме потребовал это, последнее… Он удивительный человек, ему сесть в поезд… – И, понизив голос: – Я беспокоюсь, уж не собственные ли деньги он мне посылает, ведь получаю из Чайковского почти ежемесячно шестьдесят.
Те два из неотрывных полотен (Серов, Боровиковский), что сунул он Кузьмину в последний раз, думал я, чем-то по самой сути родственны письму в МПС с мыслями сорокалетней давности, которые могут сегодня послужить людям.
Страсть собирать уступила в этой жизни иной, высокой страсти – отдавать.
Наступило ясное понимание того, что собирательство без венчающего действия – от себя – бессмысленно. И в этом урок жизни, о которой я пишу. Наверное, высокое желание отдавать нельзя называть страстью именно в силу этого высокого понимания, ибо давным-давно было отмечено, что страсть – стремление, не повинующееся разуму; потребность же одарить мир и людей глубоко разумна, ее питает мудрая мысль об единстве «общины» и личности, человека и мироздания.
Петрарка писал в одном из сонетов о горечи «позднего меда»; это относится не только к любви, но и к меду поздней мудрости. И не от этой ли горечи та самая ирония, которая была не полностью понята мной, но явственно ощутима в первой беседе с Жигалко. Почувствовав однажды иронию жизни, он, несравненно поумнев, сумел обратить ее на себя.