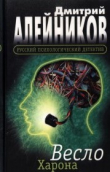Текст книги "Золотое весло"
Автор книги: Евгений Богат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Когда это непередаваемое богатство умещается в одном человеческом сердце, перед нами подлинно современная личность.
Я назвал это чувство нарождающимся, потому что у него, как мне кажется, огромное будущее. В третьем тысячелетии оно станет достоянием любого человека и сообщит особую новую духовность и человечеству и личности. Когда Маркс писал о совершенном человеческом обществе – коммунизме как возвращении человека к самому себе, то не забывал четко упомянуть: «с сохранением всего богатства достигнутого развития».
Чтобы ощутить, углубить в себе историческое чувство, нужна работа души. И если наше путешествие сквозь века ей поможет, поклонимся за это Эрмитажу!
…В картине Ватто «Отплытие на Цитеру» есть одна особенно волнующая меня пара: он с тихой, умоляющей настойчивостью, как это бывает в самом начале, в первом озарении любви, поднимает ее за руки с земли, с травы, чтобы вести по склону к берегу, к кораблю; она отклонила голову, нежно сопротивляясь… Потом она с ним пойдет к берегу; они поднимутся на корабль, они поплывут к острову любви, вырисовывающемуся в тумане, как чудное фантастическое видение.
И я верю, что чересчур долгое путешествие не утомит их сердца, не ослабит их любви.
Рассказ о «Сикстинской мадонне»
Это написано более двадцати лет назад; я решаюсь опубликовать один из самых первых литературных опытов, потому что он не только соответствует духу данной книги, но, как мне кажется, и углубляет его.
Федор Александрович Воронихин узнал, что ему нужно ехать на совещание в Москву, за три часа до отхода поезда.
Ехать должен был начальник соседнего участка, инженер Токарев, но он заболел, наглотавшись холодного ветра; послали Воронихина. Вечером на дощатом перроне Федор Александрович обнял жену, взглянул в ее лицо, тускло освещенное фонарем полустанка. Он чувствовал себя виноватым перед ней. Как мечтала она о Москве! И вот он едет один…
Воронихин не был в Москве много лет. Инженер-строитель, он часто менял местожительство, но все время оно почему-то оказывалось за тридевять земель от столицы. Теперь он строил город на Севере, по соседству с открытыми после войны залежами редких металлов.
Он жил, не думая о Москве, хотя на Арбате, в переулке его детства, по-прежнему каждую весну расцветала сирень… Он решил в душе, что забыл и этот переулок, и Москву. Но он ничего не забыл.
В ту минуту, когда поезд медленно вплыл в суматошную жизнь московского вокзала и Воронихин увидел через запыленное окно горящие на майском солнце бляхи носильщиков, сердце его упало…
Через час в общежитии министерства он составлял в уме план жизни в столице.
Первые два дня были ясны – совещание работало утром и вечером. Оставался третий день. Воронихин хотел пойти в Третьяковку и, если удастся, на выставку картин Дрезденской галереи. Из разговоров, услышанных в автобусе, он уже понял, что это почти неосуществимо: создавалось удивительное впечатление, будто вся Москва, забыв о тысяче будничных дел, волнуется, радуется, живет возможностью увидеть полотна Рафаэля, Веласкеса, Рембрандта.
В первый вечер столичной жизни можно было не спеша побродить по Москве…
Шел теплый нежданный дождь. В мокром черном асфальте плавали желтые пятна огней. Он поймал себя на том, что ступает осторожно и мягко, точно боясь их разбить…
В одиннадцатом часу утра с чувством робости, о котором постеснялся бы рассказать даже жене, Воронихин вошел в широкий и низкий, с темно-красными колоннами, вестибюль министерства. Он сел во втором ряду партера, чтобы лучше видеть и слышать. Начался доклад. Через час Воронихин почувствовал, что плечи его замлели: он обернулся и увидел в шестом ряду обращенное к нему ласковое открытое лицо, с нежным, почти девичьим румянцем на полных щеках. Рядом с окружавшими его полусосредоточенными, полусонными лицами оно выглядело ярко и весело. И Воронихин тоже улыбнулся: перед ним был Андрей Керженцев, товарищ студенческих лет…
Когда объявили перерыв, они кинулись навстречу друг другу, хотели обняться, но им помешали, и они пошли к выходу в шумном, веселом потоке без умолку говоривших и смеявшихся людей.
В вестибюле, у одной из колонн, Керженцев поймал галстук Воронихина, с силой потянул к себе, потом отпустил и, отступив назад, как тонкий ценитель перед картиной, стал сосредоточенно рассматривать его раздобревшую фигуру в черном старомодном костюме, его грубовато-доброе лицо с оттопыренной по-мальчишески нижней губой и чуть воспаленными веками. Эти красноватые веки делали чудо: ничем не замечательное, самое обыкновенное, в сущности, лицо казалось освещенным отблеском далекого огня… Оставшись доволен осмотром, Керженцев опять лучисто улыбнулся и воскликнул:
– Что же ты у меня не остановился, черт фиолетовый?
За широкую душу и любили студенты Керженцева в инженерно-строительном институте. Он не мог жить, не оказывая услуг окружающим людям. Делал он это беспорядочно и совершенно бескорыстно, часто забывая через день имя облагодетельствованного человека.
Ему ничего не стоило целую ночь делать чертежи для больного товарища, стоять двадцать часов в очереди за билетами на «Анну Каренину» для двоюродного брата, доцента, едущего через Москву из Одессы в Ярославль…
Одна лишь слабость была у него: любил каламбурить, играть словами. Но была эта слабость так безобидна, так детски простодушна, что, кажется, только украшала его.
Воронихин подумал, что, наверное, Андрей сейчас любимец министерства и его так же балуют за безудержно щедрый характер, как и двадцать лет назад в институте.
– Что же мы стоим-то с тобой, время-то ведь обеденное, – заговорил Керженцев и виновато улыбнулся. – Ты уж извини меня, Федя… Жена кончает консерваторию, и у меня дома по этому случаю только музыка. Солидных мужей ждут к обеду салаты, а меня сонаты. – Он рассмеялся, потом добавил: – Жена у меня молодая. – И почему-то строго посмотрел на Воронихина, будто тому это могло не понравиться.
Они пошли в соседний ресторан, сели за укромный столик, полузавешенный пыльными листьями пальмы, и Керженцев заказал обед.
Помолчали. Потом Андрей Керженцев начал рассказывать Воронихину о себе. Тот слушал внимательно, удивлялся, радовался…
Оказалось, что, странствуя по земле, застраивая ее поселками, мостами, радиомачтами, они часто бывали почти рядом: на берегах одной реки, на склонах одной горы, и только случайно из-за извечных капризов судьбы они не обнялись в дальних широтах, под северными и южными созвездиями.
– А теперь я столичный житель, – оживленно рассказывал Керженцев. – Командую трестом.
Подали обед. Они выпили. И Воронихин рассказал, ему о жене, о редких металлах…
– Я тебя, Федя, на Север не отпущу, – весело перебил его Керженцев.
– Что? – рассмеялся Воронихин.
– Не отпущу! – ласково и упрямо повторил Андрей. – Будешь со мной работать в белокаменной Москве. Начальником большого участка пойдешь, черт фиолетовый?
– Андрюша, ты поверь…
– Не верю! – играя весельем, размашисто перебил его Керженцев. – Не верю, что не хочешь со мной работать!
– Да я не об этом… – попытался было объяснить ему Воронихин, но Андрей его не слушал. Перейдя с буйно-веселого тона на доверительно-серьезный, он говорил: – Министр выступает завтра вечером, утром на совещании ничего любопытного не будет. Да что совещание! Сонная одурь! Поедешь со мной, посмотришь, как строят в Москве. Я тебе покажу такое…
«Что ж, эта поездка ни к чему меня не обязывает, а интересно…» – подумал Воронихин и согласился.
– Ладно, убедил…
Шумная сцена разыгралась за столиком, когда настало время расплачиваться за обед. Керженцев, чуть не плача, объявил смущенному Воронихину, что если в ближайшие недели он окажется на Севере, то не переступит порога его дома – уж лучше замерзнет под открытым пасмурным небом. Эта угроза подействовала на Воронихина. Он уступил…
Утром они послонялись по вестибюлю, чтобы их увидели, потом, не заходя в зал, вышли на улицу.
Не у самого министерства, а за углом их ожидала серая «Победа».
– В Шелестово, – небрежно обронил Керженцев, садясь в машину, и с удовольствием откинулся на сиденье, подложив одну руку под голову, а второй полуобняв Воронихина.
По дороге он рассказывал:
– Увидишь, Федя, дивное место… Лес, вода, тишина… Можно ставить «Лебединое озеро». Сейчас хозяин этой благодати – молодой инженер, самонадеянный юноша, которого я хочу освободить.
Потом беспокойно зашевелился, шумно дыша.
– Что с тобой? – рассеянно поинтересовался Воронихин, не отводя глаз от окна, за которым уже плыли омытые дождями леса.
– Волнуюсь, Федя, – ответил он, касаясь щекой плеча товарища, – жена, Наташа, сегодня играет самому… (он назвал имя известного пианиста).
Машина мягко въехала в лес, стало сумрачно от высоких темных стволов. Керженцев торжествующе улыбался. Улыбка его как бы говорила Воронихину: «Видишь, как красиво вокруг, но это только начало, тебя сегодня ждут еще большая красота, еще большие радости».
Лес кончился; дорога пошла в гору. Когда они достигли вершины широкого холма, Воронихин увидел огненно-кирпичный пятиэтажный дом; перед ним на изрытой черно-белой, точно поседевшей земле валялись в пыли заржавленные листы железа, разбитые панели, полузасыпанные щебнем большие камни и еще что-то странное, ни на что не похожее… Шофер повел машину бережно и тихо.
Торжественная улыбка сбежала с полных губ Керженцева. Он с доверчивостью ребенка обернул расстроенное лицо к Воронихину, как бы ища у него сочувствия, но тот сосредоточенно рассматривал изломанный лист заржавленного железа, похожий не то на башню рыцарского замка, не то на карикатурную физиономию с клоунским носом. Керженцев тоже посмотрел на этот странный лист, мимо которого, мягко покачиваясь, шла «Победа», и, суховато рассмеявшись, пообещал:
– Черти фиолетовые!.. Я им задам… – Вздохнув, он добавил: – А как тут зимой было красиво… Сказка!
Навстречу им вышел человек лет шестидесяти, маленький, в черной истертой кожаной тужурке. Керженцев поздоровался с ним, познакомил Воронихина.
– Мастер Королев. А где же ваш молодой, подающий большие надежды руководитель? – чуть усмехаясь, обратился Керженцев к Королеву.
– Уехал на бетонный завод и деревообделочный комбинат, – ответил Королев и пояснил с улыбкой: – Второй день без материалов сидим, Андрей Иванович…
(Это была улыбка человека, который очень раздражен и боится, что раздражение помешает ему быть вежливым с гостями.)
Керженцев насупился.
– Что это, Михаил Васильевич? – Он строго посмотрел в улыбающееся лицо старого мастера и медленным округлым жестом показал вокруг. – Что это? А?.. Я думаю, у господа бога в первый день творения больше было порядка на земле.
Королев, потупившись, молчал. Воронихину стало жаль его.
– Что будет в этом доме?
– Научно-исследовательский институт, – ответил, оживляясь, мастер и начал рассказывать об институте, но Керженцев его перебил:
– Не лучше ли нам пойти по этажам и воочию увидеть, что вы делаете для торжества науки?
Королев повел их по разбитым дощатым подмостям в будущий институт. Дом был в той стадии работы, когда снаружи кажется, что он уже построен, а в действительности до конца еще далеко.
На первом этаже было пустынно; в коридоре на цементном, давно не метенном полу тускло отсвечивали мелкие зеленовато-серые осколки выбитого ветром или нечаянным ударом стекла…
Они поднялись выше, зашли в одну из комнат. Керженцев опять посмотрел строго на Королева.
– Почему маляры не работают?
– Стены, Андрей Иванович, сохнут, – ответил мастер, улыбаясь. – Позавчера штукатурили.
– Лучше бы у вас сохло сердце от любви к делу, – с легким раздражением заметил Керженцев.
На лестнице Королев рассказывал:
– Чертежей на работы в подвале нет. Столярных изделий не хватает, паркета – ни одной штуки. Шлака для засыпки полов нет… Вопрос о наружной отделке не решен. Плиток для облицовки санитарных узлов нет…
Керженцев морщился и ускорял шаг, а Королев все торопливее сыпал однообразными, скучными словами.
В коридоре третьего этажа навстречу им выбежали женщины. Они быстро, перебивая друг друга, о чем-то говорили, и было видно, что им сейчас все равно, поймут их или нет, и одно лишь важно: излить в бурливом потоке слов то, что плещет в сердце.
Особенно буйно вела себя самая пожилая, маленькая, толстая, с большим, мясистым носом и тонкими, злыми губами. Подняв тяжелые кулаки, она шла на Королева, осыпая его отчаянными словами.
Воронихин догадывался, что, хотя она заносила кулаки над головой Королева и даже, казалось, готова была его избить, на самом деле ее гнев не имел к нему ни малейшего отношения, а был направлен на Керженцева и на самого Воронихина, в котором женщины, возможно, видели еще более высокое начальство.
Керженцев стоял молча. Вначале он задумчиво поднимал и опускал кожу на лбу, потом сочувственно улыбнулся, как бы показывая, что разделяет их возмущение.
Однако эта сочувственная улыбка не только не задобрила женщин, а, наоборот, вызвала еще большую ярость.
– Эх вы!.. – закричала старая так исступленно, что Воронихин понял: сейчас все начнется с самого начала. – Обман это, не по закону!
Керженцев умоляюще посмотрел на Королева.
– Михаил Васильевич… дорогой… неужели нельзя было уладить эти… финансовые дела?
Королев хотел было что-то ответить, но его опередила женщина с цыганским худым лицом.
– А вы сами уладьте! – сказала она, насмешливо щурясь. – Сами!.. На чужом горбу в рай не въедешь! И наряды посмотрите, и людей порасспросите, – добавила тише.
– Ну, что же… – замялся Керженцев.
– Нельзя сегодня, – огорченно покачал головой Королев. – Наряды у Шишкина, а он за материалами уехал.
– Ну завтра! – согласилась смуглая женщина. Она с вызовом и надеждой посмотрела на Керженцева и Воронихина. – Хорошо?..
– Завтра? – оживился Керженцев. – Ну, что же…
Он уже собирался попрощаться, но она загородила дорогу.
– И вот еще что! Ее, – она кивнула на самую молодую, все время молчавшую женщину, – ее уже пора переводить на легкую работу…
– На легкую работу? – не понял Керженцев. – Почему?
Женщины молчали. Самая молодая, смущенно усмехаясь, поправляла ожерельице, точно оно мешало ей дышать…
– А!.. – догадался Керженцев. – Ну, разумеется…
Воронихин посмотрел в ее лицо. Оно было сосредоточенно и серьезно, несмотря на усмехавшиеся губы. И хотя женщина еще не была матерью, у нее уже были лучистые, чуть опечаленные глаза, какие бывают только у матерей, Воронихин подумал, что ее глаза – самое изумительное и важное в этом полузаброшенном доме с мокрыми, недавно оштукатуренными стенами.
Женщины ушли.
Керженцев, Воронихин и Королев, заглядывая в пустые, пасмурные комнаты, обошли третий этаж, поднялись на четвертый.
Керженцев посматривал на часы. На лестнице, чуть отстав от мастера, держа Воронихина за локоть, он шепнул ему:
– Начала играть…
– Играть? Что? – опешил Воронихин.
– Наташа, жена, начала играть самому… – И Керженцев опять назвал имя известного пианиста. – И что выбрала! «Мефисто-вальс» Листа!
На четвертом этаже было так же пустынно и пасмурно, как и на третьем…
Когда Воронихин и Керженцев, попрощавшись с мастером, сели в машину, на мягком, обаятельном лице Андрея Ивановича появилось доверчивое и виноватое выражение. Это лицо говорило Воронихину: «Ты уж извини, Федя, что так получилось: понадеялся я на этих чертей фиолетовых, обманули они мое доверие…» Но Воронихин делал вид, что не замечает состояния Керженцева, он снова увидел за окном машины заржавленный лист железа, похожий с одной стороны на башню рыцарского замка, а с другой – на карикатурную физиономию с клоунским носом, и с удивлением уловил в этой физиономии что-то общее с лицом Керженцева. В ту же секунду он услышал ласковый голос Андрея Ивановича:
– Возьми, Федя, это тебе.
– Что мне? – не понял Воронихин и заметил в пухлых пальцах Керженцева розоватый листочек бумаги.
– Не видишь? – улыбнулся Андрей Иванович. – Билет в Дрезденскую галерею.
Воронихин растерялся.
Керженцев, посмеиваясь от удовольствия, говорил:
– Я подарил тебе ночь жизни, потому что стоять надо никак не меньше, чтобы туда попасть. Но дело, разумеется, не в этом! То, что ты, Федя, увидишь, стоит тысячи бессонных ночей. «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта!.. Тициан, Мурильо… А Рубенс, а Ван-Дейк. Это незабываемо… Мы были с Наташей на открытии выставки второго мая. Она без ума от пейзажа «Еврейское кладбище»…
Воронихин смущенно слушал.
– Да… – растроганно заметил Керженцев. – Ты сам ведь когда-то писал маслом… И на скрипке играл!.. – Помолчав, он добавил: – Ты был талантлив…
За окнами машины замелькала Москва.
Керженцев стал серьезен, он внушительно заговорил:
– Завтра же с утра я буду искать для тебя хороший участок в Москве или Подмосковье.
– Не надо… – отворачивая голову к окну, сказал Воронихин.
– Нет, надо, – настаивал Андрей Иванович. – Не забывай о судьбе Паши Кошелева… И не обижайся, я говорю это любя.
Паша Кошелев был их товарищ, от которого ушла жена, потому что он долго жил в «медвежьих» углах. Имя Паши в их кругу уже давно стало нарицательным для определения мужчины, которому не удалась личная жизнь.
Воронихин молчал. Он вспомнил влажные, говорящие глаза жены…
Когда женщина живет много лет в далеких, тускло освещенных по ночам поселках, на берегах малоизвестных рек, то – боже мой! – с какой силой мечтает она о том, чтобы войти в легких туфлях в зал Большого театра, шелестя шелком вечернего платья!
Точно издалека доносился голос Керженцева:
– Я, пожалуй, не пойду на совещание – очень волнуюсь, как Наташа сыграла. Завтра ты расскажешь, о чем говорил министр… Утром у меня дела. Жду двух академиков, эти почтенные старцы весьма словоохотливы. К трем часам поеду в министерство. Да! Не забудь, что у тебя билет в Дрезденскую галерею на сеанс в двенадцать часов, – там строго. Освободишься ты к четырем… В это время я и буду ждать тебя в вестибюле министерства…
Машина остановилась. В памяти Воронихина выплыло ожерельице из тусклых коричневых бусинок разной величины.
– Андрей, постой! Ведь мы с тобой обещали…
– Что обещали?
– В Шелестово… Завтра…
– А!.. – Керженцев, выходя из машины, посмотрел на него снисходительно и ласково, как смотрят на ребенка, сказавшего что-то необыкновенно наивное, забавное…
Окна общежития выходили на восток. На рассвете теплый луч лег на красноватые веки Воронихина; он поднял их и подумал о том, что сегодня пойдет на выставку картин Дрезденской галереи.
Это было его первой мыслью; второй было воспоминание о Шелестове.
«Я обещал», – подумал он и тут же заснул опять.
А в двенадцатом часу он шел по Волхонке к Музею изобразительных искусств имени Пушкина. В лицах людей, в их походке и жестах, в самом воздухе этой улицы было, казалось, что-то настороженно-ликующее.
За углом Воронихин увидел музей с волнующимися толпами перед чугунной оградой. Он остановился, соображая, куда ему идти. Вокруг царило беспорядочное оживление: люди куда-то бежали, возвращались, собирались в очереди и шумно рассыпались.
Воронихин направился к чугунной ограде, но, не дойдя до нее, повернул обратно и быстро зашагал от музея…
В Шелестово шел полупустой автобус. Воронихин думал: «Зачем я еду? Чем я могу помочь тем людям – старому мастеру и женщинам? Какая пустая затея! Разве я забыл, как однажды, в мороз и пургу, целую ночь ехал на собаках, чтобы успеть к укладке бетона в фундамент метеостанции? А фундамент уже уложили накануне, без меня… Как тонко усмехнулся инженер Вагин, когда я вылезал из саней, облепленный снегом! Но тогда это имело хотя бы отдаленное отношение к моей работе… И только ли это было нелепо?» Два месяца он писал по вечерам доклад о бетонных работах в условиях Дальнего Севера: ему казалось, что в холодном сарае, заменявшем им клуб, станет жарко от дыхания людей, когда он начнет его читать. Явились двое: старик сторож Архипов и жена… Тихо, почти не раскрывая побледневших губ, она сказала: «Чудак!» Термометр показывал тридцать четыре ниже нуля.
Воронихин не хотел ехать дальше, осмеивал себя, но в душе хорошо понимал, что не выйдет из автобуса раньше, чем нужно.
Он поднялся на широкий холм, увидел, как и вчера, огненно-кирпичный дом, черно-белую землю («У господа бога в первый день творения было больше порядка») и решительно направился к разбитым дощатым подмостям.
В конторе было двое: мастер Королев и молодой человек, худенький, в серой курточке. Наклонясь над столом, они рассматривали чертежи и при появлении Воронихина удивленно откинулись назад.
Мастер улыбнулся, как бы говоря: «Вот не ожидал…», а молодой человек покраснел и стал ерошить волосы.
– Николай Филиппович Шишкин, – назвал он себя, растерянно пожимая руку Воронихина. И, не переводя дыхания, осведомился: – Позвольте информировать вас о выполнении плана?
– Что вы!
Оба были смущены. Молодой человек, опять ероша волосы, тихо попросил:
– Пойдемте, я вам все покажу…
– Спасибо, я уже все видел вчера, – ответил Воронихин.
– А сегодня у нас не то, что вчера, – поспешил Королев на помощь Шишкину. – Сегодня люди работают.
– Ну что же, я с интересом…
В коридоре второго этажа удушливо пахло горячим битумом; молодые рабочие, сидя на полу, черными по локоть руками укладывали паркет.
Хозяева повели гостя в одну из комнат.
На высоких козлах стояли две женщины: смуглая, с худым цыганским лицом, и самая молодая, в ожерельице… Изогнувшись и закинув головы, они намазывали на потолок бело-кремовую влажную пасту.
На подоконнике сидела рябая, широкоскулая женщина и медленно водила набухшей от белил кистью по оконной раме. Пожилой не было видно…
Работа только началась. Комната, как и вчера, была пасмурной и сырой, но что-то в ней уже изменилось – так изменяется хмурое лицо, когда в уголках губ зарождается улыбка.
«Ну вот, опять все обошлось без меня», – подумал Воронихин, оглядывая комнату. Взгляд его остановился на самой молодой. Ветер, ворвавшийся в окно, обжимал платье вокруг ее совсем еще стройной фигуры. Движения ее были плавны, медлительны, а лицо сосредоточенно и серьезно.
Как непохоже на это работала смуглая! Она накидывала бело-кремовую массу быстрыми, по-мужски сильными и по-женски изломанно-капризными мазками. Порой она сильно выгибалась, откидывая назад голову и плечи (так легко, как это делают в пляске), и при этом щурилась, будто перед ней, у самого лица ее, был не мазок белой пасты, а солнце… Часто мимолетными жестами она поправляла черные волосы, чуть касаясь их пальцами, и было видно: несмотря на увлечение работой, она чувствует, что ею любуются…
Воронихин опять перевел взгляд с ее легких, смелых рук на медлительные, сосредоточенные руки соседки… Точно два мира поместились рядом на этих высоких, обрызганных олифой козлах: мир самой молодой женщины – несмело-счастливой, открывший в себе богатство, которое надо беречь в тайне и тишине, и мир смуглой – бесстрашно-щедрый, уже многое переживший и растративший, но ставший от этого лишь полнее.
А на подоконнике сидела рябая, в ее фигуре, чересчур старательных жестах и широкоскулом лице чувствовалось то мучительное напряжение, которое бывает только у подмастерьев и никогда у мастеров.
В комнату вошла пожилая женщина, маленькая, с мясистым носом. Она в обеих руках осторожно несла большой лист сучковатой фанеры, изукрашенный широкими, небрежными мазками различных тонов.
Королев радостно заулыбался.
– А ну покажи, чего намудрила. Хорошо… А вот это не темно ли? – Он дотронулся пальцем до верхнего мазка.
– Темно? – Она рассмеялась. – Погляди, как серебрится.
– Э, да тут у тебя что-то новое… – сощурился он на соседний соломенно-золотистый мазок.
– А так лучше, – ответила женщина, – чище, рассветнее…
Она стала объяснять, почему найденный ею новый оттенок лучше того, который был раньше одобрен архитектором, и Воронихин догадался, что этот оттенок напоминает ей утренние зори в краю ее детства, и вспомнил вдруг, что он сам видел такую соломенно-золотистую зарю в тихой лесной стороне за Окой, где строил комбинат минеральных удобрений.
– Рассветнее, рассветнее… – повторяла она, выразительно играя тонкими губами.
Посоветовавшись с Воронихиным, Королев и Шишкин решили отделать комнаты второго этажа новым колером. Пожилая женщина улыбалась. Лицо у нее было ласково-самодовольным, как у торговок цветами в первые весенние дни…
Чтобы лучше различить оттенки, они подошли к окну, которое окрашивала с мучительным напряжением рябая. Порой она отрывалась от работы – обмакнув кисть в белила, задумчиво и завистливо оглядывала высокие козлы…
Там, под потолком, решалась судьба нового соломенно-золотистого тона: его долговечность зависела от того, хорошо ли женщины загрунтуют комнату. И они старались.
Но вдруг самая молодая, в ожерельице, попробовала перегнуться назад, как это делала ее подруга, и едва не потеряла равновесие…
Когда вернулись в контору, Воронихин небрежно-грубовато заметил:
– Неужели, черт возьми, нельзя было найти легкую работу для этой женщины?
Шишкин покраснел.
– А вы думаете, я не упрашивал ее? Сама не хочет, говорит, рано… С завтрашнего дня насильно переведу.
Воронихин хотел начать щекотливый разговор о деньгах, но Шишкин сам заговорил об этом:
– Мне рассказывал Михаил Васильевич, что женщины жаловались вчера… Ну что ж! – Он все больше краснел. – Сам Михаил Васильевич был болен в апреле, а я в денежных делах не силен. Какой из меня финансист!
– Покажите мне наряды за март и апрель, – попросил Воронихин, – и вообще, если можно, всю документацию.
После полуторачасового изучения нарядов Воронихин установил, что женщинам заплатили в апреле, из расчета на один день, меньше на рубль восемьдесят пять или девяносто (надо уточнить) копеек. Шишкин с пылающими от смущения щеками пообещал, что этот долг будет возвращен в начале июня…
Потом было решено спуститься в подвал: Королев хотел, чтобы Воронихин посоветовал, как лучше утихомирить подпочвенную воду, которая выступала в одном месте.
Подвал не освещался; старый мастер зажег фонарь.
Бежали минуты…
Воронихин и его новые товарищи вышли под вечереющее небо. Пора было уезжать.
– Где же ваша машина?! – воскликнул Шишкин.
– Я поеду автобусом…
В это время из-за угла выплыла, тяжело шатаясь на ухабах, трехтонка.
– Матвеич! – обратился Шишкин к шоферу тем фамильярно-униженным тоном, каким молодые, не очень уверенные в себе руководители говорят с острыми на язык рабочими. – Матвеич, возьми, пожалуйста, товарища в Москву.
Рядом с шофером сидела женщина. Она хотела было выйти, чтобы уступить место Воронихину, но он закричал: «Не выходите!», забрался в кузов и уже оттуда, нагнувшись на опасном ухабе, помахал рукой Шишкину и Королеву.
Когда выехали на ровную дорогу, он расположился хорошо, даже с комфортом: подмял под себя валявшуюся в углу охапку сена. В нем запутался нежный матовый осколок – должно быть, сегодня перевозили ящики с абажурами…
Воронихин полулежал лицом на запад и видел закат. Солнце садилось в оранжевом дыму. Чуть выше, в подкрашенной этим дымом синеве, неслышно шли облака: вишневые, пепельные с розоватым отливом, янтарно-белые и черные, точно сажа.
Эти облака чем-то – не то формой, не то игрой тонов, а может быть, ни с того ни с сего – напомнили Воронихину торопливые, небрежные мазки на сучковатой фанере…
Но перед ним было небо, огромное, переливчатое, окрашенное оранжевым дымом заходящего солнца.
Радостное чувство освобождения и покоя овладело им, но ненадолго. Он посмотрел на часы: можно еще успеть…
На окраине города машина остановилась. Шофер вышел из кабины и, обернув к Воронихину хмурое лицо, посоветовал:
– Вам бы лучше сойти. Я к себе задами поеду… – И пояснил: – На порядочных улицах могут оштрафовать за отсутствие крахмальных манишек. – Он выразительно постучал по запыленному борту.
Воронихин оглянулся: ни такси, ни автобуса. На соседней улице погромыхивал трамвай.
Тогда он выхватил из кармана деньги.
– Вот. Я заплачу штраф… Только едем… едем… Я очень спешу… На Волхонку!
Шофер, зло усмехаясь, остро взглянул в лицо Воронихину, потом сел в кабину, и они поехали дальше.
Когда машина выбежала на шумное Садовое кольцо, Воронихину показалось, что он возвращается из далекого путешествия.
Переулочками Арбата, изломанными, как дорога в горы, мимо домиков с осыпавшейся штукатуркой, за кустами расцветающей сирени, трехтонка добралась до Кропоткинской.
Воронихин, отряхнув былинки сена, выпрыгнул из высокого кузова на тротуар. Увидев хмурое лицо шофера, он понял, что не надо не только совать ему денег, но и говорить благодарственных слов.
Молча пожал ему замасленную руку.
На Волхонке было не так оживленно, как утром. Две очереди огибали с обеих сторон низкую чугунную ограду. Одна, с билетами, медленно подвигалась; вторая, без билетов, стояла недвижно, как многофигурное изваяние из исполинского камня.
Воронихин поспешил занять место в первой очереди. Он заметил, что на него посмотрели с удивлением, а молодая, ярко одетая женщина, смущенно отодвинулась…
«В чем дело? – подумал он. – А! Может быть, у меня в волосах осталось сено? – И он уже хотел потрогать рукой волосы, но его остановила ужасная мысль: – Что, если на этот вечерний сеанс билеты не розоватые, а белые или зеленые?» Он посмотрел на руки соседей и успокоился: они держали узкие розоватые листочки.
Все же Воронихин решил пойти на одно ухищрение: он зажал билет в пальцах так, чтобы не было видно часов сеанса. И с обмирающим сердцем подвигался все ближе к контролю…
Когда он вошел в залы музея, у него закружилась голова от блеска рам, сияния красок и даже, казалось, от их запаха. В первые минуты он ничего не понимал, но, постепенно успокоившись, стал различать лица, руки, волны, деревья, листья. Все это ожило, зашумело, обступило его. Потом, еще более успокоившись, он начал видеть, как вспыхивает солнце на женских лицах и отражаются облака в мокрой листве…
Особенно долго стоял Воронихин перед полотнами Рембрандта. Его взволновал портрет старика с посохом. Из мрака выплывали, мерцая, тяжелая рука и мудрое морщинистое лицо. Воронихин почему-то подумал, что этот старик честно поработал на земле.
Портрет висел у окна и отсвечивал. Воронихину все хотелось получше его рассмотреть; он переступал с места на место перед картиной и вдруг увидел в ней не старика с посохом, а себя самого, отраженного, как в зеркале, в темном лике. «Неужели это я?» – подумал он. Левая щека его была маслянисто-серой, в волосах торчали соломинки… Он подался к портрету, и в тот же миг отражение исчезло: навстречу ему снова выплыли, мерцая, тяжелая рука и старое, все понимающее лицо… Воронихин крепко, до боли, потер щеку носовым платком и пошел дальше.