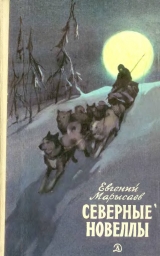
Текст книги "Северные новеллы"
Автор книги: Евгений Марысаев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Ребята отсыпались в палатке, а я с рассветом, наскоро перекусив, отправился к заветному месту.
Зеленая штормовка и зеленый берет неплохо маскировали меня; вдобавок я сплел широкий венок из орешника и водрузил его на голову, как это делают армейские разведчики.
Наконец впереди сквозь тайгу блеснул васильковый Амур и показалась обширная пойма, редко утыканная замшелыми от излишней влаги лиственницами. Пойма была почти сплошь скрыта белым туманом. Отсюда мы вспугнули японских журавлей.
Я долго стоял, весь обратившись в слух. Пели, заливаясь, птицы, со всех сторон в исступлении орали лягушки. Но чу! В эти привычные звуки вдруг вклинился иной крик. Этот чистый и гортанный крик могла издать только крупная, благородная птица. Он магнитом потянул к себе, и я запрыгал с кочки на кочку, стараясь потише хлюпать своими высокими болотными сапогами. Тяжелые туманы колыхнулись, холодно облили штормовку, лицо, руки частыми каплями. Я продвигался поймой, подобно охотнику на глухаря: когда птица кричала, я бежал, обрывались заветные звуки – замирал как вкопанный.
С удивительной быстротою летит время в подобной ситуации, точнее, совершенно теряется его ощущение. Солнечный хохолок, только-только выглянувший из-за сопки, когда я подходил к пойме, превратился в твердый ярко-малиновый диск, победно поплывший над землею. Туманы поредели и осели, как сугробы под дождем. Они уже не скрывали меня, приходилось то и дело пригибаться и приседать. Судя по движению солнца, прошло не менее часа.
Наконец послышались легкие хлопки крыльев. Странно, они не передвигались, как у летящих птиц, а раздавались с одного места. И еще до слуха донеслось: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп! Словно маленькие напуганные лягушата один за другим прыгали с кочек в воду. Я лег и пополз по-пластунски и через минуту был весь вымазан липкой вонючей жижей. Что поделать, иначе спугнешь. Довольно плотный у земли туман неожиданно оборвался. Я глянул вперед и крепко зажмурился. Так инстинктивно поступает человек, если рядом вспыхивает магний или электросварка. Но я был ослеплен не вспышкой...
Птицы были яростной белизны, как иней в солнечных лучах, как расплавленный металл. А длинная шея, голые ноги и второстепенные маховые перья – чернее дегтя, чернее самой темной ночи. Гениальный художник – природа – прихотливо бросил в это классическое, строгое и холодное сочетание маленькую деталь, легкий мазок: аккуратную длинно клювую головку
венчала красная шапочка.
Я насчитал их семь пар. Самки внешне ничем не отличались от самцов. Птицы занимались очень прозаичным делом, расхаживали по болоту, отыскивали, хватали клювами и заглатывали небольших лягушек, но в каждом движении танчо, в наклоне шеи, повороте головы было столько грации! Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп – передвигаясь, били они по водяным оконцам лапками. Вот, оказывается, кто рождал эти звуки.
Я лежал, затаив дыхание, унимая расходившееся сердце, потому что ближайший журавль расхаживал в десяти метрах от меня. Если бы не широкий венок из орешника, скрывающий голову, лицо, плечи и часть спины, я бы, безусловно, был обнаружен птицами.
В левую бахилу затекла вода, остро пахнущая болотная жижа холодила грудь и живот, но я не сделал ни единого движения, боясь вспугнуть осторожных птиц. И великое терпение мое было вознаграждено. То, что я увидел, верно, не забуду до конца дней своих. Такое невозможно забыть. Мне часто вспоминается болотистая низинка возле василькового Амура, тяжелый запах мари, осевшие сугробы туманов и танцующие птицы, словно слетевшие с яркой японской акварели...
Парочка журавлей, что кормилась слева от меня, супруг и супруга, может, жених и невеста, неожиданно оставила в покое лягушек. Они повернулись друг к другу. Он или она, уж не знаю, видно, он, потому что обычно первым начинает танец самец, вытянул шею к груди подруги. Его головка с красной шапочкой начала плавно опускаться и вновь подниматься; шея извивалась черной змеей. Приглашение к танцу? Возможно. Но самка этого не поняла и удивленно косила на партнера глазом. Тогда самец, приседая на длинных ногах, заходил кругами, все быстрее и быстрее; выброшенные крылья взлетали и с хлопком опускались. Он танцевал, иначе не назовешь эти выверенные движения; каждое па было доведено до совершенства.
Неожиданно самец остановился напротив подруги, как бы спрашивая: «Ну, дошло, душа моя? Я приглашаю тебя на танец». И птицы вместе запрыгали вверх и захлопали крыльями. И длилось это довольно долго. В прыжке они одновременно резко распрямляли согнутую левую ногу, а на вершине сложной фигуры непременно выбрасывали крылья, на мгновение замирая в воздухе.
Краем глаза я увидел: все журавли оставили трапезу, с напряженным вниманием следили за танцующей парой, и при этом каждая птица заметно приседала и покачивалась. Так человек, наблюдая лихой пляс, невольно притопывает в такт ногой или поводит плечами.
Но вот птицы вновь остановились друг против друга. Я подумал, что танец окончен, и ошибся. Они начали иную фигуру. И самец и самка вытянули шеи к небу, а головки, напротив, опустили, направив клювы в землю. Красные шапочки смотрели друг на друга: чья краше? Потом, дрогнув крыльями, устремили клювы в небо и резко, гортанно прокричали. Повторили эту вторую фигуру вновь. И опять вернулись к первой: начали взлетать, хлопать крыльями, выбрасывая согнутую левую ногу, замирали в воздухе. Теперь они, опустившись очередной раз на землю, зачем-то подхватывали клювами то веточку, то травинку и высоко подбрасывали их.
Между тем остальные пары – шлеп-шлеп, шлеп– шлеп! – как по команде, приблизились к танцорам, окружили их со всех сторон.
И вот уже другой самец потянул шею к груди подруги, и красная шапочка его задвигалась челноком; затем прошелся кругом, приседая и хлопая крыльями. И супруги начали танцевать точно так же, как и первая пара. Не успели они закончить фигуру, в танец вступили их соседи слева. Через минуту-другую танцевала вся стая! Хлопанье крыльев, гортанные крики. Сколько это длилось? Я забыл об уходящем времени...
Журавли подпрыгивали невысоко, метра на два. Но вот одна пара, быть может, та, что начала танец, взлетела намного выше танцующей стаи. Птицы медленно планировали, выбросив веер крыльев, и опустились в полсотне метров от своих соплеменников. И тотчас зашлепали по оконцам, сосредоточенно принялись разыскивать лягушек. Для них танец был окончен. Вскоре выше взлетела другая пара...
Я готов был пролежать так хоть целый день – едва ли придется когда-нибудь еще увидеть такое,– но подвела предательская топь. Она поглощала, затягивала меня. Пришлось пошевелиться, чтобы перелезть на соседние кочки. И в ту же секунду раздался долгий, громкий, пронзительный крик. Верно, это забил тревогу вожак. Журавли – и те, кто закончил танец, и те, кто продолжал танцевать,– шумно забили крыльями, взлетели. В яркой синеве неба они вытянулись клином и полетели к Амуру. Сейчас, в утренних солнечных лучах, птицы казались оранжевыми...
Передышек начальник отряда больше нам не давал, план есть план, его надо выполнять, и я больше не ходил к журавлям. Но однажды маршрут пролег мимо журавлиной поймы, и я предложил геологу подкрасться к птицам. Несмотря на усталость, он сразу согласился.
Мы долго стояли в ожидании знакомого гортанного крика, чтобы определить точное местонахождение птиц. Но услышали вдруг не обычный, а долгий и душераздирающий крик-вопль.
Не сговариваясь, мы побежали на отчаянный зов.
За перелеском показались журавли. Стаей они кружили над одним местом. Мы не таились и были сразу же обнаружены осторожными птицами, но странно: сейчас они не улетели прочь, только поднялись повыше. Меж ветвей на земле кувыркалось что-то бело-черное, живое...
Это был танчо. Когда мы подбежали к нему почти вплотную, он взлетел. Полет его был неровен, пернатый заваливался то на один, то на другой бок. И что-то свисало с его окровавленной груди, что именно, я понял лишь тогда, когда оно отделилось от птицы и упало на землю. Гибкий и маленький, не больше двухмесячного котенка, линялый горностай молнией метнулся прочь и мгновенно исчез за кочками.
На что способен этот безобидный на вид «котенок», мы знали не понаслышке. Каждую ночь маленький разбойник заявлялся на стоянку отряда и пожирал или тащил в нору все, что плохо лежало: убитых с вечера уток, остатки мясной трапезы в котле, жестяные банки с говяжьей тушенкой, которые наловчился прокусывать острейшими зубками. Разбой на стоянке мы ему прощали: не виноват же зверек, что природа наградила его отчаянной храбростью, воровскими повадками и аппетитом Гаргантюа. Но сейчас я пожалел, что не успел сорвать с плеча ружье и не прикончил маленького убийцу.
Танчо упал неподалеку в камыши, забился. Мы подошли к пернатому. Он лежал вверх ногами. Матовая пленка натекла на его глаза. Из грудки резвой струйкой била кровь. Силы оставили птицу.
Мой товарищ поспешно снял штормовку, а затем pi рубаху. Он перетянул рубахой туловище журавля, закрыв материей рану.
– А то кровью изойдет,– пояснил геолог.
Затем осторожно, как новорожденного, поднял танчо на руки, и мы пошли к стоянке.
Танчо уложили на оленьей подстилке. Я наловил лягушек, миску с пищей поставил у изголовья птицы. Ни к еде, ни к воде журавль за ночь не притронулся. Он лежал, как мертвый, на спине, с подогнутыми ногами.
Утром я был немало напуган, выйдя из палатки. От полога с громкими хлопками крыльев отлетел журавль. Догадался: супруг или, напротив, супруга раненой птицы. Я знал, что танчо, как и белые гуси, объединяются парами на всю жизнь и верность их граничит с самопожертвованием. Похоже было, что он находился возле палатки всю ночь.
Пернатый опустился неподалеку, замер в чуткой стойке, неотрывно глядя на меня. Так он и простоял битый час, пока мы завтракали и собирались в маршрут.
Раненую птицу мы оставили в палатке, тщательно застегнули полог. Сейчас с ней в два счета расправился бы любой хищник.
На третий день журавля вынесли из палатки, поставили на мох. Он сразу увидел своего соплеменника, супругу или супруга, неотлучно дежурившего на стоянке эти дни. Рванулся из рук, побежал к нему. Длинные ноги подвернулись – упал, пропахав клювом землю, но тотчас поднялся.
Мы отошли от палатки, чтобы не пугать птиц. Теперь и тот, что ожидал на стоянке, неуверенными шажками направился к нашему танчо.
И вот они рядом. Стукнулись клювами, издав тупой костяной звук. Красные шапочки задергались челноками. Одновременно выбросили крылья, подпрыгнули, дернув в воздухе согнутыми левыми ногами. Так начиналась первая фигура журавлиного танца.
Но сейчас птицы не собирались танцевать. В прыжке они не опустились на землю, а поднялись, отчаянно хлопая крыльями, над тайгою. Затем одна пристроилась в хвост другой, пернатые сделали круг над стоянкой и поплыли по направлению к журавлиной пойме. И опять в утренних солнечных лучах птицы казались оранжевыми.

На этом арктическом острове, отброшенном в Ледовитый океан за сотни миль от материка, нам предстояло пробурить несколько скважин.
Едва был разгружен прокопченный трудяга Ми-4, не успели буровики разместиться в бараке, как я уже прихватил свой мощный английский бинокль и, миновав маленькую эскимосскую деревеньку, поспешил на побережье. Еще с воздуха я заметил большое моржовое стадо. Хотелось рассмотреть морских исполинов поближе.
Бухта крутым рогом снежного барана врезалась в берег. Слева и справа теснились, вплотную подступая к воде, древние морщинистые скалы. За сотни тысяч лет жестокие ветры, непрерывно дующие с Северного полюса, причудливо обточили камень, изваяли гранитные скульптуры. Вон там голова турка в чалме, с горбатым носом и бородкой клинышком, а там во весь рост скорбно застывший старец в длинном одеянии, похожий на апостола... Ледяные туманы, высвеченные неуемным арктическим солнцем, иногда ненадолго закрывали скалы, и когда они появлялись над водою вновь, то казались призрачными, нереальными.
Был разгар неласкового арктического лета. Дрейфующие льды отошли от острова метров за триста, образовав вдоль побережья полоску чистой воды. Даже сейчас, в яркий солнечный день, вода оставалась одноцветной – свинцовой. Ледовитый океан не Средиземное море, не переливается яркими павлиньими красками. Зато льды, тысячемильное нагромождение торосов, купаясь в солнечных лучах, играли диковинными цветами. Их невозможно перенести на холст; таких нежных, легких, чисто-прозрачных красок не существует в палитре художника. Один торос был янтарный, другой сиреневый, третий алый... Казалось, иная, не земная сила сотворила эти краски, на самом деле все объяснялось просто – преломлением морской соли в солнечных лучах.
Льдины, большие и малые, круглой и яйцеобразной формы, были отделены одна от другой неширокими трещинами и разводьями. Почти на каждой лежали моржи, лишь один находился в полынье. Он отдыхал в вертикальном положении, из воды торчали лысая усатая голова с белыми бивнями и округлые плечи.
Звери успели хорошо загореть. Они ухитрялись загорать, менять цвет толстой – трехсантиметровой —кожи под скупым арктическим солнцем. Среди них были и рыжие, как апельсин, и светло-коричневые, и даже по– поросячьи розовые.
Разглядеть четырех-пятиметровых великанов весом до полутора тонн было нетрудно и невооруженным глазом, и я хорошо различал приплюснутые спереди головы, упруго торчавшие из мясистой верхней губы вибриссы – усы, толстые, восьмидесятисантиметровой длины бивни, широкие передние ласты (задние ласты у лежавших моржей были подогнуты вперед и скрыты жировыми складками). Спавшие звери храпели так сладко и громко, что я их услышал еще за толстой бревенчатой стеною барака; те, кто бодрствовал, переговаривались – по-медвежьи ревели, по-коровьи мычали, по-свинячьи визжали и хрюкали. Даже с такого расстояния ветер донес до меня крепкий зловонный запах.
Мне показалось, что звери лежат хаотично; где выбрались на сушу, там и залегли. Обманчивое впечатление! Присмотревшись, я сразу выделил самок с детенышами. Молодые и старые мамы – айвоки и агна– салики, как называют их эскимосы,– находились с кассекаками – малышами – по отдельности, на своей льдине, у самой кромки, чтобы в случае опасности успеть нырнуть. Они лежали в самых разнообразных позах. Чаще кассекаки, взобравшись на широкие материнские спины, дремали. С серебристой шерсткой, отчаянно курносые, с выступающей челюстью, они здорово смахивали на бульдожек, особенно когда приподнимались на кривых передних ластах. Если самка кормила, то она заваливалась на бок, в истоме вытянув на льду шею, а детеныш пристраивался к сосцам и жадно чавкал. У айвоков и агнасаликов кожа была почти голая со множеством морщин и складок. Время от времени самки беспокойно крутили головами: нет ли опасности? Выкармливают, пестуют своих чад они долго, до двух лет. Целый год кассекак питается только материнским молоком, затем, когда покажутся клыки, еще год самка учит пестуна добывать пищу, пропахивать бивнями морское дно, выискивать рачков, моллюсков, звезд. Мать сильно привязана к своему малышу и не покинет, не оставит детеныша, даже раненная: прижав к груди передними ластами, непременно уйдет с ним в океан. И, будьте уверены, пойдет на явную гибель, но попробует отомстить тому, кто осмелится тронуть детеныша.
Тесно прижавшись друг к другу, тоже на своих, отдельных льдинах отдыхали старые самцы – антох– паки. Они устали от жизни за три десятилетия, не обращали никакого внимания на самок, и ничто их не занимало и не волновало. Долгие часы антохпаки дремали в одной и той же позе. Бивни их были стерты почти наполовину, а на толстой, бугристой от шишковатых наростов коже красовались многочисленные шрамы и рубцы – следы буйной, давно ушедшей молодости, страшных поединков с сородичами. На широких спинах морских зверей сидели белые чайки, выклевывали из складок кожи паразитов.
В компаниях молодых, подросших самцов – ункаваков – то и дело возникали жестокие драки. Льдины, н? которых они лежали, были в пятнах крови. Повод для драки мог быть самый ничтожный: например, слишком громкий рев, который не понравился соседу, ненароком придавленный соплеменник. На самок моржи – ноль внимания. Они нужны им только в брачный сезон. Отцовских чувств они не ведают.
Между тем одинокий морж, находившийся в полынье, заходил небольшими кругами. Судя по размерам головы и клыков, это была еще не старая самка. Почему она одна? Отчего в воде, а не на льдине? Я поискал глазами ее детеныша и не нашел.
Показав миру толстенный зад, она вдруг рывком, вертикально ушла в воду. Ныряльщики моржи отличные, уходят на глубину до девяноста метров. Кормилась, пропахивая бивнями дно, она довольно долго, минут десять. Дольше без воздуха ей не выдержать. И моржиха появилась на поверхности, издав громкий выдох и фырканье. Затем неспешно поплыла вдоль кромки льдов, на которых лежали самки с детенышами. Потом стало происходить что-то непонятное... Моржиха поочередно подплывала к льдинам, перевалив на треть свое толстое тело, с треском вонзала клыки в лед, подтягиваясь на них, взбиралась на кромку. Те Кто Ходит На Зубах – так в переводе с латинского звучит название моржа. Затем тяжело, неуклюже прыгала к самке с детенышем. Самка ее не занимала вовсе, а интересовал только детеныш. Она тянула к малышу клыкастую морду, пыталась погладить ластой. Но не успевала она дотронуться до него, как самка нападала на моржиху, мощными ударами бивней изгоняла со своей льдины. Незваная гостья тяжелым тюфяком сваливалась в воду и плыла к соседней льдине, к другой самке с детенышем. Там повторялось то же самое. Мне оставалось только строить догадки...
На каменистую косу была вытащена эскимосская байдара, обтянутая кожей моржа, с ребрами этого зверя вместо деревянного каркаса; в ней валялось весло с широкой лопастью. Я решил подплыть поближе к морским великанам, чтобы рассмотреть их в непосредственной близости. Человека они не боятся, подпускают почти вплотную. Правда, среди них мог находиться келюч – хищный морж, который нападает и на человека с целью убить его. Но келючи – большая редкость. Хищниками моржи становятся в исключительном случае и не по своей доброй воле. Что прикажете делать кассекаку, у которого убили мать? Клыки у него еще не показались. Чем же пропахивать дно, выискивая пищу? А есть-то надо. Вот и подстерегает он кольчатых нерп, птиц и, познав вкус теплой крови, выросшим, матерым зверем сможет напасть и на человека.
Я столкнул легкую байдару в воду, вспрыгнул в нее сам и чуть было не свалился в ледяную воду, потому что она неожиданно задергалась из стороны в сторону, кренясь то на один, то на другой борт. Не иначе как хитрый и злой эскимосский черт Тугнагако – Дух Севера – захотел искупать меня в холодном океане. Остается только удивляться, как это не умеющие плавать чукчи и эскимосы решаются выходить на этой чертовой посудине в океан. Но наконец балансированием рук, ног, корпуса мне удалось усмирить взбунтовавшуюся байдару; я устроился на корме и поплыл, поочередно опуская весло с левого и правого борта. Байдара скользила по воде легко, как с ледяной горки. Кромка плавучих льдов быстро приближалась. Я был уже на середине полыньи, когда громкий, дикий, воинственный рев заставил меня резко затормозить веслом. Так ревут моржи в сильном раздражении, перед нападением на врага. Я поискал глазами драчуна. Нет, все моржи спокойно, невозмутимо лежали на льдинах и не собирались вступать в поединок. Когда раздался повторный угрожающий рев, я увидел, что это ревет знакомая одинокая моржиха из воды. Она возбужденно ходила маленькими кругами и неотрывно глядела на меня, то и дело разевая свою страшную пасть. Зверю явно не нравилась близость человека на байдаре. Мне стало не по себе. Неужели келюч?.. Нет, едва ли. Хищные моржи нападают на жертву без китайских церемоний; внезапно появляются из воды подле байдары, положив бивни на борт, переворачивают посудину, сбрасывают человека в океан...
Пока я думал, что мне делать, испытывая судьбу, плыть дальше или повернуть к берегу, позади раздался крик. Я оглянулся. На каменистой косе стоял маленький кривоногий человек в кухлянке и торбасах. Он размахивал левой рукою. В правой был карабин. До слуха донеслось:
– Туда ходить нет! Ходи сюда!..
И только тогда я развернул байдару и заработал веслом. Вскоре посудина прошуршала кожей по мелким камням. Я ступил на берег.
Это был старый эскимос с лунообразным, цвета печеного яблока лицом, вдоль и поперек пропаханным морщинами. Реденькие, мягкие, как пух, седые волоски поземкой струились на непокрытой голове, серебряная бородка и усы резко выделялись на темном лице. Но глаза из узких щелочек поблескивали цепко, молодо.
– Думал, однако, стрелять надо,– сказал он и скупо улыбнулся, показав желтые крепкие зубы.
– Здравствуй, отец... Что, келюч? – спросил я, кивнув на моржиху, которая все еще не успокаивалась, громко ревела возле льдов.
– Нет, не келюч, хеолох,– был ответ.– Однако, мог убить, как келюч.
Я угостил незнакомца сигаретой с фильтром. Эскимос оторвал фильтр, запрокинув голову, высыпал табак из тонкой бумажной оболочки в рот и с удовольствием стал пережевывать его. Мы присели на борт байдары.
Рассказ старика о моржихе, которая ревела сейчас в полынье, занял не более двух минут, но за скупыми словами я увидел полную трагичности картину. Северные люди терпеть не могут пустой болтовни и умеют передать многое в немногих словах.
По весне взломанные штормами льды вышли из бухты, отодвинулись от* берега, образовав широкую полынью. Но там, где бухта кончалась, припай держался истонченный, в трещинах, лед не желал отступать, крепко цеплялся за каменистую косу. Еще один шторм – и припай до осени расстанется с берегом.

Старик, сидя в кожаной байдаре, ловил сетью сайку – полярную треску. Течение прибило байдару почти к самой кромке льдов. По соседству, рукой подать, у подножия высокого тороса лежала крупная моржиха с детенышем. Кассекак забавлялся: забирался на крутую и широкую материнскую спину, потом с радостным поросячьим визгом, расставив передние ласты, скатывался на лед. Близость человека вовсе не тревожила исполинского зверя, он не обращал на него никакого внимания. Как бы полностью доверяя ему, моржиха оставила своего малыша под торосом, тяжело запрыгала к воде и шумно свалилась в океан – кормиться. Она уходила под воду на несколько минут, затем лысая, усатая, клыкастая голова появлялась на поверхности; убедившись, что детеныш ее цел и невредим, вновь ныряла. Недавно родившийся пятидесятикилограммовый кассекак жалобно повизгивал, подзывая мать.
Трагическая, нелепейшая случайность – и малыш погиб. С вершины зубчатого тороса, у подножия которого лежал несмышленыш, отвалилась подточенная солнцем глыба льда. Она угодила точно в голову малыша, и смерть была мгновенной. Вынырнувшая в очередной раз моржиха сразу же заподозрила неладное. Вонзая клыки в лед, она выбралась на твердь, запрыгала к детенышу. Мать и оглаживала его ластами, и поворачивала с брюха на спину, со спины на брюхо, издавая сдавленные, очень похожие на рыдания рыки. Но все было напрасно. Ничто не могло воскресить так глупо погибшего детеныша. Она поняла это и закрутила головою, привстав на передних ластах: кто? Кто убил ее малыша? Поблизости находился человек. Значит, человек! В ограниченном количестве эскимосам разрешен отстрел моржей, ни один эскимос не мыслит свое существование без национального блюда – копальгина, заквашенного мяса этого зверя, и моржиха не раз видела, как люди убивали ее сородичей из длинных предметов, похожих на палки, как тянули привязанную за клыки тушу к берегу... И она с воинственным рыком свалилась в полынью, толстой клыкастой торпедой помчалась на байдару. Старик вышел в океан ловить рыбу и не захватил из дома карабин. Доплыть до берега, конечно, не успеешь: зверь быстро настигнет байдару, перевернет посудину, сбросит человека в океан. Оставив сеть, эскимос поспешно перебрался на корму и заработал веслом, подгоняя байдару к плавучим льдам. Успел выскочить на кромку в самый последний момент, когда моржиха была на расстоянии броска. Огибая полынью, перепрыгивая трещины, человек побежал по льдинам, а зверь плыл рядом, вытягивал шею, бил по воде клыками и грозно ревел.
Чем ближе к берегу, тем тоньше становился лед. Человек почувствовал это, потому что он начал прогибаться под ногами* Это понял и зверь. Он исчез под кромкой, чтобы через минуту головой, плечами и спиной пробить лед в том месте, где находился человек. Но промахнулся: лед взломался рядом со стариком. Эскимос шарахнулся в сторону и побежал зигзагами. Моржиха опять нырнула и вновь взломала лед возле бегущего человека. Еще одна неудачная попытка настигнуть, убить мнимого врага – и старик, наконец, выбежал на берег.
Эскимос закончил свой рассказ. Я посмотрел туда, где находилась одинокая моржиха. Она плыла вдоль кромки льдов и, вытянув шею, смотрела на отдыхавших сородичей со своими детенышами.
Наверху раздалось картавое карканье. Из рваных клочьев тумана вынырнул крупный, иссиня-черный, словно обугленный, ворон. Неспешно рассекая воздух огромными крыльями, метахлюк, как называют эскимосы эту птицу, полетел в сторону Северного полюса.
Старик проводил его глазами и сказал верную эскимосскую примету:
– Метахлюк за воду полетел. Кровь учуял: нанук нерпу задрал.
– Что ж вы думаете с ней делать? – спросил я и кивнул на кромку льда, где плавала моржиха.– Добывать? А то долго ль до греха...
– Нет, ее не тронем,– ответил старик.– Надо – другого зверя возьмем.
– Почему?
Теперь, зная историю моржихи, я мог бы и не задавать этот вопрос.
Старый эскимос недолго помолчал, потом коротко, но весомо ответил:
– Жалко, однако...

I
На вечерней связи со штабом экспедиции была получена радиограмма: утром в лагерь прибудет вертолет Ми-6А, приказано подготовить к отправке на базу личные вещи и экспедиционное имущество.
Ночью геологи спали неважно. Мысли о доме, о скорой встрече с женами, детьми и матерями разбередили душу. И немудрено: безвылазно полгода на краю света – в лесотундре Северной Камчатки.
Едва проклюнулся рассвет, отряд поисковиков– съемщиков начал сборы. Бородачи упаковали в ящики камни – образцы пород, геологические приборы радиометры, молотки с длинной ручкой, бросили в кучу рюкзаки с вещами, свернули большую шестиместную палатку с байковым утеплителем. Стоянка с жердяным каркасом-скелетом сразу приняла вид унылый, осиротелый.
И здесь раздался растерянно-испуганный голос начальника отряда:
– А где же Машутка?..
Все повернули головы туда, где обычно, привязанная за лиственницу, стояла экспедиционная кобыла Машутка. Сейчас лошади там не было, на стволе лиственницы болтался на ветру обрывок толстой, прогнившей от излишней сырости веревки.
Поспешили по следу. Под снегом стояла вода, нелютая сентябрьская стужа не успела проморозить землю, и след, убегающий от утоптанной занавоженной площадки, был четок, зиял дырами на сверкающей перине.
– Машутка! Машутка!..– беспокойно звали бородачи свою неизменную помощницу, безотказную трудягу лошадь, но в ответ не раздавалось ржания.
Люди бежали недолго. Вскоре лошадиный след пересек и смешался с другим следом, широким и длинным. Это были медвежьи «лапти».
– Ясно!..
– То-то я слышал ночью, как Машутка ржала и храпела...
– Тогда какого же черта не вышел посмотреть?!
И опять поспешили по следу, хотя понимали, что идти им, в сущности, незачем: в таежной чащобе медведь резвее лошади, нагнав жертву, будьте уверены, не помилует. Спешить, чтобы увидеть растерзанный труп? Машутке уже не помочь...
Но геологи шли молча и упорно, отгоняя похоронные мысли, пока не услышали далекий вертолетный гул. Остановились в растерянности, посмотрели на своего начальника.
– Надо лететь, братцы,– решил он.– Машутка мертва. Один шанс из тысячи, что она каким-то чудом спаслась. Но мы проверим и этот единственный шанс: уговорим вертолетчиков пролететь над следом.
Вернулись к стоянке. Вскоре приземлился огромный грохочущий Ми-6А, вывозивший за один рейс на базу все отряды партии, тридцать человек. Кроме людей и экспедиционного имущества, на борту вертолета были три стреноженные лошади, работавшие с разными отрядами. Не хватало одной Машутки.
Командир экипажа согласился с предложением начальника отряда. Для совхоза-миллионера, которому принадлежала Машутка, и для аэрогеологической экспедиции с миллионным оборотом, арендовавшей лошадь на полевой сезон, потеря, конечно, ничтожна, да жаль животину. Вертолетчик был родом из сибирской глубинки и сызмальства любил таежную и домашнюю живность.
Ми-бА полетел по следу. Талые дыры в снегу то цепью тянулись в долине, пересекали не замерзшие еще быстрые ручьи, то карабкались на взлобки. Верст через десять они уткнулись в плотную таежную стену и исчезли. Ми-бА перелетел обширный участок сплошной тайги. Дальше тянулось редколесье, но следов там не было. Или люди потеряли их, или там, в дебрях, медведь настиг Машутку.
Командир экипажа повел машину над кромкой сплошной тайги и редколесья. Он хотел облететь этот участок тайги. Может, Машутка выскочила из дебрей с другой стороны?.. Вскоре с опушки, вспуганные грохотом вертолетного двигателя, взлетели северные вороны цвета обугленной головешки. Их было штук восемь, и это обстоятельство сразу насторожило и командира экипажа, и начальника отряда, находившегося в пилотской кабине. Северный ворон любит полное одиночество, а соединиться в стаю его заставляет одно: легкая добыча.
И вот вертолет над тем местом, откуда взлетели вороны. Снег утоптан до земли, тут и там валялись полу– объеденные части большой растерзанной туши, плохо обглоданные внушительных размеров кости, повсюду пятна цвета переспелой рябины. Медведя не было. Видно, убежал в дебри, напуганный грохотом двигателя.
Начальник отряда поспешно прошел в багажное отделение, чтобы через стеклянную, как аквариум, пилотскую кабину не смотреть на следы кровавого побоища. «Прости, Машутка. Не уберегли тебя...»
II
С высоты люди не могли хорошенько разглядеть части растерзанной туши. Они принадлежали вовсе не Ма– шутке. Иная трагедия разыгралась на этой таежной опушке. Здесь стая волков настигла и зарезала лосиху. В самый разгар пиршества, когда голодные звери заглатывали куски теплого мяса, а нахальные северные вороны прыгали совсем рядом, долбили необглодан– ные кости, послышался нарастающий вертолетный гул. Волчья стая была пуганая. Звери знали, что этот глухой рокочущий звук несет им смертельную опасность. Их не однажды били с вертолета и с борта «Аннушки». Поэтому они скрылись в тайге. Но едва гул двигателя громовым раскатом пролетел над опушкой, волки опять набросились на добычу.








