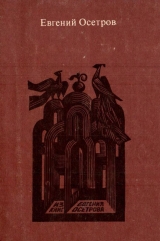
Текст книги "Записки старого книжника"
Автор книги: Евгений Осетров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
После реорганизации «Севера» Сабашников был, как вспоминают близкие, «сотрудником артели по изготовлению наглядных пособий для школьников».
Еще в двадцатых годах Михаил Васильевич взялся за написание воспоминаний. Неторопливо, страница за страницей, воссоздавал он своим бисерным почерком былое, – множество лиц и судеб стояло перед его глазами. Ничего не хотелось упускать, и иногда подробности под пером слишком выходили на первый план. Но в них-то – вся соль. Сообщается о встречах в Лозанне со старым другом Герцена – Н. В. Жуковским, сохранившим благодарную память об издателе «Колокола». Через Жуковского к нам и доносит Сабашников отточенные герценовские максимы: «История движется по диагонали. Чтобы диагональ эта получила желательное нам направление, мы должны изо всех сил тянуть в свою сторону!» С кем только не приходилось за долгие годы общаться мемуаристу – Миклухо-Маклай, Шанявские, Танеев, Вернадский, С. Н. Трубецкой, Брюсов, Голубкина…
Личные и общественные подробности тех времен, записанные Михаилом Васильевичем, бесценны. Обращает внимание на себя язык воспоминаний – естественно-разговорный, деловито-точный, но без навязчивой канцелярщины, ставшей на рубеже столетий привычной в бумагах «людей пера». Кратки и выразительны характеристики деятелей прошлого. Всего несколько штрихов, – и перед нами портрет собирателя народных картинок Дмитрия Ровинского, чьи коллекции, став музейным достоянием, ценятся и сегодня. А как живописна Москва, нарисованная Сабашниковым! Незабываемы страницы, посвященные встрече в Колонном зале Л. Н. Толстого и К. А. Тимирязева…
Книга эта, дорогие читатели, родилась не вдруг. Михаил Васильевич успел сделать лишь «черновые наброски», хотя они и обладают несомненными и редкими достоинствами – предельно точны, естественны, живописны, своеобразны. Некоторые страницы – превосходная проза (перечитаем характеристику Маевского или сопоставление Москвы с Парижем…). Рукопись бережно хранилась в семье Нины Михайловны Артюховой, дочери Сабашникова. Когда в семидесятых годах возник «Альманах библиофила», то на его страницах и были напечатаны первые отрывки из мемуаров Сабашникова. В дальнейших хлопотах и в подготовке текста к печати приняли участие Нина Михайловна Артюхова и внучки Сабашникова Татьяна Григорьевна Переслегина и Елена Сергеевна Сабашникова.
…В сорок первом году – прямое попадание немецкой бомбы в квартиру Сабашниковых в Лужниках пятого ноября. Михаил Васильевич был тяжело ранен и засыпан рухнувшей стеной; его, заживо погребенного, откопали, и несколько месяцев жил он в условиях фронтового города. 12 февраля 1943 года Сабашников окончил дни свои.
Какую бы из сабашниковских книг мы ни взяли, будь то «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Русские Пропилеи», сочинения Белинского, Аристофана, Огарева или Шелли, труды, посвященные декабристам, или «Русь» Пантелеймона Романова, – во всем мы чувствуем прикосновение заботливых рук, внимательный глаз, – каждая является связующим «мостом» между читателем и автором. В 1975 году в Ленинской библиотеке состоялась выставка изданий Сабашниковых, – она была торжественно открыта, посещалась многочисленными читателями и пробудила интерес к тому, что удалось сделать Михаилу Васильевичу.
Фигура Сабашникова достойно венчает галерею издателей-просветителей, внесших свою лепту в сокровищницу отечественной культуры.
1970–1979 годы.
ЗАПИСКИ СТАРОГО КНИЖНИКА
Полистать эту книгу – редкая удача, выпадающая не каждому. Для меня же встречи с ней – «чудные мгновенья». Я гляжу на мелкими литерами набранную фамилию и думаю, сколько лет подвижнического труда, ночей без сна, надежд, взлетов, падений, страхов, свершений с ней связано. Книга – продолжение жизни ее создателя, и она испытала, как и ее творец, множество приключений и злоключений.
Открываю кожаный переплет и вижу, как сочно цветет гравюра на плоскости листа: море, корабль, флаг, остров-причал. Вчера или позавчера родился оттиск под уверенной рукой мастера? Память услужливо подсказывает строки:
Корабль,
Бегом волны деля, из очей ушел и скрылся.
Еще Пушкин пленился строками, их плавностью и живописностью, а ведь гекзаметры эти созданы за десятки лет до Жуковского и Гнедича. Конечно же, дорогой читатель, ты узнал по одному строю речи бессмертного рыцаря «Тилемахиды»…

Книга, которую я ныне держу в руках, – «Езда в остров Любви». Ныне ей ровно 250 лет. Дату невозможно не отметить, ибо созданный Тредиаковским перевод романа-аллегории П. Тальмана – начало всех начал. Книга, без которой история литературы нового времени не представима. Появилась «Езда в остров любви», и по-иному стали выглядеть лица, золоченые кареты, «Невская першпектива», иным стал разговор придворных, академиков, военных. Книга, впитывая время, обладает поразительным свойством изменять окружающее.
Итак, я листаю изящно изданный том. Конечно, с нашей точки зрения, в романе много умозрительно-забавного. Действует некая жена по имени Глазолюбность – так на язык родных осин Тредиаковский перевел Кокетство. Глазолюбность дает советы, как быть счастливым в любви. Действуют и другие пасторальные герои. Но дело все в том, что аллегория была написана простым слогом и означала попытку обмирщения языка. Без этого литература не могла дальше развиваться. Тредиаковский настойчиво подчеркивал желание писать «вразумительно».
Едва ли не большее значение, чем роман-аллегория, имели «Стихи на разные случаи», написанные молодым Василием Кирилловичем Тредиаковским на русском и французском или переведенные с французского. Таким образом, перед нами первый сборник лирики нового времени, пришедшийся по вкусу читателям, которые не хотели и не могли довольствоваться виршами, скажем, Симеона Полоцкого. «Вертоград многоцветный» в дни Тредиаковского был глубокой и невозвратимой архаикой. Время долгополых кафтанов и длинных бород прошло. На картинках тех лет или на печных изразцах мы видим щеголей в золотистых камзолах, с трубками, галантно пирующих или беседующих. Или – читающих стихи, обращенные к Купидо (то есть Купидону). А вот строки, рисующие грозу:
Набегли тучи,
Воду несучи,
Небо закрыли,
В страх помутили!
В них нет никакой тяжеловесности. Стихи как стихи, их можно читать, а при желании и петь. Что и делали молодые офицеры, первые читатели «Езды в остров Любви».
Книга разошлась быстро и стала навсегда библиографической редкостью. В наши дни даже в прославленной библиотеке Смирнова-Сокольского не было первого издания. Покойный Николай Павлович, насколько мне известно, весьма дорожил «вторым тиснением», вышедшим из типографии Морского шляхетского корпуса. Еще раз «Езда в остров Любви» в пушкинскую пору была выпущена деятельным знатоком старины И. М. Снегиревым. С тех пор отдельных выпусков не было.
Разговорным и совершенно непринужденным стилем написано обращение «К читателю», в котором Тредиаковский рассказывает об истории создания книги. Прежде чем привести подлинные высказывания поэта, я хочу напомнить некоторые страницы его жизни. «Способом пешего хождения» юный Василий Кириллович пришел из Астрахани в Москву, где и определился в Славяно-греко-латинскую академию. Ведомый жаждой познания, на собственный страх и риск отправился в «европейские края», из Голландии пешком пришел в Париж, посещал лекции в Сорбонне, неутомимо читая книги, приобретая самые разнообразные познания. В совершенстве выучил французский язык и писал довольно легко стихи по-французски, давая им названия на русском: «Песенка к красной девушке, которая стыдится и будто не верит, когда ей говорят, что она хороша».
Здесь-то он и узнал о необыкновенной судьбе П. Тальмана, напечатавшего «Путешествие на остров Любви». Книга имела шумный успех, – девятнадцатилетний автор был причислен к «бессмертным», то есть стал членом Французской академии.
Аллегорию Тальмана Тредиаковский прочитал с восторгом. Впрочем, откроем «Езду в остров Любви» и прочитаем написанное Тредиаковским разговорным языком обращение «К читателю»: «…оное выдано на французском языке в Париже в 1713 году, и учинила великую своему творцу славу (которая всем охотникам и в мою бытность была памятна), потому что он весьма разумно ее выдумал, и могу после всех доброрассудных сказать смело, что она еще первая в своем роде такова нашлась. Будучи в Париже, я оную прочел с великим удовольствованием моего сердца, усладившись весьма, как разумным ее вымыслом, стилем коротким, так и виршами очень сладкими и приятными, и наипаче мудрыми нравоучениями, которые она в себе почти во всякой строке замкнула так, что в то ж самое время горячо возымел желание перевести оную на наш язык…» И следует покаянное признание: «Когда я был в Гамбурге, по случаю через несколькое время, где не имел никакого дела, со скуки я пропадал»… Здесь-то, в Гамбурге и сыскал Василий Кириллович «Езду в остров Любви» у знакомой девицы и перевел ее. Издание Тредиаковский посвятил своему влиятельному покровителю Александру Борисовичу Куракину, – в доме князя, находясь в Париже, Василий Кириллович жил. Нет никакого сомнения, и переводческой работой в Гамбурге ученый скиталец смог заняться только потому, что находился «при щедром содержании от благодетелей». Недаром в книге был помещен фамильный герб Куракиных – так переводчик-поэт выразил свою благодарность.
Просветитель по натуре, Тредиаковский, выпуская в Петербурге книгу, даже среди любовных стихов ухитрился напечатать (на французском языке) «Правила, как знать надлежит, где ставить запятую, двоеточие, точку, вопросительную и удивительную». Изумляться этому не следует. Василий Кириллович хотел сделать все! Трудолюбию его, не знавшему предела, удивлялись современники. Был случай, когда тринадцать из переведенных им тридцати огромных томов сгорели, Тредиаковский перевел их заново. Напомню также, что Тредиаковский напечатал «Разговор об ортографии» – первый отечественный трактат о фонетике, об особенностях звуковой речи.
Издавая книгу, Тредиаковский заранее ожидал неприятности от сотоварищей по перу. Этим, видимо, следует объяснить, что «Езда в остров Любви» заканчивается насмешливым обращением-вызовом, названном «К охуждателю зоилу»:
Много на многи книги, вас, братец, бывало,
А на эту неужели вас-таки не стало?
Конечно, у Василия Кирилловича – все знали – был нелегкий характер. И ожидаемые неприятности с книгой произошли, – поэт, что называется, как в воду глядел. Среди литераторов существовало злословие, оно и дало свои плоды. Говорят даже, что Тредиаковскому пришлось скупать и уничтожать «Езду в остров Любви». Сведения эти исходят из кругов, недружественных поэту. Было ли это в точности, мы не знаем. Подлинные же беды пришли позднее, особенно после публикации длиннейшей «Тилемахиды», встреченной осмеянием. Новые читательские поколения стали иронически относиться к поэту. Но мы должны помнить, что во времена, когда Василий Кириллович сочинял «Стихи похвальные Парижу», далеким будущим был Державин, еще ничто не предвещало Карамзина, что и говорить о пушкинской плеяде и самом Пушкине. Последний, кстати говоря, ревностно отстаивал заслуги Тредиаковского, особенно его стиховедческие изыскания. Когда Лажечников в романе грубо осмеял Тредиаковского, Пушкин с негодованием заметил: «Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей».
Если вам доведется быть в Музее Пушкина в Москве, загляните в библиотеку и попросите показать книгу, несущую в облике своем отсвет незабываемого столетия.
История создания книги богата событиями, напоминающими приключенческий роман XVIII века. Недаром и автор, и книга – воплощение времени.

«Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…» Едва замолкнешь, – кто не знает этих строк? – соседствующий голос непременно продолжит: «…и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя…» Пушкинский «Цветок» вызвал множество подражаний… Но теперь я, движимый «мечтою странной», хотел бы сказать не о цветке, положенном меж книжных страниц, а о живых поэтических букетах, собранных некогда «на брегах Невы». Догадливый читатель, разумеется, понял, что речь идет о «Северных цветах» – лучшем, наиболее прославленном альманахе пушкинской поры. Зададим же себе, держа в руках «Северные цветы», пушкинские вопросы: «…где цвел? когда? какой весною? и долго ль цвел?…»
Люблю в свободную минуту, уйдя от суеты, подойти к полкам и взять в руки «Северные цветы». Что ни страница – восторг, уму и сердцу восхищение. Судите, друзья, впрочем, сами. Открываю наугад альманах, и в комнату врываются соловьиные трели:
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?
«Русская песня» Антона Дельвига, став алябьевским «Соловьем», облетела мир. Первоначально (как не вспомнить!) «Соловьем» пленила слушателей красавица цыганка Татьяна Демьянова, а затем без него не обходились Полина Виардо и Аделина Патти. Существуют работы, посвященные биографии «Соловья», на редком концерте не звучит он теперь. Любят все, любят у нас «Соловушку» и по давней привычке украшают пение соловьиными трелями. А ведь всему начало – альманах «Северные цветы».
Листаю книгу – и опять в ушах музыка, и мощный голос выводит:
Не бил барабан перед смутным полком…
При чтении стихов глазами, когда звуковая сторона оказывается несколько приглушенной, обращаешь внимание на чеканность поэтического вывода:
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.
Невольно думаешь об Иване Козлове, которому Пушкин посвящал прочувствованные стихи и чьи песни-переводы стали народной музыкальной классикой. Едва ли можно отыскать у нас человека, который бы не знал бессмертный «Вечерний звон».
Что и говорить, «Северные цветы» блещут первоклассными поэтическими именами. Пушкинская плеяда предстает на страницах альманаха в богатейшем разнообразии – Батюшков, Баратынский, Вяземский, Языков, Федор Глинка, Туманский, Шевырев, Гнедич, Плетнев… В книге, помеченной 1826 годом, перед читательским взором предстали такие поэтические жемчужины, как «Надпись» («Взгляни на лик холодный сей!») Баратынского, «Подражание Ариосту» Батюшкова, «Нарвский водопад» Вяземского, «Мы» Дельвига… Едва ли не каждая публикация в стихах или прозе прямо или косвенно связана с именем Пушкина. Вот стихи Вяземского, посвященные Ольге Сергеевне Пушкиной – сестре поэта:
Я полюбил в тебе сначала брата;
Брат по сестре еще мне стал милей.
Когда например, доходишь, листая альманах, до «Пояса Киприды», отрывка из «Илиады», переведенной Гнедичем, то невозможно не вспомнить пушкинских строк:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.
Переводческий отдел – и это надо отметить – в альманахе сказочно богат. Здесь мы видим сербские народные песни, переложенные Александром Востоковым, филологом-славистом, стихотворцем. «И радость былая, как ночью луна, видна, но далеко, ярка, но хладна», – гласит перевод Козлова из Байрона, кумира тогдашних романтических времен.
И все-таки все отступает на задний план, делается всего-навсего окружением, оттенком к основному, когда появляются на страницах «Северных цветов» творения Пушкина. Говорят, что самыми дорогими (в денежном смысле) на книжных аукционах в мире считаются прижизненные издания Шекспира. На пороге XXI век, и нет никакого сомнения, что первые публикации Пушкина мы теперь должны ценить наравне с драгоценными автографами и другими духовными – письменными и печатными – сокровищами. В «Северных цветах» за 1826 год опубликованы «Отрывок из письма А. С. Пушкина к Д…» (то есть Дельвигу), стихи «К чему холодные сомненья», «Подражание Корану», «Баратынскому» («Сия пустынная страна…»), «Ему же», отрывок из поэмы «Цыганы». Открываю страницу альманаха и читаю:
Ее сестра звалась Татьяна…
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
Перед нами отрывки из второй главы «Евгения Онегина». Так доходило до читателя величайшее произведение, без которого ныне невозможна русская литература. В «Северных цветах» были напечатаны отрывки из «Бориса Годунова», поэма «Граф Нулин»…
Альманах выходил ежегодно с 1825 по 1831 год. Редактором и составителем был Антон Дельвиг, взявшийся за дело с помощью известного книгопродавца и издателя Ивана Сленина. Впрочем, с последним Дельвиг довольно скоро расстался, и книги печатались под присмотром Ореста Сомова, видного теоретика романтизма, критика, прозаика и журналиста, дельного человека. Четыре года подряд выпуски открывались обзорами российской словесности, писал их Сомов. Последний выпуск «Северных цветов» был издан Пушкиным в пользу семейства Дельвига, когда последнего уже не было в живых.
Альманах, выходивший в удобном карманном формате, был необычайно красив. Недаром в его издании принимал участие Орест Кипренский, помещались гравюры с работ Карла Брюллова и гравюры Ф. И. Иордана. Знакомый Пушкину рисовальщик В. П. Лангер для каждого выпуска рисовал виньетки – цветы, которые и стали изобразительной аллегорией альманаха.
Книги являются и своего рода памятником дружбе Дельвига с Пушкиным, пронесенной ими с отроческих лет до могилы. Страницы альманаха – отсвет этой дружбы. Недаром в одном из писем Пушкин горестно воскликнул: «…никто на свете не был мне ближе Дельвига». Именно после смерти автора «Соловья» в стихах Пушкина начинает звучать элегический мотив: «Зовет меня мой Дельвиг милый», – эта поэтическая формула поразительно прихотливым образом отозвалась в «Петербурге» Андрея Белого, получив под пером последнего многозначное переосмысление.

Немногие знают, что существовало приложение к «Северным цветам» – «Подснежник», вышедший в двух книгах. В «Подснежнике» печатались Пушкин, Дельвиг, Языков, Вяземский, увидели свет переводы из Адама Мицкевича.
Знатоки высоко ценят «Северные цветы». Говорят, что в старину библиофилы определяли время появления на свет книги по запаху. Ко мне как-то зашел человек с предложением купить два выпуска знаменитого альманаха. Я сильно огорчил пришедшего, сообщив ему, что его книги – всего-навсего копии. Книги на 1825 год и на 1826 год были переизданы в 1881 году университетской типографией в качестве приложения к «Русскому архиву». Тираж переиздания был небольшой, и сейчас эти книжечки также представляют определенную ценность. «Как вы узнали?» – спросил меня пришедший. «По запаху», – ответил я. Но это была только шутка. Наиболее точная примета – бумага, она позволяет почти всегда безошибочно определить время издания.
Современная пушкиниана из года в год пополняется. Пора нам предпринять полное издание «Северных цветов» – от первой книги до последней. Альманах нужен всем – и знатокам, и просто любителям Пушкина, которым несть числа.
Дельвиговские «Северные цветы» и сегодня цветут неувядаемой красотой.
Лермонтовский Демон и созданные Михаилом Врубелем демонические лики сливаются. И у поэта, и у живописца – образ Духа титанического, страдающего, скорбного, наделенного неистовой жаждой жизни. Врубель был одарен воображением Лермонтова, передавал красками то, что поэт рисовал словами. Другого «духа изгнанья» мы не знаем, да и знать не хотим. Но как же быть с рисунками, акварелями, картинами самого Михаила Лермонтова! Их много, они составляют зал-галерею – в них врубелевского, разумеется, ничего нет. При желании сопоставлять всплывают в памяти совсем другие имена, например, Алексей Венецианов, живший в ту же пору.
Исследователи называют имя близкого к поэту художника – Г. Г. Гагарина. Теперь, когда существует альбом, посвященный картинам, акварелям и рисункам Лермонтова[3]3
Лермонтов. Картины, акварели, рисунки / Сост. и каталог Е. А. Ковалевской. Пояснения в альбоме И. А. Желваковой. Вступ. ст. И. Л. Андроникова. Макет и оформление Э. Д. Меджитовой. – М.: Изобразительное искусство, 1980.
[Закрыть], – время размышлять о живописном наследии творца «Демона». Сам по себе превосходно изданный, на мелованной бумаге, альбом – долгожданное событие, и как тут не вспомнить начало пушкинского куплета: «Пой в восторге, русский хор, вышла новая новинка».
Стихи и проза Лермонтова полны живописной красоты. Напомню наблюдение Иннокентия Анненского: «…поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы». Долгое время считали, что между Лермонтовым-поэтом и Лермонтовым-художником мало общего. Но дело все в том, что Лермонтов, никогда не посягавший на то, чтобы нарисовать карандашом Демона, охотно изображал сцены подлинной, им увиденной жизни. В нем жило внутреннее стремление к тому, что позднее стали именовать реалистическим письмом.
До читателей доходило лишь незначительное в количественном отношении воспроизведение графических и живописных работ Лермонтова, – знали то, что скупо печаталось в сборниках, в собраниях сочинений. Более целостное представление можно было составить по изданиям, предназначенным для знатоков. Но тома «Литературного наследства», выпущенные десятилетия назад, далеко не в каждой библиотеке найдешь. И вот – наиболее полное издание, книга-альбом, где свыше ста шестидесяти изобразительных работ Лермонтова. Да, в них нет и не могло быть ничего от Врубеля – совсем иная эпоха. Они бесконечно далеки и от рисунков Пушкина. Рисунки, как правило, возникали у Пушкина в ходе работы: «…перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов». Минутная заминка – и на бумаге очертания сидящей Татьяны или летящего Меркурия, голова Данте… Пушкинский рисунок неотрывен от стихов, он часто составляет своего рода дополнение к тому, что выражено словами. У Лермонтова же – все по-другому. Как к этому относиться? Правда, до нас дошли почти исключительно беловые рукописи Лермонтова, на которых рисунок встречается в редких случаях. Но дело-то не в том, что на беловых рукописях не рисуют. Стихия поэтическая у Лермонтова живет отдельной жизнью; связь слова с красками и линиями носит у него глубоко подспудный характер. У Пушкина рисунки – графический дневник создаваемых творений, у Лермонтова – изобразительный дневник встреч на жизненном пути, с людьми и с природой. Карандашом и маслом Лермонтов изображал жизнь такой, какой она открывалась взору совсем молодого человека: припоминание предков, древние рати, офицер с девушкой, штатские на прогулке, всадник в лесу, коляска, запряженная тройкой, лезгинка, казак с пикой, домик в Тамани, схватка в горах, развалины в Кахетии, сцены из провинциальной ставропольской жизни. И всюду – Кавказ, Кавказ, Кавказ, волшебный, единственный, всегда манящий.
Едва ли не лучшее в живописном наследии – автопортрет. Поэт изобразил себя в форме Нижегородского драгунского полка, со всеми ее неотъемлемыми признаками – газырями, шашкой и, разумеется, наброшенной на плечо романтической буркой. Главное же на портрете не одеяние в духе героев Бестужева-Марлинского, а выражение глаз, неизъяснимое словами, но заставляющее вспомнить лермонтовское определение подобного состояния духа: «Забыть? – забвенья не дал бог: – Да он и не взял бы забвенья!..» Ничего равного иконография автора «Мцыри» не знает. Воображение тревожил парус на воде, его Михаил Юрьевич рисовал, и, наконец, душа встрепенулась, и был создан такой шедевр, как «Белеет парус одинокий…», – без него непредставима лирика столетия. Нет, конечно, существуют глубокие, подпочвенные связи, объединяющие поэта и живописца.
Теперь, когда мы можем составить довольно полное представление о графике Лермонтова, следует вести речь о том, как рисовальщик Михаил Юрьевич достиг высот наиболее мастеровитых представителей круга Венецианова. Его живой карандаш – предвестие натуральной школы с ее пристрастием к точному наблюдению, проницательностью, меткостью и точностью характеристик. Его интерес – бытовые сцены, полные энергии («Юнкерская тетрадь»). Они заставляют нас видеть в Лермонтове не только уверенного рисовальщика, чьи работы полны движения, но и одного из тех, кто прокладывал пути (пусть его опыты носили альбомный характер и как бы растворялись в воздухе), на которых возникли такие фигуры, как Павел Федотов и Александр Агин. Его рисунки родственны таким его произведениям, как «Валерик», «Тамбовская казначейша», «Бородино».
Книга – плод труда нескольких поколений ученых, отыскивавших и постигавших «лермонтовский клад». Сколько разнообразных приключений испытали рисунки, альбомы, картины! Некоторые из них совершили заморские путешествия. Из исследователей в первую очередь, наверное, надлежит (будем справедливы!) нынче вспомнить Николая Павловича Пахомова, любопытнейшую фигуру Москвы коллекционной, антикварной, литературоведческой и искусствоведческой. Кто из нас, книжников, не знал нестареющего, быстрого и подвижного, язвительно-остроумного человека, одного из создателей музеев Лермонтова в Тарханах и Пятигорске, неутомимого устроителя выставок, многолетнего директора музея в Абрамцеве? В сороковых годах Пахомов опубликовал работы «Лермонтов в изобразительном искусстве» и «Живописное наследие Лермонтова», заставившие всех нас задуматься над тем, что означало пристрастие поэта к изобразительным занятиям. Пахомов показал, как сложно взаимодействовали в руках одного человека, имевшего «особую склонность к музыке, живописи и поэзии», перо, кисть, карандаш… Николай Павлович, постигая мир Лермонтова, любил рассуждать об умении поэта легко, непринужденно, артистично набрасывать характерные физиономии, силуэты всадников на лошадях, о том, как изумительно передавал поэт ощущение движения. Вышедший в свет альбом – материализация давней мечты Пахомова, хотя главное, как мне представляется, еще впереди.
Выше я говорил о поистине прекрасном автопортрете Лермонтова. Поэт написал его для Вареньки Лопухиной. Интересна судьба лермонтовского подарка. От Лопухиной портрет перешел к Верещагиной-Хюгель. В восьмидесятых годах прошлого века с портрета сняли копию, которую позднее и воспроизводили в печати, а оригинал вроде бы затерялся. В 1961 году его обнаружили в Федеративной Республике Германии, а через год Ираклий Луарсабович Андроников привез автопортрет Лермонтова в Москву. Так изображение, поскитавшись по свету, вернулось в пенаты.
Давнее библиофильское поверие гласит, что книга, сколько бы она ни путешествовала, в конце концов приходит к тому, у кого она и должна быть. Знаю много примеров-подтверждений. Листаешь альбом, а в ушах звучат бессмертные строфы. Толстой считал «Бородино» зерном его «Войны и мира». А ведь написал «Бородино», как и «Героя нашего времени», юноша, рисовавший все эти скачки и женские портреты, вдохновивший и Врубеля на бессмертные полотна, создавший строфы и образы, живущие в сердце каждого из нас.

У Николая Семеновича Тихонова был четкий и красивый почерк, соответствовавший его поэтическому характеру. Я снимаю одну за другой книги с полки, еще и еще раз перечитываю автографы. Они производят впечатление беседы. Как будто только-только поговорил с Николаем Семеновичем по телефону. До сих пор не могу еще привыкнуть к мысли о том, что нельзя снять трубку и набрать его переделкинский номер… Беру томики тихоновских стихов и слышу живую речь поэта, которую Москва так любила. И строкой, и жизнью своею поэт беседует со мной:
Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить…
Листаю страницу за страницей:
Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор – золото лимонов.
Один из знаменитых лирических стихов двадцатых годов, вобравший в лаконичных строках эпоху.
Заключительное двустишие в другой лирической жемчужине, ставшее афоризмом:
Видно, брат, и сожженной березе
Надо быть благодарной огню.
Приведенные строки я взял из собрания стихотворений в двух томах, вышедших в 1930–1932 годах в Ленинграде. Том первый выпустило издательство «Прибой», второй – Государственное издательство художественной литературы. Тираж первого тома – 2000 экземпляров, второго – 3140. Как видим, вторую книгу пришлось выпустить повышенным тиражом – признак очевидной читательской заинтересованности. В начале тридцатых годов было много любителей стихов, но, разумеется, никто не мог и мечтать об астрономических тиражах послевоенного времени.
Немного о тихоновском двухтомнике. Он попал в мою библиотеку не совсем обычным путем. В военную пору я служил в батальоне связи. Мне, почти мальчишке, тогда довелось познакомиться с Александром Дмитриевичем Смирновым, одним из старейших московских издателей, – он был на фронте воентехником. Смирнов получал из тыла письма с литературными новостями, которые мне всегда хотелось знать. Если не было боя, я приходил к Александру Дмитриевичу в землянку или он разыскивал меня. Письма из тыла присылала Александру Дмитриевичу жена – Нина Андреевна, бывшая некогда ученицей Валерия Брюсова. После войны я узнал, что Нина Андреевна тщательно и со вкусом собирала книги. В том числе «раннего Николая Тихонова». После ее смерти, выполняя волю покойной, Александр Дмитриевич передал ее стихотворную библиотеку мне.
Я рассказал эту историю Николаю Семеновичу Тихонову. Он очень оживился и стал вспоминать, как много раз он в военные годы писал о героях-книжниках.
– Впрочем, прочитайте, – сказал он.
Разворачиваю книгу: «…я увидел, как красноармеец старательно счищал прилипшую грязь с книги в большом красном переплете. Рядом с ним лежал парусиновый мешок, туго набитый книгами.
Боец заинтересовал меня. Я подошел к нему и спросил:
– Откуда книги?
– Это для лейтенанта Богомолова, – сказал он.
– А кто такой Богомолов?
– Борис Иванович книги собирает тут, в городке, сам и других просит. Он и зимой, в морозы, лазил тут в домишках, хоть и разрушено сильно, а что-то кое-где, смотришь, и уцелело.
– А зачем ему книги?
– Как зачем? Народное добро спасает. Он, знаете, сколько книг спас из огня, из развалин <…>.
– Да разные, хорошие вообще. Пушкин, Лермонтов, Толстой. А то сказки арабские – „Тысяча и одна ночь“, много томов. Они учебники отдали в школы – в Ораниенбаум, в Дубки, в Лебяжье… А бывало, столько книг попадалось, что сразу и не унести. В одном доме Шекспир так половину полки занял. Но вот тут не повезло. При поисках-то и стрелять приходится, от фашистов отбиваться, а уж потом вязать тюки да и тащить. А тут за подводой отправились, чтобы на другой день все сразу вывезти. А как к дому добрались, его уже и нет. Фашисты его так додолбили снарядами, что стены рухнули. А между кирпичей пламя. Кое-что вытащили, но это уже не то. Сейчас Богомолов далеко отсюда перешел со своей частью, а не забывает, все приходит, для пополнения дивизионной библиотеки берет. Тут на днях был, я ему одно место нашел, он на себе всего Чехова унес, спас, а помедлил бы, и Чехов бы, как Шекспир, погиб. Спас все-таки. Я вот ему насобирал книг, в порядок привожу. Думаю, не сегодня-завтра придет. Он знает, где меня найти…»








