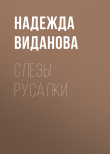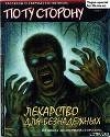Текст книги "Отцы"
Автор книги: Евгений Григорьев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)

Евгений Григорьев – драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР. Окончил ВГИК в 1963 году. Автор сценариев фильмов «Наш дом», «Три дня Виктора Чернышева», «Горячий снег» (с Ю. Бондаревым и Г. Егиазаровым), «Романс о влюбленных», «Иванцов, Петров, Сидоров» (с О. Никичем), «Отцы и дети» (с О. Никичем) и других.
Сценарий «Отцы» был задуман в 1965 году, первый вариант закончен в 1968. Это мой четвертый сценарий. Тогда титра – «1965 год» не было, он понадобился мне сейчас, чтобы обозначить ушедшее время.
Я принадлежу к поколению «детей войны», то есть тех, кто видел войну глазами детства, но в силу возраста не мог участвовать в ней. Хотя мы знаем и тех детей, которые волей особых обстоятельств участвовали в войне наравне со взрослыми, и тяготы, трагедии войны, в том числе и смерть, не всегда миновали их. Таким образом речь идет о том, что все наше поколение было свидетелем, хотя из-за возраста и пассивным, но весьма эмоциональным в силу драматического характера событий сорок первого года. На наших глазах отцы отступали, а затем наступали и в итоге дошли до Берлина, где водрузили над рейхстагом наш красный флаг. Вот в этом диапазоне – от временных поражений и до победы над страшным и сильным врагом – и сформировалось пред-ставление о старшем поколении – о народе, к которому я принадлежу, о родине, об отцах.
Другой важной вехой, не менее повлиявшей на мировоззрение моего поколения, была оглушающая правда XX съезда партии. Все случившееся в стране было названо своими именами, всему была дана строгая партийная оценка, сказано истинное слово обо всем, даже о самом горьком.
Когда я задумал этот сценарий, мы, мое поколение, еще были, так сказать, относительно молоды – нам было за тридцать. Хотя по военным меркам – это целая жизнь, очень много. Так вот, в это время стали нарождаться какие-то новые непонятные критерии: сначала, стесняясь и оттого прячась за скептицизм (не всем оказалась по плечу суровая правда 1956 года), стал выползать голый практицизм: «конкретное поведение при конкретных обстоятельствах», иными словами: «кто платит, тот и заказывает». Этот отход от основных нравственных устоев, выстраданных нашей куль-турой и нашей историей, в частности недавней Отечественной войной, то не принимался всерьез, то как-то озадачивал, однако вырастала особая поросль, противопоставившая личное правде общественной. Да, мы не воевали, не участвовали в войне, но, когда выросли, как можно было стать на колени перед обстоятельствами в ущерб общей памяти, долгу перед страной, неоплаченному долгу перед отцами? И это снижение высоты, эту коленопреклоненность я и постарался понять, постарался разобраться в этом как можно полнее. Ради этого и писался сценарий. Ради этого. Чтобы обратиться с экрана к своему поколению и спросить: что с нами происходит? Куда мы пошли? Разве не стоят за нами наши отцы: наша кровь, наша память? Тогда почему же мы столь изменились, чего вдруг устрашились, перед чем смешались? Или высокая правда и высокая истина уже не едины и нужны суррогаты, чтобы объяснить и оправдать свою усталость и смятение? Я не сомневался, кто в моем сценарии прав. Конечно, Дронов. Именно поэтому он написан без полутонов и полутеней. Я не хотел и не мог писать его иным, и потому, может быть, фигура Дронова получилась романтической, балладной, ближе к притче, в то время как линия молодого героя скорее напоминает социологическое исследование. Но для него, ради него и делалась эта работа. С отцами все было ясно. Они – наша память, наши корни, наш вечный бронепоезд на нашем вечном запасном пути.
Думаю, что фильм поэтому был бы для того времени своевременным и современным. Но, к сожалению, попытки снять картину не завершились успешно. Прошли годы. То, что было остро, сейчас уже, к счастью, освоено в нашем искусстве, в литературе и в кинематографе, в частности. Для меня принципиально, что я написал этот сценарий про то – тогда. Как и другие работы, которые я сделал, они сделали и меня самого.
Е. Григорьев
Евгений Григорьев
Отцы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Новиков В. С.
Титр: 1965
Демонстранты отступали, оставляя плакаты и транспаранты.
Полиция свирепствовала: избивала налево и направо.
Отдельные кадры были ужасны – упавшая девушка, на голову которой обрушился град ударов. Кровь… Озверелые лица блюстителей порядка.
– Это – их мир! – произнес женский голос с актерской мелодраматической интонацией. – Это – их демократия!
От ее голоса, а больше всего от интонации Владимир Новиков вздрогнул и, оторвавшись от экрана, посмотрел на ее лицо, освещенное снизу лампочкой пульта.
Это лицо, увешанное дорогими и, наверное, модными побрякушками, и этот актерский голос абсолютно не соответствовали тому, что происходило на экране. И это чрезвычайно раздражило Новикова.
– Народы мира, – продолжала читать дама, и в ее голосе звучал апломб стареющей красавицы, – продолжают борьбу за мир, за свои права, за равноправие…
И снова демонстрация протеста против войны во Вьетнаме. В Америке. В Японии. В Италии. В Западном Берлине.
Конная полиция, джипы, удары дубинок, собаки, наручники, кровь…
Снова насилие и смерть.
Американские самолеты в небе Вьетнама.
Бомбы. Напалм.
Разрушенные города.
Плачущая мать над убитым ребенком.
– Но Вьетнам борется, Вьетнам победит! Партизаны Южного Вьетнама.
Зенитчики – Северного.
– Международная помощь и солидарность других народов. В первую очередь – советского народа, великого друга и брата героического вьетнамского народа.
Митинг на ЗИЛе. На «Трехгорке». В Киеве и в Новосибирске.
По всей Советской стране советские люди протестовали против американской агрессии во Вьетнаме.
И в первых рядах молодежь.
– Мы знаем, что такое война.
И кадры войны и горя.
Разбитый Киев.
Блокированный Ленинград.
Новиков смотрел не отрываясь.
Дальше шли кадры Победы и Освобождения.
И уже возвращаются солдаты, и женщины обнимают их. Мир.
– То же самое будет на многострадальной вьетнамской земле. Придет время – будет победа!
И вновь шли партизаны на боевое задание, будто шел весь народ Вьетнама.
Зажгли свет в зале. Зал был небольшой, человек на двадцать, народу и того меньше – шесть человек. Все смотрели на пожилого мужчину.
Мужчина помолчал. Подумал. Сказал:
– Виктор Александрович, здесь будем разговаривать или пройдем ко мне?
Виктор Александрович, режиссер, к которому был обращен вопрос, наклонил голову.
– Как вам удобнее.
– Ну что ж, – сказал пожилой мужчина, – я думаю, здесь можно поговорить. Какие будут мнения?
Все молчали, и он заговорил сам.
– У меня такие замечания… в первой половине… Женщина в очках достала блокнот и приготовилась записывать.
– …В первой половине надо сделать упор на демонстрации рабочих… показать стачки, пикеты, голод, социальную разницу двух миров. Подчеркнуть ее! Материал у вас найдется?
– Найдется, найдется!.. – закивали и ответили в несколько голосов.
– Подберите. А студентов поменьше, зачем этих волосатиков показывать? Покажите хорошие рабочие лица. Мужественные, простые!..
– Но ведь в Америке, например, студенты, они… – начал было режиссер.
– Мы знаем роль студенчества, но не надо ее раздувать и превращать борьбу за социальный прогресс в занятие какой-то интеллигентской прослойки, это – политический аспект. В борьбе участвуют широкие массы, и прежде всего надо подчеркнуть направляющую силу – рабочий класс!
Снова закивало несколько голов.
– Да, да, рабочий класс. Конечно.
– Точное замечание…
– Это надо сделать.
– Конечно, конечно…
У режиссера были рыбьи глаза, он, видимо, очень переутомился.
– Понятно, – кивнул режиссер. – Сделаем. Тамара Николаевна, вы записали?
– Да, да… – закивала женщина в очках.
– Во второй половине: митинги у нас надо сделать более стремительными, динамичными. А то получается, что там дерутся, а у нас стоят и слушают.
Снова закивали головы.
– Да, да… Может возникнуть такое превратное мнение.
– Сделайте покороче планы, чтобы передавалось ощущение всенародного гнева, и закончите каким-нибудь человеческим планом. Вот там в одном месте женщина серьезно так посмотрела, женщина-мать, ее возьмите! Подберите мужчин, ветеранов войны, чтобы руки были тяжелые, рабочие… Чтобы ощущалось… Несколько простых мужественных парней подберите, что же, у нас людей нет? Материал должен быть!
– Есть у нас люди, есть…
– Подыщем, подыщем…
– Должны быть, должны!
– Войну, я думаю, в таком объеме давать не надо, тем более юбилей прошел недавно, об этом сказано достаточно, хотя, конечно, материал блестящий! – Он прочувствованно покачал головой, видимо, тоже был ветеран войны. – Прекрасный материал! Вроде уже видели столько раз, и все равно, каждый раз смотришь, дрожишь весь!
– Да, да…
– Материал хороший!
– Я тоже дрожу: переживаю.
– С поездом, с поездом – это прекрасно!
– Очень хорошо! Очень!
– Но я думаю, не надо здесь перебивать одно другим, в тексте есть об этом, да мы и сами знаем, что воевали и победили, так что, пожалуй, не надо масло масленым делать.
– Верно, верно. Это правильное замечание. Перегрузка получается.
Новиков сидел. Смотрел. Слушал. Он был посторонний, гость.
– В конце надо дать такие кадры жизни, чтоб не оставалось осадка от напалма и этих ужасов войны.
– Чтоб не было перебора, – обаятельно улыбнулась женщина, сидящая за пультом.
– Да. А так все хорошо: работа проведена большая. Молодцы! Пришлось порыться в материалах?
– Пришлось, пришлось…
Все стали жаловаться на трудности, начальство терпеливо выслушало, потом, когда решило, что все уже высказались, подвело итоги:
– Я думаю, недели вам хватит. Будет трудно, поднажмите.
Режиссер и редактор как-то развели руками, но он пожал им руки, улыбнулся.
– Всего хорошего! До свидания!
Он встал, и все встали тоже. И тут неожиданно для всех прозвучал голос Новикова. Он говорил спокойно, несколько растягивая слова, будто он век привык выступать вот так и по такому поводу.
– Я думаю, что нам незачем умалять свои победы. Надо воспитывать молодежь, чтобы она поняла, какой ценой была добыта наша великая победа.
Редактор быстро стрельнул глазами в Новикова, в начальство, в режиссера и снова в Новикова.
– Что вы имеете в виду? – спросило начальство.
– Я имею в виду… – и голос Новикова напрягся и стал резким, жестким. – Я имею в виду двадцать миллионов наших людей. Здесь были кадры блокады Ленинграда. Я сам ее пережил и знаю, что это такое. И не надо об этом забывать!
Все молчали и смотрели на седого человека.
Режиссер буркнул:
– Это мой товарищ.
– Новиков. Владимир Сергеевич, – представился Новиков и особо, доверительно добавил: – Я из поколения детей войны…
Он как-то особенно улыбнулся седому человеку, будто их связывало нечто общее. И седой человек принял эту улыбку и доверительность. Он закивал. И за ним закивали остальные.
– Это правда, – сказал седой человек. – Никто не забыт, ничто не забыто! Обратите внимание на это, Виктор Александрович!..
Он пожал руку режиссеру, редактору, Новикову, остальным только кивнул: «Желаю удачи». И вышел.
Под бодрую, веселую мелодию марша физкультурники передвигались по зеленому полю стадиона.
Вот одни присели, другие встали, одни подняли красные флажки, другие – синие, и на поле образовались гигантские буквы: «Слава КПСС».
Еще раз присели, привстали, взмахнули флажками, и возникло: «Миру – мир!»
И еще раз: «Дружба».
Ворвалась тревожная мелодия, и черная бомба легла среди поля.
Но вот добрые силы в музыке победили, и страшная бомба была перечеркнута. Зазвучал нежный хор. По полю поплыл белый голубь, а на противоположной трибуне закачались белые цветы и опять появились буквы: «Миру – мир!»
– В этом месте, – сказал распорядитель, обращаясь к членам комиссии, – мы выпустим голубей.
Все согласно кивнули, а человек в светлом плаще, который стоял рядом с Новиковым, поинтересовался еще:
– Выпускать будете до появления голубя на поле или после?
Распорядитель выслушал его внимательно. Подумал. Ответил:
– Мы как раз хотели посоветоваться по этому поводу. Как вы считаете?
Все задумались.
– Надо – до.
– Нет, лучше после, как будто это большой голубь, а это – его маленькие голубята.
– А дойдет, вы думаете?
– Надо сделать так, чтобы дошло.
– А не отвлекает это от главного? – вмешался и здесь Новиков.
– Может быть, выпустить в середине, когда голубь на поле только появится?
– Пожалуй, верно.
– Лучше в середине.
– Правильное решение, – согласился руководитель-распорядитель. – Значит, на раз-два – выпускаем. Валя, запишите: раз – приготовить голубя, два – подбросить!
Самолет венгерской авиакомпании «Малев» совершил посадку. Подкатили трап.
Группа встречающих двинулась к самолету. Девушки несли цветы.
С трапа спускались гости.
Когда осталось метров десять, обе группы заулыбались и раскрыли объятия. Среди встречающих был Новиков.
Потом он кому-то звонил из будки телефона-автомата.
Уже в своем кабинете крупного строительного треста разговаривал с кем-то по телефону и слушал только, и молчал, и расхаживал с телефонной трубкой вокруг стола.
В пустом зале сидела небольшая группа. И среди них – Новиков.
На сцену вышел человек с быстрыми глазками и очень проворный. Другой, очень похожий на него, сел за рояль и ударил по клавишам. Первый встрепенулся, напрягся и запел:
– Ррабочий паррень в ррабочей кепке…
Новиков брезгливо усмехался.
Днем Новиков обедал с приятелем. Сидели за отдельным столиком. Приятель быстро набрался и теперь тыкал вилкой в заливную рыбу и говорил, говорил банальные истины, слушать которые было тяжело и тошно, но и остановить этот поток не было возможности. Новиков слушал его рассеянно, обед был испорчен, и, собственно говоря, досиживали.
– Ты пойми меня правильно, – говорил приятель. – Я не жалуюсь. Сам терпеть не могу, когда ноют и ноют. Плохо?! Иди – повесься!.. Только не ной!.. Ненавижу!
Новиков налил себе боржома, сделал несколько глотков.
– Ненавижу! – повторил приятель.
– Ты только не суетись, пары не выпускай напрасно. Я вот посмотрел на тебя сегодня на совещании: сидишь, молчишь – тихо, скромно.
Он знал, что это заденет его собеседника, и хотел его задеть.
– Не все такие… боевые… – нашел слово собеседник. – Как ты.
– Не все, – легко подтвердил Новиков. – Но у тебя своя жизненная программа, ей и соответствуй.
Собеседник усмехнулся – он был несогласен.
– Ты боржом? – в его голосе слышался упрек.
– Есть еще дела. Да и тебе пора этот краник закрывать.
– Ты тоже?
– Если тебе уже говорили, значит, я – тоже. Ты какой парень был? Какой? Сколько планов! Возможностей! Живи – не хочу! А сейчас распустился, неудачника из себя корчишь, как подросток, ищешь виноватых, стыдно смотреть. А виноват ты сам: жизнь какая есть, такая есть. Ей прямо в глаза надо смотреть.
Собеседник слушал Новикова и смотрел на него с каким-то сожалением, как смотрят иногда взрослые на детей.
– Не все такие мужественные, Володя, как ты. Не у всех хватает сил смотреть жизни в глаза.
Новиков расслышал иронию.
– Я понимаю твою иронию, – сказал он спокойно, – но пойми и других, которые работают, каково им слушать тоску и печаль, рассуждения о жизни.
– Которые дело делают, – поправил приятель.
– Называй, как хочешь, что меняется? Она одна – жизнь! Твоя! Хочешь – сам ее проживи, будешь думать – тебя используют, и не заметишь ради кого-то или чего-то.
– Ты – мудрый.
– Сил не хватает – поменяй. Придумай чего-нибудь. Тебе будет хорошо. И людям лучше. – И позволил себе улыбнуться.
Собеседник тоже улыбнулся, разговор начинал его занимать.
– А ты думаешь, Володя, в нашей жизни главное – плечом давить? Главное – состояться любым способом?
– Не думаю. Не только плечом.
– Я люблю свою работу, но приходится иногда… иногда… делать вещи глупей себя. Понимаешь, я не самый умный, к счастью. Для кого же я их делаю? Получается, ГЭС построена, а работает одна турбина. Я ж хочу на полную мощность работать. И не за деньги…
– Хоти. Работай, – отрезал Новиков: это словоизлияние раздражало его. – Что ты анализируешь все, как мамкин сын? Возраст не тот. Пора уже не мечтать и не рассуждать, а жить и действовать, успели ведь «сорок тысяч всяких книжек прочитать»? Или как?
– Все сложно.
Новиков откровенно засмеялся. Он хотел как-то помочь, но от этого бесцельного, беспомощного, бесперспективного, бессмысленного разговора устал, физически устал.
– Брось! Про сложности трусы и лентяи рассуждают. Работать не хотят… Ты – не такой. Все даже очень просто, каждый должен отвечать за свое место, соответствовать, как ты говоришь, а боишься или не справляешься – отойди в сторону, не мешай другим, руби по себе сук!.. У нас самый возраст, и время сейчас такое, жизнь брать за рога. Кое-что мы напахали, теперь надо жать…
– А чье жнешь? Новиков глянул ему в глаза.
– Свое. А ты как считаешь?
– И я думаю, что свое.
– А я уж решил, что ты хотел меня обидеть, – пошутил Новиков и встал. – Пошли?
– Я не тороплюсь.
– Ладно, – Новиков улыбнулся, похлопал приятеля по плечу, положил купюру на стол. – Только не перегибай.
– Конечно, – приятель улыбнулся на купюру и тоже похлопал Новикова по плечу. – Ты тоже веди себя хорошо, не нарушай правила уличного движения.
– Не злись. Не так все страшно!
– Конечно. Только надоело. Поеду к брату в Тулу, проветрюсь…
– Когда ты думаешь ехать?
– Одно дело кончу и через неделю.
– Комната у тебя остается?
– Комната?.. Остается. Тебе ключ нужен?
– Да.
– Дам. Только книги чтоб не лапал никто.
– Не беспокойся.
– Я за тебя не беспокоюсь. Позвонишь тогда в понедельник, с утра и договоримся.
– Добро.
– Это… девочка, которую я видел? Таня?
– Имеет значение?
– А как же – комната моя и книги мои.
– Ты – принципиальный?
– Да, как ни странно. – И взял со стола купюру и повертел в руках.
– Та, – сказал Новиков, чтоб прекратить разговор.
– Таня, – сказал приятель. – Хорошая девочка. Зачем она тебе? Она идеалистка.
– А зачем мне материалистка?
– Ах, да, ты – хозяин жизни. Вот видишь, и я тебе пригодился.
– Пригодился, старик, спасибо.
Оба поулыбались друг другу, пожали друг другу руки.
– Пока.
– Пока.
– Будь здоров!
– Будь здоров!
Он долго выбирал букет.
Кавказец сказал недовольно:
– Бэри любой, все хорошие.
Новиков поднял на него глаза и разглядел его. Он не любил этих людей, хотя и пользовался их услугами. За услуги платил, но терпеть не мог слушать их советы.
– Слюшай, – заговорил Новиков вдруг с акцентом. – У тэбя мама ест, жэна ест?.. Дэти ест? Большой… Уважаемый человек… Работаешь! Им советуй!
Новиков выбрал один букет, другой… Расплатился.
Из двух букетов составил один хороший. Остальные цветы бросил тут же в урну.
Продавец смотрел на него диким, осуждающим взором. Но был воспитан, молчал, пока не удалился клиент.
Потом Новиков выбрал один цветок, завернул аккуратно в газету и спрятал отдельно в портфель.
Час был вечерний, и таксисты приостанавливали машины и выкрикивали: «В парк, на Ленинский…»
Новиков нагнулся к машине.
– Таганка.
– Нет, – заторопился таксист.
– Рубль сверху.
Машина рванулась и тут же затормозила.
– Садись.
Ехали быстро, все время давали «зеленый».
Таксист – молодой, хорошо одетый парень – покосился на цветы.
– Балуем баб, а зря!
– Чего?
– Я говорю, балуем женщин, а потом они нам на голову садятся. Я свою в порядке держу, чтоб не пикала, за домом чтоб лучше смотрела.
– Может, не привыкла к цветам?
– Отчего ж? Я когда за ней ходил, я не жалел! Что хочешь! Я такой, если любовь, ничего не пожалею! Она у меня грамотная, с образованием, английский язык знает в натуре! Я для нее каждый день рубашку менял и цветы, пожалуйста! Все путем, как у людей. А сейчас жена, чего деньги зря транжирить, лучше купить для дела что-нибудь.
– Так, может, ей цветы нужны?
– Ей – нужны, только я – хозяин дома, а она баба, хоть и с образованием.
– Она тебя не разлюбит?
– Куда? Двое детей. Куда она денется?
– И брал бы себе такую, что шмотки любит.
– Зачем? Я люблю образованных, чтоб с высшим образованием была и рассуждать умела. У меня две бабы только были простые: первая, это, конечно, и любовь моя, там я уже не смотрел, хотя тоже с десятью классами и мать учительшей работала. А так только образованные.
– Тянешься, значит, к свету? Хохотнул:
– Ага… Я им после процедуры всегда говорю, хоть ты, говорю, и образованная, пять лет училась, а я шофер простой, с шестью классами, но больше твоего зарабатываю, и пастись тебе подо мной приходится. Какая заплачет, я говорю: молчи, милая, поздно уже слезы лить! Логика жизни!
– Не били?
– Одна замахнулась, стерва лихая! Каблуком чуть глаз не выбила, крик подняла. Я – ей. Она захлебнулась. Со мной, говорю, такие штуки не пройдут! Она пока там дышала, я оделся и ушел, пусть потом кричит, сколько хочет! А ходил за ней два месяца. Выставки, театры, разговоры… Больше чем на двести меня выставила. Да мне денег не жалко, я их всегда заработаю, тем более здесь. Очень она мне, нравилась. Очень!..
– Чего ж ты с ними так грубо?
– А не люблю гонор, я простоту в человеке люблю. А тут начинают из себя воображать… Вожу я их, вижу, что с ними делают. Насмотрелся, наслушался… Нас они не стесняются, за людей не считают. «Гони, шеф!», «Давай, шеф!», щупаются, ругаются… Считают, раз он платит, значит, хозяин. Ты не московский?
– Сейчас московский.
– Я тоже сейчас московский, приехал из армии и женился на своей. Не возвращаться же в деревню, что я, хуже других?
Машина резко свернула вправо. Обогнула девушку. Та вздрогнула и напряглась. Таксист крикнул ей в лицо:
– Куда смотришь? Зад подбери. Разгулялась… Тоже небось какая-нибудь аспирантка.
– Воспитываешь интеллигенцию?
– Их в колхоз всех, на трудодни. Они бы тогда по радио меньше трепались! Ишь ходят! Цыпы-дрыпы!
– А сам ты принципиально не учишься?
– Почему? Я школу кончаю, рабочей молодежи. Может, в институт пойду. Сейчас в партию вступил, – он подмигнул пассажиру. – А куда денешься? Хочется пожить. Первый класс у меня есть, на книжке тоже, меня друг в Африку на работу обещал устроить, в Египет, три года отработаю, шмоток на десять лет хватит, машину куплю, за границей опять же побываю, посмотрю, как там люди живут, интересно. Ты не был?
– Был.
– Ну как?
– Ничего, интересно.
Таксист с уважением взглянул на пассажира.
– А у вас какая профессия, что за рубежом?
– Биолог я. Кенгуру развожу.
– Чего? Это которая прыгает?
– Она.
– А для чего разводят-то, для зоопарка?
– Для мяса, консервы будем выпускать. А главное – для замши. Замшевые куртки уважаешь?
– Ничего, – неопределенно согласился таксист. – Что-то я не слышал про это, хотя выписываю «Огонек» и «Неделю», и пассажиры не рассказывали… И платят много?
– Пятьсот в месяц. И премиальные.
– Ишь ты… И работа нетрудная?
– Трудная, – выдохнул Новиков. – Деньгам не обрадуешься. Таксист заметно повеселел.
– Деньги нигде зря не платят. Хочешь жить – умей вертеться!.. Вот и я говорю, что я, хуже других: жизнь проживешь, ничего не увидишь. А вернусь, там надо устраиваться, хочется тоже, как говорится, как человек: меньше ишачить – больше получать и в белой рубашечке ходить. А с этой коломбины я уйду, конечно, работу найду получше.
– Значит, собираешься все же учиться?
– Чего ж, если для дела. Мне смешно на учителей и врачих. Учатся, учатся, недоедают, а после на семьдесят, на девяносто рублей? Ну, я понимаю, евреи или черные, те свой кусок не упустят и зря учиться не будут, а вот наша учительница, Надежда Николаевна, приехала из Ленинграда к нам в деревню, так чего она добилась? Из Ленинграда! Хоть хорошая она женщина, хорошая, но не скажешь, чтоб очень умная.
– Она приехала вас учить. Без нее вы так и остались бы темными.
– Не остались.
– Для чего же она тогда приехала, ты считаешь?
– Ну такая, начиталась книжек, идейная… Пользы-то для нее никакой нет.
– Для страны. Для вас! Значит, и для нее.
– Если так подумать, конечно. Справедливо… Но шальная, зачем это ей?
– В ее дочь влюбился?
– Ее. Такая любовь была, мне теперь больше никогда так не полюбить. Я трактористом уже работал, из-за нее пить перестал, курить даже, я и сейчас не курю, с ребятами разругался. Считай, из-за нее я такой заводной стал и Москвы добился. А она никак: за товарища, мол, принимаю, а больше ничего не разрешу. Я уж в Одессу ездил, хотел в китобои устроиться, думал, вернусь со славою, но там такой блат, не пробьешься. А тут один тип приехал из столицы, техник. У нас дорогу рядом стали строить. Он был парень такой, московский, она к нему прилипла, думала с ним уехать, любовь у нее была. Я терпел, терпел, надо мной ребята смеются, а я думаю, чего его трогать. Во-первых, парень, сам он не виноват: раз добро лежит, чего не подобрать… Потом их много было все же, человек двадцать и из Москвы, черт его знает… его тронь – и срок схватишь… Ну, выпили мы один раз крепко, пошли в клуб, его отозвали, чтоб она не видела. Я ему говорю: «Что ж ты чужое подбираешь, она – моя!» А он ничего так оказался: «Бери, говорит, мне не жалко!» Выпили мы с ним еще полбанки, как полагается, покорешили, расцеловались, он пошел за ней. Вывел ее за овраг, будто на прогулку, а мы тут. Она к нему жмется: «Юра, Юра!» А он говорит ей: «Что ты за меня держишься, ты за себя отвечай». Здесь она, конечно, сразу вся опала, заплакала, без голоса, правда, бери ее голыми руками. Я говорю ей: «Что ж ты отвергла честную любовь? Подстилкой московской стала?» Ударил ее, как с ребятами договаривались. Честное слово, так любил, рука не поднималась, мечта все-таки, но перед ребятами неудобно. Она – ничего, только кровь вытерла, я ее еще два раза… И точно, легче стало… Парни тут подошли тоже. Подняли ей юбку, задрали на голову, иди, говорим, отсюда, такая-сякая! А она хоть бы сопротивлялась, молчит, как виноватая. А какая была принцесса! А у нас Витя был, хороший парень, умный такой, морячок, в отпуск приехал, говорит: «Ребята, как бы она на себя сдуру руки не наложила. От нее все можно ждать». Пошли за ней, догнали, она рыдает, а лицо опухло, я не рассчитал – сильно ударил.
– Милиция-то у вас есть?
– Милиция? Дядя Гриша. Мы с ним уже выпили и договорились. Он нас только предупредил, чтоб без ножей и лицо не трогали, а я погорячился. Но Витя-морячок сообразил: «Надо ее водкой напоить». Сбегали, принесли. Тут она кусалась, царапалась, плевалась, но не кричала и не просила, видимо, все же гордость осталась. Мы ей влили два стакана, неполных, часть разлили, но она утихла, вырвало ее, она вся перепачкались, стала плакать. Мы пошли за девками, говорим: «Идите, возьмите Лидку, пьяная валяется!» Отвели ее домой, все же видят, в каком она виде, а ее совсем разобрало, еле идет. А девкам мы сказали, со строителями ее видели. Стройбат около нас стоял. Мать как вышла, увидела ее, услышала о стройбате, по морде ей, чтоб видели все, какая она принципиальная! Из дому, говорит, выгоню! Вот тебе и Лидочка! А сейчас за шестьдесят рубчиков вкалывает на стройке в Новгороде подсобницей. Я в прошлом году ездил, заезжал специально посмотреть: живет в общежитии, одна койка, нищая, в общем, уже полапанная, а я еще мечтал о ней! Вот так!..
– Ну и сволочь же ты! Махровая!..
– Чего?
– Сволочь, говорю, гнусная! Машина резко прижалась к тротуару.
– Гони деньги и вылетай отсюда, гад!
Таксист сунул левую руку, но Новиков навалился на него, ударил коротко в поддых. Шофер охнул, осел.
– Брось, что ты взял! Лязгнуло железо.
– Я тебя выучу, хамло! Поехали, чего смотришь!
– До первого милиционера. Сдам сейчас к черту!
– Я тебя самого сдам: вылетишь из Москвы и из партии, дерьмо! Шофер затаенно и молча посмотрел, но ехал ровно, не останавливаясь.
– Здесь останови. Машина остановилась.
– Сдай назад.
– Куда я сдам? Пассажир сказал тихо:
– Сдай.
Машина поехала назад.
– Теперь вперед два метра. Проехала вперед точно два метра.
Новиков достал деньги, записную книжку, записал номер.
– А свидетелей не было, и я ничего политического не говорил.
– Разберемся. Давай сдачу!
Получил сдачу.
– В партию, значит, вступил, за границу рвешься поехать, машину купить?.. Прыщ деревенский.
– Ты, конечно, человек, а я – нет, – очень спокойно сказал таксист. – Тебе – можно, другим – нельзя!
– Ты…
Но тот смотрел и молчал. Спокойно смотрел. Новиков вышел, и тогда он закрыл за ним дверь и аккуратно, без рывков, отъехал.
Новиков дождался, пока машина исчезла среди других машин.
Прошел двор. Еще один. Оглянулся. Шагнул в парадное.
Поднялся по лестнице.
Остановился перед дверью. Дал два коротких звонка.
Ждал. Посмотрел на часы.
Дверь распахнулась. Он шагнул туда, еще раз кинув взгляд на лестницу. Дверь за ним закрылась.
Он обнял ее, и она зарылась в него и спряталась, прижавшись к его груди. От, тихо гладил ее голову, волосы, и они долго стояли, чувствуя тепло друг друга.
Потом она раскладывала букет в красивой вазе.
Поставила вазу на маленький низкий столик.
Поставила рюмки, поставила тарелки. Разложила ножи и вилки.
– Еще один пропавший день. – Он выложил из портфеля конфеты, лимоны, яблоки, бутылку коньяка и бутылку боржома. – Суета и разговоры. Иштван приехал. Надо будет его пригласить.
– Ты нас познакомишь?
Но он говорил о своем.
– Не пойму Виктора: есть конкретное интересное дело! Ноет и ноет! Надоело!..
– Ты просто устал, – сказала она. – Много работаешь.
– Если бы! Я не работаю, я функционирую. А потом удивляешься, куда уходит время. Живем, как цари, барствуем, тратим жизнь на необязательные разговоры.
Она молча и осторожно погладила его. И он вдруг успокоился – затих.
– Глупо, конечно, – уже улыбался.
Выключили верхний свет и включили маленькую настольную лампу и поставили ее на пол, накрыв косынкой.
Он выключил радио, и в сумерках и тишине стало слышно тиканье маленького будильника. Она зачем-то взяла его и завела.
Он перебирал пластинки. Выбрал. Поставил на проигрыватель. Приглушил звук. Мелодия была старая, классическая.
Он сидел на тахте. Откинувшись. Прикрыв глаза.
Она сидела напротив и смотрела на него.
– Ты здесь? – спросила она. – Тебе плохо?
– Когда с тобой – нет. – Он открыл глаза.
Она сразу вся засветилась.
– Ты устал. Ты устал, – уговаривала она его, как маленького ребенка. И гладила его волосы. – Ты устал. Отдохнешь – и все пройдет. Слушай, что я тебе говорю… Ты хороший… умный… – перечисляла она. – И мой любимый! Помни об этом, и тогда все печали отойдут…
– Куда? – спросил он.
– Я их отгоню.
– Отгоняй!.. Отгони!!.. – Взял ее руки, стал их осторожно целовать. Тронул губами висок… шею… губы.
…Потом сидели за столом.
– За тебя!
– За тебя, мой милый!
…Он снял пиджак. Снял галстук. Стал расстегивать рубашку.
Она остановила его.
– Посидим, у нас есть еще время.
Он обнял ее, взял на руки, стал носить по комнате. Она счастливо смеялась.