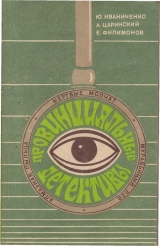
Текст книги "Муравьиный лев"
Автор книги: Евгений Филимонов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Евгений Филимонов
МУРАВЬИНЫЙ ЛЕВ
1. Пролог, 1954
Газик остановился, слегка развернувшись на ледяной дороге; стайка легчайших снежинок, невесть откуда берущихся при ясном небе, взметнулась в лучах фар. Враз с пробочным звуком распахнулись обе дверцы, люди в белых полушубках, в ушанках, в валенках, с оружием в руках споро выскочили на крепкий наст, перемахнули через низкий заборчик перед черной угрюмой избой… Водитель остался в кабине; взглядом то и дело обшаривал глухую окраинную улочку – руки на баранке, нога на педали. Вблизи тявкнула какая-то дворняга, да на таком морозе долго не полаешь! Он следил, как люди в полушубках с привычной сноровкой стали под окнами, перекрыли ход на зады, пробежали вниз, к баньке у ручья. Замерли, слившись с лунными тенями, накрест пересекавшими маленький двор. Тогда старший в два прыжка вскочил на высокое крыльцо (оглушительным был скрип замерзших ступеней) и вышиб дверь в сени одним ударом плеча. Распластался по стене – фонарик на дверь, предохранитель спущен.
– Краев, выходи! Будешь сопротивляться – положим на месте!
Темный дом ни единым звуком не отозвался на басовитый окрик. Старший бегло повел лучом по узкому проходу: ворох одежды, сорванной с вешалки, опрокинутый кованый ларь, наледь посреди пола из накренившегося ушата…
– Ефимов, ко мне!
Вдвоем они осторожно вошли в горницу. Тот же развал: на дощатом столе гора пепла от сожженных бумаг, смрад холодного дыма; кровать за ситцевой занавеской растерзана, пух из распоротой перины, свалявшийся в комки, устилал пол, маслянистые пятна на полу и стене… Оперативник потрогал одно, понюхал палец. Нашарил выключатель.
– Керосин. Зажечь хотел, сукин кот, да передумал чего-то.
– Ушел, падлюка!
Это старший сказал, уже не сдерживая своего баса, сиплого слегка от неутоленной ярости. Ефимов промолчал: было ясно, их опередили, причем намного. Вода в ушате, для чего-то выставленная в сени, замерзла почти вся.
– Давай, Ефимов, осмотри тут с Косенко как и что – не мог же он за полчаса все следы замести… Я с ребятами махну на станцию, поднимем дорожников. Теперь ему один путь – туда.
Старший вышел на крыльцо, сунул пистолет в карман полушубка и натянул вязаные перчатки на озябшие руки. Из комнаты донеслось угрюмое:
– Леньку хоть оставьте, фотографа.
– Будет с тебя Косенки, сейчас каждый человек дорог. В машину!
Газик развернулся и, натужно завывая, понесся вверх по залитой луной улице. Полнолуние над черной бревенчатой окраиной было словно дыра в ослепительный сияющий мир, до которого тщетно старались дотянуться бесчисленные столбики дыма, струящиеся из труб… Когда проезжали мимо базарной площади, мелькнул огромный фанерный плакат, утыканный лампочками, обрамлявшими две гигантских даты «1917–1957». И старший с тоской подумал о том, как быстро идут годы, но тут же отогнал от себя эту безусловно расслабляющую постороннюю мысль. Розыск брал сегодня крупное, давно выслеженное гнездо.
* * *
Краев бежал станционными задворками, окутываясь паром при каждом выдохе, словно локомотив. В длинном кожаном пальто, в войлочных бурках, с тяжеленным чемоданом в руке… Оступался, падал в безлюдных междупутьях, заставленных порожними вагонами и стылыми, лишенными тепла паровозами… Лишь раз обернулся на стрельбу, на лай, донесшиеся тоненькими, лишенными угрозы звуками издалека – аж со Сплавной. Поднял к луне бледное безбровое лицо, оттопырил один наушник, чтоб лучше слышать. Так и есть, всех брали – и на Колымягах, и на Сосновке, и на Сплавной!
Он бежал, пока даже не зная куда, веря лишь в свое чутье – больше ему верить было не во что. Прихватывал ртом снег с варежки, обжигающий губы на ядреном морозе. Постепенно понял куда бежит – не к большаку, там все перекрыто, ясное дело, да и на вокзал надо было путем недели две раньше. Бежать надо на выездную ветку – там подъем, составы идут с толкачами, шагом почитай, дед столетний и тот вскочит…
– Никак оперы?
Краев остановился и спрятался за круглый бок цистерны. Пригнулся, выглянул из-за реборды колеса, отсвечивающей сталью: так и есть, в морозном мареве, в путанице подъездных путей мелькнули две фигуры в белых полушубках. Он выругался, осел под колесо.
Морозная лунность заполняла все пространство от Ледовитого до Тихого океана, цель этой лунности была одна – выявить его, Краева, отдать на растерзанье белым полушубкам, овчаркам ихним, ихним судьям, прокурорам…
Подождал, затаив дыхание, пока фигурки скрылись за деповским складом, переметнулся на другую сторону состава, скатился под насыпь. Понял, спиной почуял – заметили. Бегал глазами по голому снегу, по дворам Щепихи – вот они, рядом, да не успеть укрыться, полоса отчуждения пустая, сверкает, словно фольга. И тут заметил – снизу лишь это видно было – круглую дыру внизу насыпи, дыру-тоннель для пропуска воды. Едва успел вбежать туда, втиснуться, чемодан втащил. Старался дышать в шарф – чтоб тише. Вверху послышались скрипучие торопливые шаги, невнятный разговор. Затем стало слышно лучше.
– …поди уже к Октябрьской добирается.
– Надо было овчарку взять. Ты чего Семину кобеля уступил?
– Ему нужней, он там один на безлюдье. Смотри, никого не видать.
– Нет, кажись. А ведь блестилось что-то.
– Было бы в виду. Снежок свежий зараз бы следы выявил. А тут семь ден ни облачка. Щепиха, вишь – вся через насыпь на комбинат шастает, заследили, затоптали.
– Да это что, если б собака… Он сюда не рискнет…
Голоса удалялись. Краев не спешил выходить из спасительной темноты, хотя здесь, в неподвижности, его вдруг охватил лютый холод: зубы звенели друг о друга, вздрагивали колени так, что в чемодане тяжко звякало. Вздохнул, решил выбираться: неровен час, вернутся с ищейкой. И тут осенило – проще по этой трубе пройти подо всей станцией, а там она выйдет (соображал поспешно, где же выход с той стороны) – точно, у водокачки. Место открытое, зато Сонькин прииск рукой подать, а там не то что опер – черт ногу сломит посреди старых бараков и складов. Да оттуда и к подъему на выездной ветке ближе.
Молоток в потайном кармане пальто холодил грудь сквозь пуховую телогрейку и оба свитера. Краев взял его ее столько в качестве оружия, сколько как инструмент. Мало ли что может понадобиться – окно высадить, сбить замок… Был он человек осмотрительный, осторожный и скрытный, словно куница: все дело знал насквозь, в главари лез, не пьянствовал, деньги зря не показывал, потому и «держал банк» – почитай, пять лет уже. Знал, что на след напали по мельчайшим, незаметным стороннему глазу признакам, но никому не сказал об этом – ни Самсону, ни Головне, ни Жуку, никому, кроме одного, очень нужного ему человека… Имел свой тайный план: опередить и тех и этих, и вот, уже, зарвался.
В полной темноте, согнувшись в три погибели, посвечивая изредка фонариком, шагал он в бетонной трубе. Чемодан бил по ногам, тоннелю, казалось, конца не было, злые ледяные сквозняки ходили в нем. Когда впереди тускло забрезжил свет, Краев убавил шаг, пошел тише, а перед самым выходом поставил чемодан наземь и начал красться – совсем бесшумно в мягких бурках.
Все та же луна стояла в зените над водокачкой, безмолвное сиянье высилось над спящим городом. Вдалеке укал маневровый паровоз. Было далеко заполночь, это ощущалось по той отчетливости звуков, с которой лязгали вагоны, спускаемые с горки. Перекликались сцепщики. Прямо перед Краевым, метрах в сорока от разгрузочного дебаркадера стояли двое, над ними вился сигаретный дымок…
Краев отполз вглубь, к своей ноше, сел на чемодан, прижался лбом к заиндевелому бетону. Слабость и безразличие охватили его, подумалось: может, с повинной выйти, зачтут. И банк сдать… Но при одной этой мысли апатия уступила место животной, неукротимой злобе. Лягаши, падлы, секретов понаставили, обложили – сейчас он выйдет, готовенький! И все добытое высыплет – бери, казна, радуйся, твое золотишко, из твоих недр. А Краев за все отсидит, за вохру побитую, за вскрытые контейнеры, за вооруженный грабеж, а то и прислонится к стене – сам, добровольно… Так нет же, не бывать такому, глотки зубами рвать буду, а прорвусь! Тут, на товарной.
…Паровоз «ФД» тяжко сипел, готовый к отправлению, длиннющий состав порожняка выстроился за ним, изогнувшись дугой на путях. От хвоста поезда деловитой походкой шел человек в кожаном пальто, в черной ушанке с поблескивающим значком; на ходу он постукивал молоточком по колесам, приоткрывал крышки букс. Один из патрульных милиционеров равнодушно скользнули по нему взглядом, второй и вовсе не обратил внимания, всматриваясь в даль, заставленную вагонами. Человек шел в лунной тени, посвечивая изредка фонариком на мерзлое, взявшееся инеем железо. Когда изгиб состава скрыл его от патрульных, человек выбил молотком щеколду ближайшей двери и влез неловко в черную щель. Задвинул дверь – осторожно, без стука. Сел на дощатом грязном полу, ощупал себя – все ли на месте. Внутренние карманы пальто, подкладка пиджака обвисали металлической холодной тяжестью, пачки денег выпукло круглились за поясом, в карманах брюк. Огладил себя, не веря еще удаче – да и рано все-таки было радоваться – все взял, ничего не забыл. А чемодан, барахло – хрен с ним, дело наживное, главное – не посеял ни следка за собой. Вроде нет…
Краев отвалился к стенке, ждал в полной темноте. И вот состав дернулся и поплыл, побежал навстречу его новой, надо думать, прекрасной жизни.
2. Сержант Станевич (август, 1979)
Над северной околицей Украины ночами стоит зарево: полуторамиллионный центр забивает тусклые созвездия мощным свечением. Город не засыпает ни на час. Круглосуточно над аэропортом гремят лайнеры со всех концов страны, змеятся к вокзалам по паутине рельс стремительные составы, в недрах города, в трубах тоннелей пульсируют поезда метро, а на бесчисленных улицах – неумолкающий шорох шин. И толпа, толпа… Кажется – что стоит затеряться новоприбывшему в этой толчее?
Окружная автострада охватывает разросшийся город по зеленому поясу, будто отделяя магическим кругом сельскую пасторальную тишь пригородов. Автомобили, выбегая на окружную дорогу по трилистникам развилок, будто проваливаются в толщу садов. Вжик… вжик… вжик… – монотонный ритм шоссе вплетается в пчелиное гуденье, в шелест яблоневой листвы.
Трасса разбивала Загородный надвое. Улочка, поросшая травой, перехлестывалась серой бетонкой и возникала на другой ее стороне во всей своей поселковой расхлябанности. Двое неторопливо перешли шоссе, уже свободное от утреннего пика, и углубились в улочку. Впереди шагал плотный немолодой мужчина, на котором выгоревшая милицейская рубаха казалась слишком тесной. За ним, с любопытством поглядывая вокруг, шел высокий смуглый парень с видавшим виды портфелем, с курткой, переброшенной через локоть по причине ранней жары. Удивительно безлюдно вокруг – после перенаселенного города: в тени заросших дворов изредка мелькала детская фигурка, разверстые пасти пустых гаражей, заплетенные диким виноградом веранды…
– Все на работе, в город уехали, – будто отвечая на вопрос спутника, сообщил милиционер. – Тут половина – научные работники. Ядерщики одни. Художники, писатели, публика солидная.
– Чувствуется. Для таких людей могли бы и кондиционирование устроить по всей улице, а то вон как припекает.
Сержант хотел что-то ответить на эту, как ему показалось, неуместную шутку, но сдержался. Спросил вместо этого:
– А что, в Сибири прохладнее?
– Когда как. Бывает пекло покрепче, чем в Крыму.
Парень присмотрелся к табличке, косо висевшей на заборе.
– Улица Красина.
– Она самая, уже подходим.
Улица Красина упиралась в зеленую гущу молодого осинника. Тут поселок заканчивался, подходя к самому массиву леса, сбегавшему вниз по крутому склону. Сквозь листву видно было, как у подножья горы, извиваясь, словно зеленый уж, ползет электричка.
– Красивое место, – отметил парень. – Но ведь дальше ничего нет?
– А нам дальше и не надо. Заходи, хозяин.
Сержант сбросил щеколду калитки, встроенной в дощатый заборчик и распахнул ее настежь, приглашая гостя войти. Забор огораживал крайнюю усадьбу, граничащую одной стороной с лесом. За пыльными лопухами, осенявшими дорожку, за изрядно запущенными плодовыми деревьями виднелся черный от непогоды фронтон с покосившейся телевизионной антенной. Слуховое окно без стекла мрачно зияло в безоблачные небеса.
Вблизи дом был еще неприветливее: худые ставни закрывали небольшие оконца, крыльцо просело, кирпичные стены почернели от дождей. Наискось от входа стоял еще более подавшийся от времени сарай; пустая собачья будка под старой грушей, верстак на двух вкопанных в землю столбах, примитивная печь из нескольких кирпичей – образовывали подобие двора.
Милиционер осмотрел красную печать на входной двери, затем пошарил в сумке и отпер дверь двумя ключами, большим и маленьким. Снял печать, и они вошли.
В темной прихожей стоял странный запах – когда включили свет, стало ясно, что это запах подгнивших яблок. Они сплошным слоем покрывали пол кухни, которой, судя по всему, никто не пользовался в летнее время. Сержант тщательно вытер подошвы о войлочный половичок, и они проследовали в комнату больших размеров, смежную с кухней. Сквозь щели в ставнях пробивались яркие солнечные лучи: в их свете комната выглядела странно и угрожающе. Щелкнул выключатель: сержант подсел к столу и раскрыл тощую папку.
– Ну что, наследник, давай, как говорится, обменяемся верительными грамотами. Тут у меня акт передачи имущества.
Парень не отвечал. Он всматривался в суровое холостяцкое жилище, перешедшее теперь в его собственность. Овальный большой стол в центре был застлан протертой клеенкой, над ним висела мощная лампа – ватт 200 – под запыленным абажуром, она сияла безжизненно, как в операционной. Крепкие старые стулья с грубой рыночной резьбой, венская качалка, сервант с водруженным на него допотопным телевизором, диван с зеркалом над спинкой, с заткнутыми за раму немногочисленными фотоснимками. Платяной шкаф, накренившийся на неровном полу…
– Так… Ярчук Климентий Никандрович – так, что ли? – Сержант вписал в акт и себя. – Станевич Виктор Михайлович… Составили настоящий акт в том, что первый принял, а второй передал… и так далее, согласно описи. Давай, принимай по описи.
Ярчук, будто очнувшись, поставил портфель на пол и расписался в нужном месте, не читая. Сержант Станевич покрутил головой, видимо, не одобряя такого легкомыслия.
– И окна открой, а то у тебя тут… как в крематории.
Ставни запирались изнутри, сквозь стальные стержни продевались шпильки с ушком. Клим, выросший в городе, в жизни не видал ничего подобного. Когда ставни были открыты – комната преобразилась, утреннее солнце высветило насквозь скромную горницу, и она сразу стала меньше размером и приютнее. Зато на полу, прямо под выключателем, незаметные раньше, стали видны контуры человеческой фигуры, схематично очерченные мелом на крашеных досках.
– Что это?
Сержант оторвался от описи, на которой он, порядка ради, птичками отмечал наличные вещи, посмотрел на пол, на хвосты самодельной оборванной проводки, торчащие из-под пластмассовой крышки.
– Картинка? Это следствие оставило. Отец твой, знаешь уже, должно быть – закоротил сеть на себя, упал и затылком как раз ударился. Сигнализация тут у него была, самодельная, к сараю. Видно, впотьмах схватился за голый провод.
– Так следствие решило?
Клим не отрывал взгляда от очертаний распластанной фигуры. Станевич молча заполнил какой-то бланк. Затем встал и, порывшись в полевой сумке, вручил парню толстую замасленную записную книжку.
– Возьми. Тут он держал бумаги свои. Паспорт, как водится, забирают в таких случаях, ну а другое что можешь забрать. И ключи возьми, вот связка, сам разберешь, что к чему. Кстати, давай свой документ, отнесу на прописку, чтоб зря не мотался. Устал с дороги?
Сержант скупо улыбнулся. Но Ярчук вдруг напрягся и побледнел.
– Да ничего, я сам как-нибудь.
– Давай, давай…
Не глядя на Станевича, Клим вытащил из бумажника паспорт, в нем был глянцевый твердый листок.
– Это что?
Сержант недоуменно развернул бумагу. По мере того, как он читал, полное лицо его каменело.
– Так… Условно, значит? Как же они тебя сюда отпустили?
– Сочли возможным…
В голосе Ярчука появился тусклый жестяной оттенок.
– Сочли, значит… Ясное дело, кому хочется такое добро держать возле себя. Пускай плывет в другое место.
С минуту оба яростно смотрели друг на друга. Сержант, не отводя взгляда, аккуратно сложил справку и сунул себе в нагрудный карман. Паспорт вернул.
– Сам зайдешь, к Сенькиной, паспортистке. И чтоб не тянул с этим. Вообще, учти, Ярчук, – у меня участок образцовый, свои дела тебе здесь придется бросить.
– Уже бросил, – угрюмо буркнул Клим.
– Ишь ты! Яблочко от яблоньки, как говорится. Смотри у меня!
Станевич, гулко ступая, вышел. Клим потер ладони, остывая от разговора. А какой еще реакции можно ожидать, предъявляя такое? Но тяжелое чувство долго не проходило.
Он обследовал еще одну комнату, выходящую окнами на север. Она была аскетически голой. У окна стоял письменный стол учрежденческого вида и такого же облика книжный шкаф, запертый на замок. Судя по всему, эта комната служила отцу рабочим кабинетом.
Клим вышел из дому и открыл огромный висячий замок на сарае самым большим ключом из связки. Сарай его приятно удивил. Над чистым длинным верстаком, что шел вдоль низкого, забранного решеткой окна, висел рулон чертежей, небольшой кульман стоял в углу, одну стену занимал стеллаж, полный всякого металлического хлама, рассортированного, впрочем, по каким-то признакам, известным только хозяину. Лампа-переноска была зацеплена струбциной за стропильную жердь. Тиски, книги, инструменты, небольшой электромотор со сменными насадками. Похоже, тут была мастерская. Клим взял с верстака неизвестный ему плотницкий инструмент с плоской деревянной ручкой; на ней виделся чернильный штамп школы № 3 с инвентарным номером. Повертел его в руках, посмотрел другие инструменты. Они были без клейм.
Еще в сарае был топчан и деревянный круглый табурет от пианино, отец, видимо, работал на нем. На рассохшейся тумбе стоял приемник «Балтика». Пахло сухим деревом и слегка автолом. Рядом в чулане за перегородкой лежали на горе угля сваленные в беспорядке дрова.
Теперь оставалось пройти по саду и, можно сказать, осмотр закончен. Клим шел между старых яблонь, брюки пачкались пыльцой лебеды. От осинника усадьбу отделял забор не забор, а какое-то номинальное обозначение частного владения – два ряда провисшего провода на покосившихся кольях. Зато с противоположной стороны, на меже, отделяющей соседний участок, была водружена солидная изгородь – бетонные столбы с туго натянутой вольерной сеткой. Кое-где по ней тянулся вверх вьюнок.
– День добрый, соседу! Позвольте представиться – Губский Иван Терентьевич.
Клим обернулся: за прядью вьюнка стоял дородный мужчина в шелковой майке и светлых домашних брюках, он с любопытством смотрел на незнакомого юношу.
– Здравствуйте. Клим Ярчук.
– С приездом. И с вступлением в права.
За спиной толстяка возвышалась черепичная кровля, над кирпичной стеной, любовно выведенной «под рустовку». Маленький балкон с балюстрадой нависал над садовой чащей. Даже отсюда видно было, что домовладение Губского, не в пример соседу, отличалось основательностью.
– Только что с дороги?
– Из аэропорта. Прямиком.
В окружении густой листвы полуголый тучный Губский показался утомленному бессонной ночью Климу неким мифическим существом – то ли Паном, то ли Вакхом. Они смотрели друг на друга сквозь сетку. Что-то было в этой сцене от зоопарка. Наконец, Губский сказал:
– Ну что ж, не буду вам мешать, осваивайтесь. Если что нужно – сразу ко мне. По-соседски, не стесняйтесь…
Кивнул на прощанье и двинулся по направлению к своему дому. Ярчук еще побродил по двору. День наливался зноем, точно сосуд, и приятно было вновь оказаться в прохладной горнице, растянуться на продавленном диване, подсунув под голову растерзанную плюшевую подушку. Крепкий сон вдруг накатил на парня, и толстая записная книжка, что он взялся было посмотреть, тяжко шлепнулась из ослабевших пальцев на пол.
3. Записная книжка
Проснувшись, Ярчук некоторое время соображал, где находится. Тень от рамы успела переместиться с пола на противоположную стенку. Дневные звуки снаружи стали гуще, насыщеннее, как это бывает к вечеру. Где-то бубнил магнитофон. Заблеял пионерский горн – видимо, неподалеку был летний лагерь.
Клим почувствовал голод и достал завтрак из портфеля, куда его положила заботливая сестра. Жевал бутерброд и перелистывал записную книжку. Страницы были плотные, замусоленные, словно старые игральные карты.
Кто же был его отец, о котором мать за всю жизнь не сказала им и двух слов? Впрочем, тогда они с Катей еще не выросли для серьезных разговоров – ему десять, Катерине четыре, ненастное осеннее утро, тетка Нила с трясущимися губами стучится в окошко их низенького домика на Щепихе. Мать работала на третьей смене. Взрыв в малярном цеху. Нечего было даже похоронить…
Очевидно, было что-то в прошлом, что не позволяло матери даже заикнуться об их отце. Да и тетка Нила, скупая на слова, могла сообщить не больше. Жили недолго, разошлись еще до рождения Кати, он где-то на Украине. Оттуда родом. От алиментов мать отказалась. Клим не сомневался, что, будь она жива, наверняка не пустила бы его сюда. Это, пожалуй, было хуже всего – чувствовать, что поступает против ее воли, и все-таки каждому человеку должно знать своего отца, ведь иной раз сходство судеб объясняется чисто генетически. Яблочко от яблони, как обронил сержант Станевич. Клим стиснул зубы.
Итак, книжка. Под ледериновым переплетом изнутри был кармашек из затертого до непрозрачности целлулоидного листка, под ним находился проездной билет на электричку, на три летних месяца, с полуотклеенной серой фотографией. Ярчук впервые видел фото своего отца; он долго всматривался в его черты, не находя особого сходства ни с собой, ни с Катей. А может, они вообще не были детьми этого человека? Может, именно поэтому и распался брак родителей?
На первой страничке – расписание поездов, неизвестно за какой год, скорей всего оно исправлялось от года к году, многие цифры были перечеркнуты. Телефоны. Не так уж много, но обозначены только инициалы. Клим удивился – трудно держать в памяти людей по паре букв. Записи с какими-то сложными финансовыми выкладками, впрочем, как мог судить Ярчук, на весьма скромные суммы, перемежались техническими схемами, эскизами каких-то конструкций. Две странички занимал черновик не то письма, не то заявления – насчет какого-то рацпредложения, очевидно. Старые лотерейные билеты, марки, из них одна довольно экзотическая, с видом Торонто. Возможно, отец был филателистом?.. Несколько адресов – опять же, инициалами. Выписки откуда-то, большей частью технического характера, сделанные карандашом, фломастером, шариковой ручкой. Одна выписка, обведенная красным, не имела отношения к технике. Вот что счел нужным выписать Никандр Ярчук, скорее всего, из какой-то книги по биологии:
«Личинка муравьиного льва вырывает в песке воронкообразную ямку резкими движениями лопатовидной головы, она зарывается в землю; наружу торчат лишь длинные челюсти. Мелкие насекомые, главным образом муравьи, пробегая по осыпающему краю воронки, скатываются на дно и пытаются выбраться из нее по склону ямки. Тем временем сидящий в засаде „лев“ бомбардирует их песком, пока они не соскользнут на самое дно кратера, прямо в ядовитую пасть коварного убийцы. Минуту спустя высосанное тело муравья выбрасывается из ямки, и личинка поджидает новую добычу».
Занятная цитата. Под ней был рисованый чертеж – схемка, паутинные линии образовывали четкий контур в форме сердечка. Наверное, еще одна прикидка технического устройства. Ярчук перевернул страницу и привстал от удивления – среди череды анонимных адресов вдруг возникли знакомые до неправдоподобия слова – старый адрес Нилы, полузабытый теперь даже им самим.
Вот как!
Клим отложил книжку и всмотрелся в фотографии у диванного зеркала. Так и есть – в углу малозаметный снимок его и Катюши, на школьном утреннике… Потер лоб, вспоминая, когда же мог быть сделан этот снимок – году, этак, в 69-м. Странно, матери тогда уже не было, как же мог он попасть сюда?
Тут на глаза Ярчуку опять попался зловещий меловой контур на полу – распластанный, с выброшенной вперед рукой. Из стены, словно щупальца, торчали оборванные провода, виновники несчастья. Клим встал и внимательно обследовал проводку. Затем вышел на кухню, взял ведро с половой тряпкой и стал тщательно вытирать следы меловой линии. За этим занятием он не сразу услышал стук.
У входной двери стоял худющий подросток в мятых вельветовых брюках и заношенной безрукавке с эмблемой какого-то ансамбля. Бесцветное личико в крапе бледных веснушек. Подросток недоуменно взирал на Клима; в руке он держал большую коробку, вроде обувной.
– Никандр Данилович дома?
– Сперва здороваются. – Ярчук, вытирая руки, приглядывался к посетителю; чем-то он его очень забавлял. – А потом уже спрашивают.
Подросток хмуро смотрел на него.
– Так где же он? Меня Пташко прислал.
– Пташко? Это кто ж такой?
– Физик.
– Атомный, что ли? Тут, говорят, таких пруд пруди.
– Школьный физик. Учитель.
– А-а, вот как… Ну что ж, приятель, нет здесь Никандра Даниловича. Причем, совсем нет.
– Уехал, что ли?
– Умер. Месяц назад…
Подросток все еще стоял, не понимая. В его возрасте понятие смерти с трудом отождествляется со знакомыми людьми.
– Вот так, браток. А я его сын, приехал сюда.
– А как же… – паренек все еще не осознал известия, – ведь договорились они с Пташком отбалансировать двигатель этот. Для кружка.
– Для кружка?
– Ну да, технического творчества. Водородный двигатель, первый в системе юношеского творчества.
Несмотря на растерянность, подросток выложил эти термины с привычной гордостью. Ярчук похлопал его по плечу.
– Такие дела. Помер он, несчастный случай. А я помочь ничем не могу, незнаком с водородными двигателями.
– В них вообще мало кто разбирается. Хотя тут он не весь, только маховик и редуктор…
Подросток глянул на Клима со скрытым пренебрежением.
– Ну, вот что, – сказал Клим, присаживаясь на ступеньку, – отдохни малость… Сашок.
– Я не Сашок… Константин.
– Ясно. Меня зовут Клим. Мне, знаешь ли, хочется побольше узнать о своем отце. Я его совсем не знаю. Жил отдельно.
– Как я совсем. – «Константин» заметно оттаял и по-свойски присел рядом. – Мой тоже нас с матерью бросил лет семь уже назад. Но я про него все знаю. Приезжает часто.
– Ну вот, а я вообще не знал – где живет, что делает. Меня ваше республиканское МВД разыскало и сюда вызвало. Из Сибири.
– Бывает, – веско сказал паренек. – Вам про отца рассказать Пташко может. Они контачили, особенно, когда физик еще здесь жил.
– Так ты не местный?
– Вы что! Я из 112 микрорайона. И школа там же, и кружок.
Константин, вроде, даже оскорбился таким невежеством Ярчука.
– Ясно как день. Давай мне тогда ваши координаты, загляну при случае. Хочется, знаешь, побывать на острие технических достижений.
– Зря смеетесь. Мы держим первенство по области уже два года. В Киеве на смотре медаль получили.
Он, насупясь, рисовал схему микрорайона. Отдал листок и еще немного потоптался в нерешительности.
– Ну, так я пойду…
– Погоди немного, Костя, – сказал Ярчук. – Видишь вот эту грушу? Давай-ка проверим, как у нее с плодоношением.







