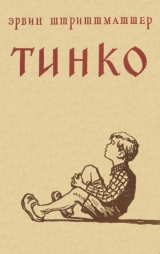
Текст книги "Тинко"
Автор книги: Эрвин Штритматтер
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Я иду к Пуговке. Пуговке на рождество подарили «Конструктор». Коробка, а в ней много-много железных пластинок с дырочками. Если их скрепить винтиками, то можно построить трактор или паровоз.
– Хочешь со мной играть, Тинко? Ты можешь подавать мне винтики и гайки. Видишь, я строю подъемный кран.
– Некогда мне с тобой играть, Пуговка. Я к тебе по делу пришел.
Пуговка удивленно смотрит на меня и откладывает в сторону маленький гаечный ключ:
– Тебе задачи дать списать?
– Нет, списывать я не хочу. Я хочу поступить в пионеры.
– Правда хочешь?
– Да, хочу. Ты научи меня салют отдавать, только не при всех.
– А почему ты решил поступить в пионеры?
– Я хочу дедушку позлить.
– Нет, тогда нельзя.
– Я хочу в книжках стихотворения читать.
– Тогда можно. Но ты сперва принеси подписку от своего дедушки.
– А от бабушки нельзя?
– Нет, нельзя… Постой-ка, да ведь у тебя же твой солдат есть! Пусть он и даст тебе подписку. Он же твой отец.
– Солдат? Да… мы, знаешь, поцапались с ним малость. Я у него на свадьбе не был.
– Это не важно. Он тебе даст подписку. Он же член партии и друг пионеров.
– Да?
– А ты как думаешь?
На пруду Стефани с другими девчонками катается по ледяной дорожке. Я подзываю ее:
– Стефани, мне надо с тобой по делу поговорить.
– Ты за своим рождественским подарком пришел? Он у нас дома лежит. Еще со свадьбы. А ты все не идешь…
– Видишь ли, я решил не переступать порога вашего дома.
– Я тебе вынесу. А ты пока можешь на улице подождать.
Девчонки видят нас и начинают шушукаться. Инге кричит:
– Вы что, тоже жениться собрались?
– Ты бы помалкивала! Сама вон с большим Шурихтом гуляешь!
– Больно он мне нужен! Он нос рукавом вытирает.
– А ты ему платочек вышей.
– Я ему лучше сразу целый мешок сошью и под нос повешу.
Атака отбита. Стефани хочет идти.
– Стефани, послушай! Он меня выгонит, если я у него подписку попрошу?
– Какую подписку?
– Какая нужна для юных пионеров.
– Он даст. Наш папа даже очень обрадуется. А ты кстати заберешь свои подарки.
Вот Стефани и убежала. Она не хочет, чтобы девчонки опять начали дразниться. «Наш папа», – она сказала. Разве она может так нашего солдата называть? Что она, с ума сошла?
На дворе метель. Все-таки было бы неплохо, если бы мне подарили пальто. А то ходишь как беженец какой! Вот уж меня всего снегом занесло. Ветер ломает ветки в старом помещичьем парке. Хорошо тем, кто в замке живет! Сидят себе в теплых комнатах, а я тут ходи и жди подписки. Фрау Клари и наш солдат уже вернулись домой. Я видел издали, как они у входа друг с друга снег счищали. Наш солдат еще смахнул все снежные звездочки с волос фрау Клари. И ведь сделал он это той же самой рукой, какой дал мне затрещину. Потом они оба юркнули в замок и пропали там. Хорошо им! Небось подписка, которая нужна некоторым людям, чтобы позлить дедушку, у них при себе. А почему такие подписки не продаются в кооперативе? Когда я вырасту большой, я приготовлю целый мешок подписок и разбросаю их на лугу. И все дети, которым нужна какая-нибудь подписка, будут приходить и брать себе, сколько им нужно.
Кто там? Это не Стефани показалась? Да, это она. Но мне не надо прятаться: Стефани подумает, что я снежная баба, и пройдет мимо. Но она не проходит мимо.
– Это ты, Тинко? – спрашивает Стефани.
– Да, я. И еще я снежная баба.
– Что ж ты тут стоишь мерзнешь? А пальто твое лежит у нас в комнате… Ты заходи. Я тоже сейчас приду. Мне только сбегать в кооператив. – И Стефани пускается вприпрыжку.
– Стефани! Стефани!
– Это ты меня звал, Тинко? Ветер воет, ничего не слышно.
– Стефани, а ты не могла бы… мне неловко заходить, я весь в снегу, да и вообще… Ты не могла бы мне вынести подписку?
Стефани подходит совсем близко. Она склоняет голову набок, чтобы заглянуть мне получше в глаза:
– Я сперва вынесу тебе пальто, потом сбегаю в кооператив, а уж после принесу подписку. – И Стефани бежит к замку.
– Стефани! – кричу я ей вслед. – Если ваш папа выйдет схватить меня, я убегу!
Но ветра мне не перекричать.

Никто не выходит. Стало быть, они не дорожат моим знакомством. А на Стефани можно положиться. И почему это бог не подарил мне сестренку? Вон Стефани уже тащит пальто. Она предлагает надеть его.
– Стефани, не могу же я взять его у вас бесплатно.
– Можешь. Это же подарок к рождеству, от нас всех. Я пуговицы пришивала и петли обметывала.
– Правда? Ты сама это делала?.. Нет, нельзя, я ваше пальто все изнутри снегом запачкаю.
Оказывается, ничего подобного. Мне приходится все-таки надеть пальто. Стефани застегивает его. Хорошо еще, что Инге Кальдауне не подглядывает, а то она сразу бы закричала, что мы уже свадьбу справляем.
Стефани бежит в кооператив. Мне хорошо в моем новом пальто, словно в теплой комнатке. А что я буду дома с ним делать? Отнесу на сеновал и спрячу от дедушки.
Стефани возвращается из кооператива. В руках у нее пакетик стирального порошка. Она заходит домой и приносит мне записку:
– Наш папа велит передать тебе привет. «Будь готов!» – он сказал.
– Стефани, а ты умеешь отдавать салют?
– Умею. – И Стефани показывает мне, как надо отдавать салют.
Потом она принимается обучать меня. Руки у нее мягкие, как лапки у нашей кошки, когда она на припечи спит. Стефани поднимает и опускает мою руку. Вот даже забралась ко мне в рукав:
– Тебе тепло, да?
– Стефани, а теперь я правильно делаю?.. Будь готов!
– Всегда готов! – отвечает Стефани. – Правильно… Ты что, Тинко?
– Ты, ты… мировая ты баба! – выпаливаю я и бегу прочь. Мне ведь теперь и Пуговку не надо будет беспокоить из-за этого салюта.
Я решил не прятать пальто на сеновале: там его дедушка все равно найдет. Может быть, он рассердится, если я ему скажу, от кого у меня пальто? Вот хорошо бы!
– Что это за ряса на тебе? – спрашивает дедушка. Глаза у него сердито поблескивают, усы топорщатся.
– Пальто.
– Откуда?
Больше я уже не смею сердить дедушку.
– Ряса, она… от друга… – бормочу я.
Дедушкино лицо светлеет:
– Вот видишь, на таких людей всегда можно положиться. Даже в самый мороз. А хорошее пальто, теплое!.. И могут же люди себе такое позволить! Взяли да подарили. В балансе что? Дружба – она греет… А ты поблагодарил, как положено?
– Снег больно сильно мел, дедушка. Я побоялся, что наслежу в комнатах.
Может быть, сказать дедушке, что я не о его, а о своем друге говорил? Нет, не скажу. У меня теперь есть теплое пальто. На худой конец, я в нем могу и прямо на снегу переночевать.
Карнавал. Каждый день где-нибудь бал. Взрослые наряжаются, как дети накануне Андреева дня. Всем хочется хоть ненадолго стать тем, о чем они втайне мечтают. Кэте Кубашк хочется быть невестой. Она подбирает себе вуаль, надевает подвенечное платье и так идет на бал. А у маленького Препко горб на спине. Ему хочется быть таким же стройным, как все остальные парни. Он покупает маску, лихие усики и берет напрокат черный костюм. Спину он подбивает паклей, чтоб не видно было горба. Он хочет хоть ненадолго стать женихом. На балу он встречает Кэте Кубашк, наряженную невестой. Вот парочка и подобралась. Весь год Кэте и не замечала маленького Препко. А тут вдруг сразу увидела! Играет музыка, и она торжественно проходит с ним под руку по залу. Оба довольны, счастливы и веселы, пока распорядитель танцев не приказывает всем снять маски. Некоторые, перед тем как снять маску, уходят из зала. Это чтоб никто не узнал, что они хотели быть турецким султаном или танцовщицей. Но маленький Препко остался. Он щекочет свою невесту и пугает ее. Ему надо, чтоб она заговорила. Но невеста так и не проронила ни слова: она себя не выдала. Кэте Кубашк тоже сгорает от любопытства: кто этот назойливый жених, который повис у нее на руке? Все снимают маски. Кэте Кубашк фыркает, вырывается и, красная от стыда, выбегает вон. Оказывается, женихом-то ее был маленький Препко! Маленький Препко делается снова таким же грустным, как всегда.
Мы облепили снаружи окна трактира. Мне-то ничего: на мне теплое пальто, мне никакой холод не страшен. Часто трактирщик Карнауке завешивает окна, чтобы в зал никто не подглядывал. Но у нас внутри есть свои люди. Они нам всегда немного отодвинут занавеску. А те девчата и парни, которые последний год ходят в школу, получают от нас вперед яблоки и конфеты: это чтоб они нам через год не забыли отодвинуть занавески. Только когда в трактир приходит учитель Керн с женой, мы не торчим под окнами. Он, правда, ничего нам не говорит, не наказывает нас, он просто целую неделю молчит. Скажет только самое необходимое и все ходит, ходит, а у самого глаза грустные-грустные. Вот это самое страшное. Большой Шурихт и тот такого не выдерживает. Хорошо, что учитель Керн не очень-то часто бывает на всяких балах.
Кто-то вдруг хватает меня за ворот и оттаскивает от окна. Это Фимпель-Тилимпель. Откуда он взялся? Ведь минуту назад он стоял еще на сцене и дудел в свой кларнет.
Истрачен весь задаток,
А за тобой остаток.
Скорей мне денег дай,
Машину забирай, —
говорит Фимпель.
– Не дам я тебе больше денег, Фимпель-Тилимпель! Ты моим врагам хотел продать велосипед. Всё, хватит теперь! Отдавай задаток, а то я дедушке скажу!
Фимпель-Тилимпель наклоняется ко мне. Меня так и обдает водочным перегаром.
Узнает дед про внучка —
И будет внуку взбучка.
Совсем не рад он был,
Что ты в союз вступил.
– Ну и рассказывай! Пусть злится, – отвечаю я.
Но на самом-то деле я уже так не думаю. Дедушкина оплеуха понемножку забылась. Мне неохота снова скандалить с ним. Но все-таки я говорю Фимпелю-Тилимпелю:
– Можешь рассказывать дедушке что хочешь, задаток он с тебя все равно потребует.
Фимпель, ни на минуту не задумавшись, отвечает:
Наш пионер давно
Подглядывал в окно.
Да, Вуншу утешенье
Такое поведенье, —
и пропадает в темноте. Я спрыгиваю с окна. Покоя моего как не бывало. Всякие мысли налетают на меня, будто мошки. Значит, Фимпель всегда был таким фальшивым? Раньше-то я смеялся над ним, а сейчас готов плакать. Кто же посадил в него фальшь? Точно корень пырея, она всего Фимпеля обвила. А ведь он правду говорит. Я тоже слышал, что пионеры дали зарок не подглядывать в окна. Но я же только один месяц как пионер. Разве я могу все знать? Нет, не могу. Но ведь чуточку-то я уже знаю. Значит, я нарушил пионерский зарок. Теперь они не будут мне давать книжки читать! Пригнувшись, я бегу прочь. Если меня видел какой-нибудь пионер, я тогда пропал!
Оказывается, вовсе и не пропал. Я пошел к Пуговке и сказал ему, что я согрешил против пионерской заповеди.
– Какой еще заповеди? – спросил он меня.
– «Не заглядывай в окна ближнего своего». Правда ведь? «Бойся господа бога и возлюби его…»
– Хватит, хватит! – Пуговка затыкает себе уши. – У нас нет никаких заповедей. У нас есть десять пионерских законов. На, возьми. – И Пуговка дает мне листок. На листке напечатаны все десять пионерских законов.
– А я-то думал, вы всё больше насчет веры в бога стараетесь, Пуговка. Я ведь только чуть-чуть посмотрел на маленького Препко. Он себе горб выправил.
– Он тоже плясал?
– Да. Он с Кэте Кубашк по кругу скакал.
– Больше ты ничего не знаешь?
– А что мне еще знать?
– Я-то думал, ты подучился и теперь стал умней.
– Нет, значит.
– А мы скоро… мы скоро свои пионерские танцы устроим. А разозлимся, так и свой маскарад.
– А это что такое?
– Ну в масках когда все.
– Настоящий?
– А ты думал!
– Я тогда в представлении буду выступать.
– Как же ты это будешь выступать?
– Я надену свой новый костюм и скажу подряд все стихотворения, какие знаю.
Глава двадцатая

Вот тебе и раз! Уже опять весна. Правда, на дворе еще снег, но он мокрый и липкий. Весна прикоснулась к нему и заворожила. Солнышко сияет, а снег плачет, потому что ему надо уходить. Он липнет к ногам и просится в дом. К деревянным подошвам туфель пристают большие комья. Но никто его не жалеет. Перед тем как войти в комнату, все его стряхивают. Ты, снег, лучше поскорей бы стаял и хорошенько напоил своей водичкой озимые!
В садике синичка разучивает свою песенку. Всю зиму песенка пролежала у синички глубоко в зобу под теплыми перышками. Теперь она просится на волю. «Ни-ни-ви! Ни-ни-ви!» – поет синичка. Черные дрозды веселятся вовсю. Они стали разборчивыми и не едят, что я кладу им в кормушку. В курятнике куры кудахчут. Бабушка проверяет, не видны ли у них уже красные гребешки: «Показался гребешок – приготовь свой кузовок!»
Но курам нет никакого дела до бабушки. За всю зиму они не снесли ни одного яйца. Когда наш солдат еще жил с нами, он кур зимой не выпускал. В курятнике он устроил большое окно и застеклил – это чтобы курам зимнее солнышко тоже светило. Он подвесил там свеклу на веревочке, а куры подпрыгивали, чтобы достать ее, и так сами согревали себя. Когда он кормил их, он зерна высыпал прямо на соломенную подстилку. Курам приходилось выбирать зернышки из соломы и скрести лапками. Это тоже их согревало. Жизнь у кур была тогда веселая, и они неслись и зимой.
Но дедушка новую русскую моду ни во что не ставит:
– Этого еще не хватало! Кур баловать! Пусть на дворе себе корм ищут. В балансе оно что получается? Яйца только тогда хороши, когда нам их курица даром дает. Да если мне с ними еще возиться, кормить их и все такое прочее, лучше я сам сяду и буду нестись.
Но дедушка нестись так и не стал, куры – тоже. Кузовок, в который бабушка собирает яйца, всю зиму пустовал в кладовой.
Заходит бургомистр Кальдауне и вежливо напоминает нам:
– Вы за первые два месяца отстали со сдачей яиц.
– А ты приходи к нам вместо петуха – может, куры и поумнеют, сами зимой на сдаточный пункт яйца понесут.
– Краске, прекрати болтовню!
– Да подите вы все…
На теплынь повылезли и жуки-древоеды. Они снова шуршат в стропилах. Дикие гуси пролетают над деревней. Я слышу их, и мне делается беспокойно, словно что-то точит меня. Мне тоже хочется летать высоко-высоко и вместе с дикими гусями носиться под самыми звездами. Вот в стихотворениях все про грусть-тоску говорится. Может быть, это она и точит меня сейчас?
Отчего это я проснулся? Вроде кто-то постучал к нам в дверь… Да, вот теперь хорошо слышно: кто-то стучит. Корова, что ли, у соседей отелилась? Дедушка встал уже? Нет, в доме все тихо. Вот опять стучат, только громче. Теперь слышно, как барабанят по окну горницы, где спят дедушка с бабушкой. Глухо доносится чей-то голос, и в доме сразу поднимается такая суматоха, шум, гам, что, кажется, вот-вот рухнет потолок. Слышно, как бабушка кричит:
– Господи Исусе, где же это моя нижняя юбка?
Значит, у нас пожар? Я вскакиваю с постели. Может, уже рига горит, а я тут лежу, прохлаждаюсь!
Нет, не пожар. Дядя Маттес приехал. Он хватает меня прямо как я есть, в рубашке, поднимает на руки и тискает:
– Сынишка Эрнста? И такой большой уже?
Бабушка сидит на полу посреди комнаты и плачет, закрыв лицо подолом. Дальше ее ноги не донесли.
– Довел господь дожить! Теперь и на погост пора! Пусть ангелы господни порадуются, что старуха Краске к ним пожаловала! Вот где я попляшу: вы тут подумаете – на небесах карнавал справляют.
Дядя Маттес поднимает бабушку с пола. Она противится, но он все равно относит ее в горницу и укладывает в постель.
– Да пусти ты меня! Пусти, родной! Мне тебя накормить надо… Небось изголодался там.
Но дядя Маттес вовсе не изголодался. Лицо у него красное и здоровое. Щеки лоснятся. Дядя Маттес и дедушку поднимает на руки, точно куклу.
– Ай-яй-яй! – бормочет старик. – А мы не такие легкие, как ты думаешь. Пятьдесят моргенов… пятьдесят моргенов под плугом. Поместье. Маленькое поместье…
Дяде Маттесу нет никакого дела до пятидесяти моргенов. Он сажает дедушку на диван и снова хватает меня:
– Где твой отец живет? Папка твой где? Далеко?
Никто не отвечает дяде Маттесу.
– А Эрнст здоровый вернулся?
Я смотрю на дедушку. Дедушка шмыгает носом и смотрит в пол. Бабушка отвечает за нас:
– Да-да, Эрнст… здоров… Он… да, наверно, здоров. Женился он.
– Опять женился? Ну и как? Хорошая ему жена досталась? Красивая?
– На улице-то тепло? Тает? – спрашивает дедушка.
– Где он живет? Эрнст где живет?
– Вот теплая погода установится, мы и овсы посеем.
– А малыш у них еще не родился?
– Нет. Меня срамить не стали, – говорю я.
Дядя Маттес не сидит, задумавшись на припечи, как наш солдат. Утром он только раз прошелся по двору, мельком заглянул в хлев и исчез.
– Свиней-то он хоть видел? Все четырнадцать штук? – спрашивает дедушка.
– Да успеет еще, успеет! Погоди ты со своей похвальбой!
– Молчала бы уж!
Дедушка сгребает мокрый снег во дворе. Кое-где из-под снега виднеется земля. Дедушка выпрямляется, чтобы перевести дух, и стоит так, опершись на черенок. Он долго глядит на свежую землю, потом трогает ее пальцами, будто гладит.
Дяде Маттесу приходится ждать до вечера, чтобы поговорить с нашим солдатом. Но все равно он не скучает. Он ходит по деревне и приветствует старых знакомых: «Здравствуйте!» Или: «Ну, как дела?» Немного посидит в гостях, а потом снова продолжает свой обход и все только посвистывает, как скворец. Он заходит к бургомистру Кальдауне, в трактир и на погост. На квартире у Пауле Вунша он спрашивает, когда вернется хозяин. Даже к обеду он не приходит домой.
– Да что же это такое! – восклицает дедушка за столом. – Неужто сын затем вернулся, чтобы по деревне шататься!
– Да оставь ты его, ради бога! Надо же выгуляться парню. Гляди, еще спугнешь его! Лучше уж сразу в гроб меня кладите…
Дядя Маттес и вечером не приходит. Он сидит в гостях у фрау Клари и разговаривает с нашим солдатом. У фрау Клари щеки порозовели. Она снует туда и сюда, накрывает стол и приносит деверю домашние туфли, которые сама сшила из обрезков.
– Ну, знаешь, если ты меня так и дальше обхаживать будешь, я, пожалуй, и на ночь останусь! – говорит дядя Маттес и громко смеется.
– Очень даже хорошо, если ты останешься. Одна кровать у нас свободна. Мальчик еще не перебрался к нам.
Дома бабушка приготавливает светелку нашего солдата для дяди Маттеса. Дедушка притих и сам приносит ему постель. Для дяди Маттеса ему небось ничего не жалко! Потом он садится возле печки и ждет, пока бес снова не потянет его за язык.
– Кашу-то заварил, а масло где? Приехал шалопай, бродит по деревне, будто пятьдесят моргенов даром даются.
Кто-то робко стучит в дверь.
– Заходите, заходите! – кричит дедушка и вскакивает с припечи.
На кухне стоит выряженная по-воскресному Кэте Кубашк. В руках у нее завернутый в бумагу горшок с цветком.
– Не рано я? – спрашивает она и снимает платок с головы.
– Какое там! Мы уже ждем.
Дедушка снимает с Кэте Кубашк пальто и, пританцовывая, проводит ее в комнату. Кэте не знает, что ей делать со своим цветком.
– Так оно уж… Сами знаете, как бывает, – говорит дедушка. – Не пришел еще сынок. Застрял небось где-нибудь.
Кэте Кубашк разворачивает цветок. Это кактус, который как раз цветет.
– Разорились небось на цвет-то? – подмазывается дедушка. – Ты поставь горшок там, где у нас Маттес сидит.
Бабушка прислушивается, нет ли кого во дворе.
– А ведь там пришел кто-то, старик!
Тило рвется с цепи.
– Маттес, наверно.
Дедушка вздыхает с облегчением. В сенях слышатся шаги. Дедушка распахивает дверь. Свет, падающий из кухни, освещает Марту, дочку каретника Фелко. В руках у нее что-то завернутое в шелковую бумагу.
– Темно-то как! А на дворе холодно, милые вы мои! Не опоздала я?
Дедушка с бабушкой обмениваются многозначительными взглядами.
– Заходи, заходи, толстушка! Чем поздней, тем веселей.
Бабушка берет руки Марты в свои и растирает их:
– Вот и хорошо, что зашла. Сейчас я кофейку сварю. Да и пирожок у нас испечен.
– А Маттес где? – Марта Фелко заглядывает в комнату и, увидев, что там сидит Кэте Кубашк, краснеет до ушей.
– Да, Маттес!.. Маттеса пока нет. Видно, засиделся. Мода такая у них пошла, у молодежи-то.
Кофе дымится. В комнате пахнет пирогами. Печка поет. Дедушка беседует с Кэте Кубашк:
– А у вас была сурепная блоха?
– Нет.
– А ведь какая вредная тварь – ничем ее не выведешь!
– Да?
– Ты, стало быть, не знаешь, какая она из себя?
– Нет.
Кэте неинтересно, какая из себя сурепная блоха. Ей больше хочется узнать, какой из себя дядя Маттес.
Марта и бабушка завели речь о последней танцульке.
– А ты, Марта, не выходила на улицу, когда музыканты отдыхали?
– Нет, не выходила.
– А когда девушки в первый раз кавалеров выбирали, ты кого выбрала?
– В первый-то раз я никогда никого не выбираю, а то еще болтать начнут.
Бабушка, довольная, кивает:
– Так, стало быть, ты себе милого еще не выбрала?
– Нет. – Марта все поглядывает на дверь.
Кэте Кубашк прерывает беседу про сурепных блох и, вся красная, выходит на кухню:
– Хороша, нечего сказать! Сидит тут, будто ангел какой! А мы все видели: во время перерыва ты со стекольщиком из Зандберге любезничала.
Марта вскакивает как ошпаренная:
– А сама-то! Стыдно и говорить, а то про тебя такое можно рассказать…
– А что ты можешь сказать?
– С Генрихом Кальдауне вы что в лесу делали? Грибы собирали?
– А тебя разве он не провожал?
– Я его и не просила вовсе.
– Пойдем поговорим с глазу на глаз.
Кэте Кубашк тащит Марту за собой в комнату. Дедушка, качая головой, остается на кухне.
– Ай-яй-яй! – восклицает он, наклоняется к бабушке и спрашивает: – Ты какую звала?
– А ты какую? – шепотом отвечает бабушка.
– Толстуха Фелко не по мне. Больно бахвалистая.
– А эта костлявая Кэте? Кому она нужна? – Бабушка перестает шептаться: – Кудри-то крутила-накрутила, и не поймешь даже.
– Тсс! – шипит дедушка и, громко топая, возвращается в комнату.
Девушки, очевидно, договорились. Обе они сидят в обнимку возле печи.
Дедушка включает радио. Из ящика раздается бойкая музыка. Дядька поет про то, как он по пуговицам подсчитывает, есть у него какой-то там шанец или нет. Дедушка топает в такт ногой:
– Ничего вещичка!
Некоторое время он слушает, как дядька в радиоящике подсчитывает, потом, поплевав в ладоши и пригладив свой ежик, на цыпочках подходит к Кэте и отвешивает ей поклон. Кэте пихает Марту в бок. Девушки хихикают. Дедушка снова кланяется. Кэте не хочется обижать своего будущего свекра. Она встает и поправляет на себе платье. Дедушка обнимает ее и чего-то ждет.
– Разве это настоящий вальс! – замечает он и начинает водить Кэте по комнате.
– Вы и водить-то не знаете как, дедушка Краске! – Кэте подмигивает Марте.
Дедушка старается как может. С Мартой Фелко он тоже проходится по комнате.
– Тут прыгать надо, дедушка Краске, это бугги-вугги. Дедушка может и попрыгать. Бабушка решает, что дедушка танцует польку.
Так проходит время. Марта Фелко развернула свой сверточек, вынула пару шерстяных носков и положила их рядом с цветочным горшком, который принесла Кэте Кубашк. Бабушка внимательно осматривает носки. Даже очки надела, чтобы проверить, ровные ли петли. Потом недовольно покачивает головой.
Кофе выпит. Пирог съеден. Дедушка сидит и дремлет на диване. А дяди Маттеса все нет и нет. Девушки зевают, встают и одновременно начинают прощаться, разбудив дедушку.
А он ворчит:
– Черт те что! Стараешься тут, из кожи вон лезешь – и на тебе, все, оказывается, псу под хвост!
Марта Фелко шепчется на кухне с бабушкой. Кэте Кубашк заговорщически обращается к дедушке:
– Вы Тинко к нам пришлите, когда сын ваш вернется.
Дедушка радостно кивает. Стало быть, охота женихаться у Кэте Кубашк еще не прошла! Хихикая, девушки покидают наш дом.
Поздно уже. Я устал, но мне хочется видеть дядю Маттеса. У него такое веселое лицо. Кажется, что весь дом улыбается, когда он тут. Ужин все еще стоит на столе. Дедушка таращит глаза на большие куски ветчины и бормочет:
– Ведь не с пустыми руками его встречаем!
Бабушка задремала на припечи. Ее больные ноги дергаются. Платок съехал набок. Наконец-то Тило подает голос. Пришел дядя Маттес. Он отвязывает тявкающую собачонку и приводит ее с собой в комнату.
– Господи Исусе! Да разве можно, Маттес! Она же кусается, как оса.
Дядя Маттес только смеется в ответ: наверно, выпил у нашего солдата.
– Да я же не чужой. Собака – она всегда знает, кто к ней хорошо относится. Пусть тут погреется хоть раз.
Тило сразу становится на задние лапы и обнюхивает блюдо с ветчиной. Дядя Маттес отрезает ему большой кусок. Дедушка только головой качает:
– Ну и мода пошла нынче!
Дядя Маттес берет меня на руки:
– Смотри ты, какой упрямый, ну и ну! А пальто все же взял. Ха-ха-ха! Ты погляди, разборчивый ведь!
Бабушка и дедушка в недоумении.
– Да разве пальто у тебя не от друга Кимпеля? – спрашивает дедушка и, раскрыв рот, таращит на меня глаза.
– Оно от моего друга, дедушка, а не от Кимпеля.
И откуда у меня взялась смелость так ответить дедушке? Наверно, дядя Маттес мне ее с собой привез… Замшелые дедушкины брови сдвинулись. Вот-вот разразится гроза.
– Да ты не гляди так сердито, старый! – говорит дядя Маттес. – Правильно паренек сделал. Не мерзнуть же ему, когда тут пальто предлагают. – Дядя Маттес подхватывает меня и тащит на кухню. – Я тебе костюмчик принес, тот самый, что ты на свадьбу не взял. Не хотел, значит, с ними женихаться. А хороший костюмчик! Снимай куртку. – Дядя Маттес начинает меня раздевать. – Снимай штаны… Сейчас мы примерим. Хочу посмотреть, какой ты в нем.
Бабушка и дедушка, волоча ноги, заходят в кухню.
Дядя Маттес предупреждает их:
– Тихо, старики! Вы тут сырость не разводите, а то мы еще простудимся! Сейчас будем примерять костюм.
– Пьян ты, что ли? – спрашивает дедушка.
– Быть может, и пьян, отец. Так, выпили по маленькой с Эрнстом. Помирились мы с ним, помирились на веки вечные. Он теперь другим стал. Да и я не тот. Не будем же мы ссориться из-за какой-то кротовьей норы! Я теперь никак не могу понять, как это мы с ним сцепились тогда из-за нее.
– Да простит тебе господь твои прегрешения, – вздыхает бабушка.
– Нора, стало быть, кротовья! – бормочет дедушка. – Как ты сказал? Нора?
Но у дяди Маттеса нет времени рассуждать о кротовьей норе.
– Да поглядите вы на молодца! Школьник, как есть школьник! Вылитый московский школьник!
– Это хмель его попутал! – стонет бабушка, ломая руки.
Дедушка, шатаясь, снова бредет в комнату.
– Собирай со стола, мать! – говорит дядя Маттес. – Я уже поел. Ну и накормила меня жена Эрнста! Точно гуся перед праздником.
В комнате дедушка трясущимися руками достает из комода какие-то бумаги.
Мне нравится мой новый костюм. В пиджачке есть настоящий карман, как у взрослых. Когда у меня будет записная книжка, я очень даже свободно могу положить ее туда. На спине складки. Наверно, я сейчас похож на спортсмена, каких в газетах показывают. Я этот костюм надену, когда пионеры опять праздник устроят. Вот подивятся-то!
– Тут они! – слышится надтреснутый голос дедушки из комнаты. – Вот! Вот! Гляди, над какой норой ты смеешься. Пятьдесят моргенов под плугом, полтора гектара леса, семь коров, четырнадцать свиней и…
– Да брось ты, отец! – Дядя Маттес морщит лоб. – Знаю я. Все знаю.
– Нора, говоришь? Мы тут из сил выбивались, а ты – нора кротовья! – вдруг начинает орать дедушка.
– Тссс, тсс, отец! Не кричи. Я и так слышу. Да, из сил выбивались, это ты верно сказал. Заживо тебя придавило, задохнулся ты в своей норе!
– Боже милостивый! Какими же ты меня сынами наградил! Несчастная я мать! Кого же это я выносила в чреве своем?
– Мать! Мама, оставьте эти страшные речи. О вас уже позаботились. Эрнст хочет вас взять к себе. Любят они вас, ухаживать за вами будут. Они мне сами так сказали.
– Не хочу я к Эрнсту и его полячке! Лучше уж в гроб меня сразу кладите, лучше сразу в гроб!
Я сижу на ящике для дров и реву. На кой мне новый костюм, когда наш дом горит!
Дедушка бросается плашмя на диван и брыкается, словно нехороший ребенок. Чашки летят со стола.
– Что с тобой, отец?
Дедушка и не слышит.
– Это они русского яда наглотались! Все сломать хотят. Колхоз хотят сделать. Нищими хотят нас оставить! Без надела, без всего. Окна, двери – все у них пыреем зарастет. Лень! Да, сама лень их обуяла… Грех-то какой… Ох, грех какой!
– Отец, отец, послушай!
– Мать с собой угнать задумали, псы окаянные! Мать у меня отнять! А я, старик, тут в грязи сиди!
Дедушка вскакивает. Он хватает блюдо со стола и сбрасывает всю ветчину Тило под нос:
– Жри, собачья душа! Жри, пока не лопнешь, адское отродье! – И дедушка пинает Тило ногой.
Тило, взвизгнув, хватает дедушку за штанину. Дедушка ничего не замечает. Он топает по комнате, таская Тило за собой:
– Жри мясо! Жри, навозная ты крыса! Настало великое время псов! Жри!
Бабушка, волоча ноги, выходит на кухню. Она обнимает меня за шею и, словно снег тает на глазах, становится маленьким серым комочком.
– Отец, отец! Опомнись! И о тебе мы позаботимся!
Дедушка выпрямляется:
– Это чтобы я клянчил у вас на пороге? Нищенствовал, попрошайничал, а ветчину будут собаки жрать, да?
– Не будем ссориться, отец. Мне же уезжать надо. Завтра я поеду дальше.
– Да, дальше! Все дальше, в русскую степь! Она-то вас усмирит! Ты зачем сюда приехал? Чего тебе здесь надо? Оставался бы там, у поляков, у русских… Что же ты, прибежал, как тать в ночи, и выкрал у меня последнего сына из сердца? Да вырастет степная трава из глотки твоей!.. Дальше, дальше! Чего стоишь тут? Зачем пришел? Убить мать и старика-отца?
– Не хочу я с тобой так говорить, отец. Может быть, позвать Эрнста, чтобы сразу все тут и уладить?
– Эрнста? Ха-ха-ха! Не смей! Собаку спущу на вас, со двора прогоню! Дом подпалю! Будете стоять и глядеть, как отец и мать ваши заживо горят, потому как не захотели они принять русского яда. Кончено! Ступай прочь! Все кончено!
Дядя Маттес пытается поднять бабушку с пола.
– Прочь! Не тронь ее, не тронь грязными лапищами своими! Топор возьму!
Дядя Маттес медленно выходит в сени. Там он снимает с крючка сверток, с которым за день до этого пришел. В кухню врывается влажный весенний воздух. Дверь захлопывается. Ушел от нас дядя Маттес.
А мне что делать? Бабушка сидит и не шелохнется. Дедушка, громко стуча башмачищами, топает по комнате. Я иду в горницу, забираю бабушкину постель и укрываю бабушку прямо тут, на полу. Бабушка высвобождает голову и шею. А мне кажется, что она боится, как бы ее не занесло снегом. Дедушка опять начинает кричать. Но слышны только отдельные слова, они пронизывают ночную тишину.
– Нора кротовья! Нора! – И немного погодя: – Яд, яд… Не буду я русский яд глотать!
Шаги его гулко раздаются по дому. Трап, трап, трап!
Вот и сиди теперь тут в новом костюме! Сон застилает мне глаза. Нельзя спать: как бы дедушка дом не поджег!
– Подпалю! Дом подпалю…
Трап, трап. Трап, трап…
Весенний ветер воет в трубе. С крыши капает: плинг-плонг, плинг-плонг!
– Кончено, все кончено! – слышится дедушкин голос.
Трап, трап, трап!..
Я вскакиваю. Уже горит? Нет, не горит. Это я задремал, значит.
Плинг-плонг, плинг-плонг! – ласково утешает меня весенняя капель.








