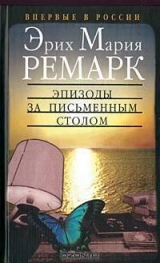
Текст книги "Эпизоды за письменным столом"
Автор книги: Эрих Мария Ремарк
Жанры:
Рассказ
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Мы тоже устраиваем гонки. Как и у вас, чтобы победить, надо уметь делать крутые повороты, но у нас хороший гонщик должен знать еще и астрономию, чтобы правильно переключать силы тяжести, как у вас переключают стартер. Вот мы и приехали, Марс уже приветствует нас, вон президент, рядом с ним депутация марсианских девушек, которые собираются достойно встретить первого земного автомобилиста. Хотите в честь такого праздника сами проехать оставшийся отрезок пути? Это совсем просто, нажмите сначала эту кнопку потом вон ту даже ребенок справится. Пожалуйста!
У доктора Дрешера все смешалось в голове. Механически он подвинулся к панели управления, а его спутник уже сворачивал пальто. Он увидел перед собой ряд выключателей и наугад нажал на один из них. В следующее мгновение самолет что-то толкнуло, он накренился, перевернулся и стал стремительно приближаться к поверхности Марса, все время переворачиваясь, устремляясь со страшной скоростью к какой-то башне, все быстрее и быстрее, сейчас произойдет авария, крушение…
Доктор Дрешер потер глаза. Разве только что не было грохота? Где он? Что случилось? Тут он обнаружил, что упал на пол вместе со стулом. Перед ним стоял наполовину пустой бокал грога. До него медленно начало доходить, что произошло. Он вовсе и не был на Марсе, он был дома, и ему приснился сон. Доктор Дрешер с трудом поднялся и по дороге в спальню, покачивая головой, пробормотал:
– Эх, алкоголь, алкоголь…
(1924)
Осенняя поездка мечтателя
Целый день конференции, но улицы, но становящиеся разноцветными липы и каштаны на асфальте и брусчатке, но – это уже просто невозможно вынести – это небо, это невероятно синее, ясное небо, натыкающееся и ломающееся о тротуары и крыши домов, – нам хочется видеть, как оно раскидывается куполом от горизонта до горизонта и как его кринолин покоится на краю света поверх лесов. Какое нам дело до концертов и театров, бери одеяла и шубы, выводи машину, жми девяносто километров, а когда разгонимся до ста двадцати, я подброшу в воздух кепку, в честь того, что мы почти вырвались из города.
Ты видишь этот золотистый свет, струящийся над коричневой пашней, видишь, как он тянется вдоль дороги? Это – осенний свет, смотри, как он обтекает блестящие спины лошадей, плуг, крестьянина, будто бы тот несет осень на своих плечах. Даже деревья припудрены этим золотым светом, крестьяне считают, что он придает яблокам аромат и свежесть, этот сон умирающего мира. А теперь тормози так, чтобы мотор заскрежетал, и – на волю, на волю – в поля, к новорожденной земле; прижми ладони к лицу, пусть порвутся и запачкаются чулки, потом я куплю тебе сотню новых – только вдыхай, вдыхай, вдыхай аромат этой только что вспаханной земли, закрой глаза и дыши, дыши; ах, как же я завидую слепому кроту, который проводит в ней всю свою жизнь!
Ты нашла личинку майского жука? Скорей подбрось ее в воздух, может быть, она превратится в бабочку и улетит; в таком воздухе возможны всякие чудеса; посмотри, я и сам посвежел и расцвел, этакий Пан в плотной габардиновой куртке от «Континенталь» и бриджах. Но нет, нас уже поджидают грачи, поблескивая стальным оперением, идем, похороним личинку, спасем ее, это же настоящая мистика. Разве тебя не пронизывает дрожь от ощущения, что ты творец? Сделай ямку и положи ее туда, ты спасла от остроклювой смерти жизнь, на следующий год майский жук трогательно прожужжит тебе в благодарность. Не смейся, майский жук – это очень красиво, ты когда-нибудь разглядывала его мохнатые лапки и коричневую визитку?
Посмотри на этот луг, произнеси, почувствуй само слово «луга», какая ширь и простор заключены в нем; оно все окутано серебристой дымкой свежести. А деревья – на некоторых еще целы все листья, совсем зеленые, только в нескольких местах видны четкие сернисто-желтые пятна, странно выделяющиеся на общем фоне, словно первые признаки туберкулеза.
Ты хочешь, чтобы я поехал по обочине? Тебе нравится слушать шуршание листьев? Ни за что на свете! Однажды я ехал так в Скалистых горах с Томом Ремли, отчаянным парнем, и вдруг из-под колес нам послышались вздохи и рыдания слабых голосов, вдруг нам показалось, что в жухлой листве блестят чьи-то глаза, а из деревьев на обочине к нам потянулись костлявые руки. Мы вынуждены были мчаться, как черти, спасаясь от глухого призрачного шума, а у кромки леса одна костлявая рука сорвала с моей головы кепку от «Бернс Бразерс», которая стоила три с половиной доллара. Если бы до этого мы не выпили много виски, все кончилось бы еще хуже. Ни за что на свете я не поеду больше по желтым листьям на обочине, и, кроме того, так можно и в кювет угодить.
Вот уже появился туман и улегся, как подушка, на землю (как говорят в Вестфалии, «туман-хитрец лукавит»), опасная штука эти болотные ведьмы, проклятые души и заколдованные места. Когда мы сегодня вечером отправимся домой, туман уже опустится на шоссе, и мы смело поедем по нему, автомобиль будет словно подводная лодка в белом море, лишь наши головы будут виднеться сквозь туман, фантастические и одинокие. Может статься, что по дороге мы встретим похищенную принцессу, которую сторожит дракон, и я возьму железный монтировочный рычаг, убью им дракона и женюсь на принцессе. А ты останешься здесь, пока я не разведусь и не закажу тебе в знак примирения автопокрышки из шкуры дракона.
С деревьев падает черная вата, или это газовые платки, один плотнее другого? Минутку, любимая, теперь дело принимает действительно серьезный оборот: нам предстоит сразиться с темнотой, этой скупой дворянкой, живущей в монастырском приюте для престарелых, которая хочет скрыть от нас мир и запереть его в ночи, словно в темном шкафу, чтобы мы не видели ничего, кроме ее черных нижних юбок. Фриц и Будда, фас, фас! Смотри, как наши фары, словно верные псы, вцепились сверкающими зубами в тряпки, что пытались скрыть от нас мир! Почему их так зовут? Не знаю. Живой Будда, представший передо мной в образе официанта Фрица в пивной «У голубого барана» в Юрге, нарек их так. Но они молодцы, они разрывают тьму в клочья, гляди, как пристыженно смотрит на нас шоссе в известковом неглиже и снова темнеет, когда мы проезжаем дальше, можно умереть со смеху. Вон удирает вприпрыжку девица-береза в шелковых чулках, а там причесывается ветла, и с тополями, кажется, тоже не все чисто, какой-то шепот и шелест, заткни уши, не слушай языческий бред.
Но вот уже и снова дома, косые, низкие, склон полон света, потом – четверть часа по этой проклятой булыжной мостовой, городские ворота, а теперь – тихонько, приглушив мотор, по улочкам. Здесь жизнь иная, здесь иначе дышится, шаги шире, глаза безмятежнее. Здесь говорят «добрый день» и «до свидания», но имеют в виду совсем другое; здесь слово цедят так же скупо, как золотые монеты, которые сначала вертят в руках и только потом с сожалением обменивают на товар. Но эти дома! Или нас заколдовали? Как они стоят, высокие шапки крыш надвинуты глубоко на глаза, посохи-герани и резные ставни – старые, прекрасные, удивительно умиротворяющие. Здесь чувствуешь себя таким защищенным. Завтра же утром купим домик, вот тот, где мелочная лавка, и останемся здесь навсегда; я стану официантом или хозяином трактира «У льва».
Только не говори, что здесь нет центрального отопления и ванной комнаты, я и сам это знаю, но ведь дело в настроении: все равно никто никогда не поступает так, как говорит. Но послушай, как плещется родник, а эта рыночная площадь, а эта луна! Давай окунем руки в воду, давай немного побудем сентиментальными. Я буду изображать странствующего бурша, который собирается в дальний путь, к мастеру в Данию, чтобы через год вернутся.
Если испить лунной ночью этой воды, станешь прекраснее всех женщин на свете, только не выпей весь родник, ведь должно быть полнолуние, а на ограде должна сидеть белая иволга. А теперь давай пройдемся через рыночную площадь, словно хозяин имения и его жена. Как стучат твои каблучки, как блестит мой парик, жизнь упорядочена и устроена, дети спят, ты немного склонна к полноте, а утром в девять – чрезвычайно важное собрание городских старейшин.
Но вот улочки исчезают за нашими спинами, мы возвращаемся из мечты, на горизонте матово мерцают огни города, из которого мы уехали, мы мчимся к нему молча, наш бог – счетчик пробега и часы, потому что, может быть, мы еще успеем послушать концерт или посмотреть последний акт в театре – мы, беспокойные мечтатели.
(1924)
Последний омнибус
Он приходит издалека. Его еще окружает запах лесов и больших озер, а сбоку, на подножке, застряла оторвавшаяся ветка, видимо, где-то на крутом повороте он задел кустарник или заросли ивняка. Ветка болтает своими серебристо-серыми сережками, словно беспутный вагант, радостный и беззаботный, позади ревущего мотора. Ее обдувает горячее дыхание цилиндров, овевает запах работы и бензина, но она, немного кривоватая, немного дерзкая, уже с обеда пристроилась на этом месте и будет сопровождать омнибус в любой поездке – от сутолоки домов большого города до далеких загородных уголков, где так приятно провести выходные, – словно веселый ребенок бесконечно работающих родителей.
Омнибус ездил целый день; как большой корабль, бороздил он асфальтовые просторы, нагруженный шумным, болтливым грузом до самого верха. Вместе с сотнями своих желтых собратьев неустанно несет он службу; на перекрестках они иногда встречаются и даже разговаривают, а к полудню, когда уже становится тепло, они начинают постанывать и стучать чуть громче, потому что сухой воздух не особенно нравится моторам, но потом они все-таки разгоняются и катятся по длинной, широкой дороге из города, один за другим, с одинаковыми интервалами, навстречу соснам и букам, озерам и лесам.
В сумерках они превращаются в маленькие, немного сонные жужжащие островки. Голубовато-золотая пыль вечера припудривает их, окрашивая в кобальтовую синь и нежно-розовый цвет фламинго, косые лучи солнца превращают фары с падающим из них лучами света в сверкающие серебряные фонтаны, и добрые старые трудяги-омнибусы, пыхтя, пробираются по дорогам, словно сказочные тролли, Рюбецали и верные Экарты [10]10
Рюбецаль, Экарт – герои немецких сказок.
[Закрыть].
Когда наступает ночь, братьев-омнибусов становится меньше. Лишь изредка они встречают друг друга. Работа тоже меняется. Если днем омнибус едет до отказа нагруженный за город и возвращается опустошенный, стуча и радостно звеня, то теперь все наоборот: почти без груза он выезжает из города и, перегруженный, возвращается в него.
Остановки на улице – словно таинственные магниты. Из деревень и садов, с берегов и террас к ним стекаются люди и сбиваются в толпы, которые, жужжа и смеясь, бросаются на желтый омнибус, как пчелы на цветок.
Становится все темнее. Призрачный красный отсвет беспокойного далекого города все явственней выступает на небе. Крестьянские дома у дороги подмигивают освещенными окнами из-под низко надвинутых чепчиков-крыш, словно сошедшие со страниц стихотворных сборников Маттиаса Клаудиуса [11]11
Клаудиус, Маттиас (1740–1815), немецкий поэт.
[Закрыть]. А лес начинает шуметь, будто хочет рассказать новеллу Эйхендорфа [12]12
Эйхендорф, Йозеф фон (1788–1857) – немецкий писатель, автор многочисленных эпических поэм и новелл.
[Закрыть].
Теперь на остановках омнибус больше не берут штурмом. Люди больше не висят гроздьями на дверях и поручнях. Уже появляются свободные места. Уже не встретишь большие семейные компании, которые бурно переговариваются между собой; не видно отцов семейств, вспоминающих вдруг, что официант обсчитал их на двадцать пфеннигов, и погружающихся в бесплодные, но оттого еще более горькие мысли о мщении, или матерей, решивших именно тут заняться воспитанием своих чад.
Зато появились молодые люди. У некоторых девушек в руках большие букеты, их глаза блестят, словно в них поселилась весна. Они влюблены и молоды, а значит – мир забыт, и счастье делает даже самые простые и заурядные лица прекрасными, полными очарования юности, каким обладают все двадцатилетние. Потом… Но кто думает, что будет потом…
Наконец наступает час, когда водитель вытаскивает часы и после короткой остановки удовлетворенно забирается на свое место: омнибус отравляется в последний рейс из города.
Прохладный ночной воздух усмиряет мотор. Он урчит нежнее, водители, знающие каждый его звук, называют это песней.
Большой черный силуэт движется по улицам. Широко поставленные глаза оглядывают асфальт, и конусы света всматриваются вдаль. Поэт, встреться он по дороге, решил бы, что это добродушный дракон прошуршал когтистыми лапами по шоссе, разыскивая своих разбежавшихся детенышей.
Омнибус подбирает с обочины последних пассажиров, тех, кто не мог раньше расстаться с нежным воздухом и состоянием покоя, кто решил использовать каждую минуту, чтобы глотнуть здесь, за городом, еще немного нежной, дрожащей атмосферы расслабленности мира и унести ее с собой, дабы украсить безотрадные рабочие часы завтрашнего утра. Они и сейчас еще сидят у открытых окон и молча смотрят на дорогу.
Омнибус тихо скользит по ночному ландшафту. От горизонта до горизонта раскинулось звездное небо, откуда-то доносится одинокий собачий лай, а иногда фары на мгновение выхватывают из темноты парочки, возвращающиеся домой.
Словно мерцающие светлячки, со свистом несутся навстречу автомобили, некоторые обгоняют омнибус; иногда за рулем машины можно увидеть стройную женщину, ее руки, бледные и безучастные, лежат на руле, словно принадлежат совсем не ей.
Потом вдоль шоссе начинают маршировать ряды огней, настоящий парад фонарей, омнибус выключает дальний свет и зажигает кроткие лучи ближнего света, его клаксон рычит; он уже не кажется заколдованным драконом, теперь он похож на слугу, который осторожно крадется на резиновых подошвах своих толстых шин и очень послушен на людях.
Когда он появляется, улица становится оживленнее. Стайка кавалеров приветствует его патетическим пением и поднятыми тростями. Они входят с серьезными лицами, которые часто свидетельствуют о состоянии глубокого, еще не прошедшего опьянения. Они долго и важно переговариваются с кондуктором; для них добраться домой – великое дело; красочный туман в их головах заставляет считать героическими или остроумными самые простые слова, а когда один из них называет кондуктора «официант», омнибус почти взрывается от хохота.
Другой пассажир рассеянно смотрит на свои вытянутые ноги и время от времени бормочет себе под нос волшебное заклинание:
– Этот Карл… Этот Карл… – и всякий раз ударяет себя по колену, смеется, подвывая, потом снова погружается в задумчивость и опять загадочно просыпается.
Трезвый и усталый, стоит между ними кондуктор и с серьезным видом компостирует билеты.
В центре города безумствуют неоновые рекламы. Раскаленные буквы карабкаются по решеткам вверх, как обезьяны в клетке, сменяют друг друга и разбрасывают над пустынными улицами какое-нибудь имя или название. Длинный ряд такси терпеливо стоит под кружащимся вихрем красных светящихся букв на рекламе зонтиков. Высоко в ночном небе, над крышами, неистовствует в длинном прямоугольнике гонка электрических фраз, восхваляющих новый фильм, который обязательно надо посмотреть. На стене дома появляется бокал с шампанским, потом бутылка, затем пузырьки, сверкая, поднимаются из бокала, их приветствует взрыв восторга кавалеров.
Заезженный до белизны асфальт отражает городские огни, словно мутный, темный поток… Проехали.
Девушки, в дешевых платьях, с ярко накрашенными губами, сбились в кучку в углу омнибуса. У них увядшие лица, и даже у самых молоденьких уже появилось выражение той беспощадной жесткости, которую порождает жизнь без иллюзий. Они презирают людей и не доверяют им, потому что знают только их низменные, заслуживающие презрения стороны.
Бледное существо напевает себе под нос какой-то шлягер, но скоро замолкает и начинает шуршать бумагой, в которую завернуты бутерброды. Она ест и отрешенно разглядывает свои руки. Неужели юные лица могут быть такими серыми и отчужденными!
Тучный мужчина откинулся на сиденье, широко расставив ноги. Он сложил руки на животе и храпит, голова упала на плечо, рот полуоткрыт, его лицо обрело невообразимо детское выражение, круглое, розовое, смешное лицо, такое восхитительное в своей наивности, – подобные физиономии бывают только у лукавых насмешников.
Напряженные и рассерженные, входят и садятся друг напротив друга двое – поссорившиеся супруги, это сразу видно, потому что на их лицах не волнение бурной, быстро забывающейся размолвки, а стойкое раздражение, сгладившееся, вероятно, за долгие годы, но сейчас прорвавшееся наружу из-за новой ссоры. Затем волна духов заполняет салон. Это появились засидевшиеся в гостях люди.
По дороге в город омнибус останавливается везде – но никогда не бывает у него более странного, разнообразного груза, чем во время последнего рейса.
Последний пассажир выходит. Кондуктор смачно зевает и пролистывает блокнот с подсчетами. Омнибус приближается к своему пристанищу. Появляется огромный плоский гараж. Он еще освещен, оттуда доносятся голоса.
Когда въезжает последний омнибус, все желтые братья уже стоят рядком и дремлют. Он медленно останавливается, тормоза вздыхают.
Но вот уже на нем искрятся струи чистой воды, гудят пылесосы, на него нападают тряпки и обрезки замши, его моют, чистят, протирают и устанавливают над ямой. Пока он обсыхает, снизу, из ямы, заботливые руки ласкают его маслом и керосином: уставшие поршни, цилиндры, подшипники, шарниры, – все они расслабляются и успокаиваются от этой дружеской заботы, они впитывают ее и готовятся к заслуженному отдыху.
Последний омнибус ставят рядом с остальными. Уже гаснут огни в большом гараже, и тут водитель обнаруживает на подножке что-то серебристое – ветку ивы с сережками. Он осторожна вытаскивает ее и берет с собой. Дома его ждет молодая жена.
(1925)
Борзая
– Я назвала ее Рат-на-даш, – сказала Баб, капризная молодая дама, помешанная на красоте и утонченности, – потому что в ней всегда есть что-то неуловимо таинственное и чуждое. Она не такая, как все остальные простодушно-привязчивые собаки, всячески демонстрирующие верность, которая так легко объясняется ожиданием еды и дрессировкой, она не слуга человека; она – существо, которое трудно разгадать, по-своему одинокое, как и все благородное… она может часами неподвижно лежать в загадочном молчании, словно индийский факир.
И поэтому я назвала ее Рат-на-даш; мне нравится смотреть, как она лежит там в углу на своей подушке, молча и неподвижно, живописно раскинувшись, в каждом ее изгибе – порода и благородство. Любое ее движение ставит в тупик, и ты в изумлении следишь, за ней, до глубины души пораженный ее грацией; она всегда произведение искусства, что бы она ни делала; ее элегантность захватывает и восхищает: отдыхает ли она, опустив голову, или лениво поднимается, идет ли размеренными шагами или несется длинными прыжками по жнивью, – она всегда произведение искусства, совершенное в движении, будто живой ритм красоты.
Она всегда словно окружена нежной магией, ей можно поклоняться и при этом не казаться себе смешной. У нее есть что-то общее с жирафом, этим самым элегантным животным; она, как и жираф, кажется почти ненастоящей из-за декадентской длинноногости стройного тела. Когда видишь, как она бежит, невольно вспоминаешь необычные прыжки австралийских кенгуру; ее суставы пружинят, словно тело не подчиняется законам притяжения, и ты прямо-таки ждешь, что внезапно в мощном прыжке она исчезнет в голубизне небес.
Вы только посмотрите на нее, на эту узкую, длинную морду русской борзой с маленькими, плотно прилегающими ушами, в которых просвечивают жилки. В золотисто-коричневых глазах такая немая тоска, что кажется, если вглядеться в нее, вот-вот догадаешься, в чем состоит ее загадка.
Я люблю гулять с Рат-на-даш по осеннему лесу. Она идет по опавшей листве между стволами деревьев и кажется фантастическим существом из эпохи барокко, которому удалось вырваться из мистических чар. Надо видеть ее, когда во всем этом красочном умирании природы она одна являет собой пружинистую, концентрированную жизнь, а изогнутая линия спины – словно клинок рапиры.
От нее не требуют ни одной из обычных собачьих добродетелей; она не должна сторожить, ее не учат бросаться на людей, ей не надо быть ни умной, ни забавной, ни ловкой; она – просто роскошное создание; ей не надо ничего, только быть прекрасной, потому что любая красота бесцельна и самодостаточна…
– Но поверите ли вы после этого гимна, Баб, что в бескрайних степях России она хватала в прыжке лис и на бегу перегрызала глотки волкам? Может быть, тайна ее поразительной отчужденности, которой вы посвятили свой восторженный экспромт, заключается именно в том, что теперь она, чьи родители, может быть, еще перегрызали глотку волку, стала всего лишь экстравагантным фоном вашей мальчиковой стройности. А когда она грустно молчит, не исключено, что в ее крови всплывает память предков, принадлежавших, возможно, к охотничьей своре великого князя Николая Николаевича в имении Першино.
Каждую осень в Першино приезжал великий князь, чтобы устроить охоту на волков. Представьте себе такую картину: на рассвете из имения выезжают егеря. Каждый ведет на поводке трех борзых. Они движутся по направлению к лесу и полностью окружают его. Молча застывают они на своих местах в ожидании дичи, которую к ним должны пригнать.
Вот подъезжают верхом подъегеря в красных полукафтанах и подводят парфорсных собак. Эти борзые, наученные загонять дичь, сами ее не хватают, а только поднимают и гонят к ловчим сворам.
С громким лаем несется стая стройных белых тел сквозь чащу. Скоро опушка леса оживляется. Выскакивают испуганные зайцы. Им дают убежать. И лисе, осторожно принюхивающейся и озирающейся, даруют жизнь. Но вдруг лица егерей напрягаются; лай парфорсной своры, гонящей зверя, становится пронзительным и злым. И вот уже на опушке появляется серая тень, скользящая к укрытию одного из егерей. Он тут же спускает своих борзых, начинается гонка не на жизнь, а на смерть. Три борзые кидаются вслед за убегающим волком. И догоняют его. Одна из них так яростно бросается на добычу, что они вместе летят кувырком. В следующее мгновение волк, которого собака держит за горло, уже лежит на земле. К нему бегут слуги, связывают и относят к саням, ожидающим неподалеку.
Но бывает, что слуги не успевают, и сильный волкодав в яростном поединке успевает убить волка. Вот так загоняют зверя за зверем, пока не отловят всю стаю, а затем рожок созывает собак.
Сейчас в Советской России уже не разводят борзых, и не бывает такой охоты. Прошли времена, когда один помещик, какой-нибудь смоленский Самсонов, держал свору в тысячу борзых…
Вы можете себе это представить, Баб? Тысяча Рат-на-дашей, тысяча этих породистых изящных созданий с благородными мордами и светящимися шелковистыми локонами несется звонким ураганом к горизонту по бескрайним степным просторам? Что за зрелище!
А теперь прощайте. Благодарю за чай. Может быть, от меня вы узнали что-то новое, что пригодится вам для иронических раздумий о Рат-на-даш, вашей борзой, которым вы посвящаете часы досуга!
(1925)








