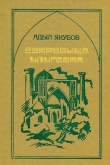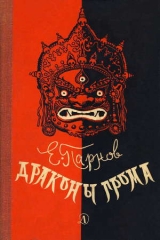
Текст книги "Драконы грома"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Пока мы не располагаем ни единой находкой из этого списка. Вполне возможно, что не будем располагать никогда. Но сами поиски Атлантиды, если только они предприняты с далекой от спекуляций научной целью, способны во многом обогатить сокровищницу человеческой культуры. И уже многократно обогатили ее. Пример тому – незабываемые фрески Тиры.
И наконец последнее, без чего просто немыслим разговор об Атлантиде: предполагаемая дата гибели. Для серьезных ученых она всегда была камнем преткновения. По Платону ее легко вычислить: «Что же касается твоих сограждан, живших за девять тысяч лет…», – сказал саисский жрец Солону, и это дает нам 9000. Прибавив к этому 600 (округленная дата посещения Солоном Египта), мы получим 9600 лет до нашей эры. В традициях атлантологии стало обращаться к древним календарным системам. Еще Донелли обратил внимание на точку «пересечения» древнеегипетского и ассирийского календарей. Одна из дат начала солнечного цикла в Египте отвечает 139 году новой эры, один из ассирийских лунных циклов начинался в 712 году до новой эры. Зная длительность циклов (1460 лет для солнечного и 1805 для лунного), легко произвести расчет в полных Циклах, который был известен еще в Вавилоне.
По египетскому календарю: (1460 – 138) + (7 × 1460) = 11 542.
По ассирийскому календарю: 712 + (6 × 1805) = 11 542.
Другая пара цифр получается из сравнения календарной системы народа майя и древней Индии.
Точка отсчета по индуистскому календарю приходится на 3102 год до новой эры, а счет времени ведется по солнечно-лунному циклу, состоящему из 2850 лет (кстати, это все еще действующий календарь). Вручая мне визитную карточку, президент Непальской Королевской академии пометил на ней дату древнеиндуистской эры.
У майя точка отсчета попадает на 3373 год до новой эры, а время исчисляется периодами до 2760 лет.
Сравнивая обе системы, получаем:
3102 + (3 × 2850) = 11 652
3373 + (3 × 2760) = 11 653.
Какое событие запечатлели древние народы начальной точкой своих летосчислений? Если верить, что близость полученных цифр не случайна, и если опять же верить Платону, то позволительно предположить, что гибель Антлантиды была лишь заключительным аккордом в долгой цепи катаклизмов, прокатившихся по нашей планете. Но верить надлежит только твердо установленной истине. Аристотель тут целиком прав: «Платон мне друг, но…»

Весна мира


«Главное – надо делать дело»… Эти простые слова принадлежат выдающемуся вьетнамскому писателю Нгуену Туану, который дарил меня своей дружбой и был моим проводником в увлекательном и малоизвестном мире вьетнамской старины.
Грациозно нагнувшись над тихой водой, девушка в конусоподобной шляпе без устали гребла носовым веслом, проталкивая тяжелую лодку мимо заросших розовыми лотосами сплавин, сквозь шуршащий заслон тростника. На других лодках тоже гребли девушки. С незапамятных времен весло стало женским орудием в стране вьетов.
В лодке, которая везла нас в знаменитую Ароматную Пагоду, расположенную в шестидесяти километрах от Ханоя, сидели двенадцать пассажиров: три жизнерадостные старухи, чьи зубы были покрыты черным лаком, две молодые пары, семья из Хайфона и прелестная молодая девушка из столицы.
После долгого пути по каналу Иен лодка пристала у небольшого базарчика. Под навесом из пальмовых листьев торговали связками курительных палочек, ладанками, амулетами, священными заклинаниями. Старухи повесили на грудь пластинки с Буддой на лотосе, украшенные пятью разноцветными шелковинками, олицетворяющими стихии, и весело зашагали в гору. Полуденный зной был в самом разгаре. Раскаленный воздух звенел от стрекота насекомых. Слепил глаза неистовый свет.
Перед глазами ярко зеленела почти отвесная, заросшая цепкой ползучей растительностью стена. Мечевидные зазубренные листья и длинные стебли с загнутыми шипами делали ее неприступной. Узкая каменистая тропка, круто уходящая вверх, совершенно терялась в первозданных дебрях.
Какой невероятный, всепоглощающий порыв подвигнул человека поселиться в диких джунглях, где все враждебно, чуждо людской природе, где, кроме немыслимой удаленности от суетных соблазнов мира, нельзя ничего обрести. Год за годом и век за веком вырубали отшельники каменные ступени и белым щебнем, чтобы не заплутать в ночи, мостили тропы. В известковых кавернах воздвигали они алтари, метили священным знаком источники, из многотонных плит, странно звучащих под ударами камня, высекали образы богов и чудовищ.
Сверкая желто-зеленой глазурью, стояли многоярусные башни перед зеленым пологом дикого леса. В них пепел и угли погребальных костров. И прежде чем почтить богов, люди молитвенно складывали ладони перед этой горсточкой праха.
Вместе с другими паломниками я зажег свечу перед позолоченными статуями, наряженными в праздничные одежды, и отправился в дальнейший путь, стараясь не отстать от соседей по лодке.
– Скажите, сестрица, – обратился я к девушке. – О чем вы просили богов у алтаря?
– Я благодарила за весть об отце. Не сердитесь на меня, старший брат, но этого требовал обычай. И не думайте, пожалуйста, что я верующая. – Она лукаво заглянула мне в глаза: – А зачем вы сами поставили свечку, если не верите в милость святых отшельников?
– Мне захотелось, чтобы моя свеча курилась рядом с вашей.
Обогнув возвышенность, мы вышли на открытое место. Жаркий иссушающий ветер с лаосских гор задувал теперь прямо в лицо. В глаза летела колючая известковая пыль. С лесистого склона скатывались черные лоснящиеся черви, похожие на кольца марсельской колбасы.
– Давайте поскорее пройдем это место, – трудно дыша, сказала девушка. – За поворотом должна быть тень, и мы сможем немного передохнуть.
Но еще долго пришлось взбираться по каменистой тропе под палящими лучами солнца. Влажность была выше ста, а температура приближалась к сорока градусам.
Будь я сейчас один, то ничком свалился бы под первым же деревом и остался там до тех пор, пока не выровнялось бы дыхание. Перед глазами колыхалась жаркая красноватая мгла. Казалось, что невозможно сделать ни шага дальше. Почти теряя сознание, я все-таки продолжал взбираться все выше и сам поражался тому, что еще могу идти. Щадя чужеземца, девушка пошла медленнее, терпеливо дожидаясь, когда я отставал. Она уже ни о чем не спрашивала, а только подбадривала веселыми возгласами.
– Теперь уже близко! – неустанно повторяла она.
Но до конца все еще оставалось далеко, и негде было даже присесть на узкой тропе. Среди устилавшей редкие ниши пыльной сухой листвы шуршали лесные клопы и многоножки.
Я пришел в себя от ласкового прикосновения.
– Здесь мы отдохнем, старший братец, – тихо сказала девушка, увлекая в густую тень пальмовой кровли.
Там, на бамбуковых, устланных циновками подмостках, блаженно подремывали усталые путники. Добродушная толстуха с яркими от бетеля губами распаренным черпаком из кокоса щедро разливала чай. В кипящем чане вместе со свежими чайными листьями мелькали ветки. С первыми глотками горьковатой обжигающей жидкости вернулась способность воспринимать мир во всей его полноте. Вкусный запах дыма щекотал ноздри. Я радовался беззаботному смеху голых ребятишек, кувыркавшихся в пыли, и полной грудью вдыхал живительный, почти осязаемый сумрак. В дальнем углу сидел худой старик. У его ног стоял горшок с вязкой зеленоватой жидкостью, в которую он обмакивал тонкие бамбуковые стрелы. Перед домашним алтариком стояло блюдо с белыми и лиловыми лепестками. В дыму курений смутно золотились подношения: бананы, плошка риса, медная кружка с водой.
Приободренные отдыхом, мы зашагали по горячему щебню, вспугивая стрекоз. О близости пещер свидетельствовали все чаще встречавшиеся каменные жертвенники, где шелестели под ветром засохшие цветы. Окруженные колючей изгородью ананаса, одиноко высились деревянные божницы, насквозь источенные термитами. На расчищенном от ползучих растений известковом склоне были высечены магические символы, позеленевшие от времени и туманов.
Наконец тропа выровнялась и впереди показался красный мостик, за которым виднелись ворота с иероглифами и вечный спутник тюа, вьетнамской пагоды, – дерево дай.
Когда мы вошли под своды пещеры, мне показалось, что я заглянул в ад. Глубоко внизу клубились густые пары, пронизанные жгучими точками тлеющих свечек. Густой запах можжевельника и сандала царапал горло, ел глаза. Высоко под каменной аркой гулко перекатывалось эхо. Потревоженные летучие мыши метались во мгле. От вечного дождя, которым проливались охлаждавшиеся под каменным сводом испарения, земля под ногами разбухла и сделалась скользкой. Переход от ослепительного, жаркого полдня к моросящему мраку был настолько резок, что начал бить простудный озноб. Пропитанные курениями душные волны тумана не позволяли разглядеть лики богов. Изваянные из прозрачного кальцита, боги словно изнутри наливались красноватым свечением, представая в новом обличье, тревожа и усыпляя нескончаемой изменчивостью. Все ниже становились гладкие своды, нависавшие причудливыми складками. Порой кто-нибудь пробовал постучать по ним камнем, и тогда вся пещера наполнялась тревожным и гневным рокотом. Хотелось поскорее вырваться из этого удушливого, то в жар, то в холод бросающего тумана. Блуждая под тихим дождем от алтаря к алтарю, я утратил ощущение времени и едва не запутался в лабиринте.
В гористых джунглях Вьетнама растет дерево вухыонг – «далекий аромат». Старики говорят, что оно зацветает раз в пятьдесят лет и таинственное благоухание его разливается в воздухе на сотни километров. Ночь, когда раскрываются влажные восковые цветы вухыонга, – сокровенный праздник леса. Отовсюду слетаются тучи крылатых лакомок: бабочки, похожие на летучих мышей, и стрекозы, искусно мимикрирующие под бабочек, пчелы-мясоеды и крохотные птички-нектарницы. Словно у гигантской лампы мечется вся эта живность по замкнутым орбитам вокруг дерева, привлекая со всей округи змей, ящериц и голосистых лягушек. Даже слоны и тигры приходят на этот ночной пир, озаряемые колдовским мерцанием светляков.
Весной 1973 года, в ту незабываемую первую весну мира, сладкий аромат цветения, явственно ощущался везде: в горах и на побережье, на дорогах, задымленных красной пылью, даже в международном аэропорту. Не знаю, зацвел ли это легендарный вухыонг или просто миллионы самых разных цветов смешали дыхание воедино, но душная горьковатая сладость надолго утвердила свое, как писалось раньше, благорастворение.
– Я рад, что дожил до этой весны, – сказал старый крестьянин Чыонг Шам Фунг, вместе с которым мы дожидались парома у реки Лам. – Впервые за сто с лишним лет на нашей земле нет интервентов. Каждая травинка радуется. Как сверкает роса на лотосовых листьях! Смотрите, какой будет рис!
Этот старик, посасывающий из бамбукового кальяна крепкий, удушливый дым лаосского табака, нашел удивительно точное слово. Рисовое поле, лотосы и сплошная японская ряска в пруду, треугольные листья батата и горох «маш» на грядках действительно ласкали взгляд первозданной стихийной радостью. Сквозь нежную зелень всходов муарово просвечивала жирная вода. На севере страны рис только-только выметал колос, на юге – уже собирали обильный урожай, отвеивали зерно большими, затейливо сплетенными щитами. Но весна освобождения еще не докатилась в тот год до вьетнамского юга, и полного мира не было еще на вьетнамской земле. Лишь перемирие, лишь временное затишье. Опаленная, изрытая бомбами почва с неистовой силой и жадностью творила свое исконное дело. Целительное могущество буйной тропической природы! Считанные дни потребовались на то, чтобы оживить безжизненный, прямо-таки марсианский ландшафт. Девушки в плетеных конических шляпах разровняли тяпками желтые остеклованные валы кратеров, усеявших красное лоно древней земли, засыпали воронки на рисовых плантациях. Потом по канавкам зажурчала глинистая вода, и острый плуг перепахал плодородную, истосковавшуюся по рассаде жижу. Сами собой затянулись раны в бамбуковых порослях, отродился банан, в круглых, заполненных водой воронках развелись пресноводные креветки и двоякодышащие лабиринтовые рыбки. Мальчишки забросили в воду хитрые бамбуковые снасти и в ожидании улова отдыхали на теплых спинах своих буйволов. В деревнях проходили собрания сельскохозяйственных кооперативов. Крестьяне решали, как перераспределить землю под технические и продовольственные культуры, что и где в первую очередь построить. Решено было прежде всего привести в порядок рисовые плантации, а плодородные красные земли пустить под перец, который полностью окупит себя уже на другой год. Потом можно будет восстановить животноводство, вновь засадить сожженные напалмом каепутовые леса, наладить водоснабжение горных склонов, где растет дающая каучук гевея.
– Это не изолированные задачи, – пояснил заведующий отделом пропаганды и воспитания при парткоме Нгуен Минь. – Нельзя восстановить сельское хозяйство и морское рыболовство без общей нормализации жизни. Люди выходят из землянок на дневной свет. Нужно строить для них дома, пусть временные сначала, школы, налаживать снабжение, обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Но самое главное на сегодняшний день – это транспорт. Поэтому мы принялись сначала за восстановление дорог и переправ. Мы уже готовимся встретить свои семьи из эвакуации и понемногу собираем в путь беженцев с Юга. В лихую годину отдали мы нашим братьям свои дома. Теперь настало время дать им все необходимое для жизни на родных землях. И прежде всего – те же дома. Они поедут в опаленную огнем пустыню, поэтому мы уже загодя заготавливаем для них бамбук и рисовую солому, плетем циновки. А потом начнем строить времянки для своих семей. О кирпичных домах под черепичной крышей лучше мечтать в бамбуковых стенах, крытых рисовой соломой, чем в сырых траншеях и скальных пещерах.
Товарищу Миню скоро стукнет шестьдесят. Он много лет был партизаном. Потерял всех своих близких. Дома, в которых ему довелось жить, трижды превращались в пепел. Он откапывал засыпанных взрывом друзей, и его самого, ослепленного и оглохшего, тоже вытаскивали из развалин. Он привык все начинать сначала.
– Я здесь уже двадцать лет. – Он улыбнулся и махнул рукой в сторону потонувших в ночи лесистых склонов. Тихий голос его был едва слышен сквозь жестяную шумовую завесу цикад, заглушавших даже стук движка, исправно дающего свет до десяти вечера. – И давно полюбил эту не очень-то щедрую землю. Тут все дается с трудом. Ведь кругом горы, пески. Под рис используется лишь семь процентов территории. Да что там рис. Даже батат, маниоку и овощи здесь куда труднее вырастить, чем в других провинциях. Недаром раньше это был самый отсталый район. Горцы ванкиеу еще в пятьдесят пятом году ходили в одних набедренных повязках из тапы и молились духам леса. Но уже на третий год народной власти мы сумели собрать здесь второй урожай риса! Это на наших-то землях! Казалось, все было против нас: сухой ветер с Лаоса испепелял рассаду, дождевые потоки с гор вымывали плодородный слой, тайфуны гнали с моря соленую воду, и это было хуже всего, потому что рис не терпит соли. Но мы в короткий срок создали разветвленную систему ирригации, возвели дамбы против бешеных разливов реки. Мы научились накапливать воду горных ручьев и сберегать ее на случай засух. С помощью СССР построили чайную фабрику, современные электростанции, лесопильный и мукомольный заводы. Дамбу, которая протянулась от речного устья до моста на дороге № 1, строили все – от мала до велика… Теперь все это надо приводить в порядок. И конечно же, мы быстро управимся без бомбежек, без артобстрела из-за реки Бенхай. Слышите, какая тишина?
Цикады по-прежнему стригли миллионами ножниц кровельное железо, и ящерицы гекко время от времени дополняли этот концерт своим коротким чмокающим хохотом. Товарищ Минь признался, что считает дни, оставшиеся до возвращения второй жены и троих детей.
– Старшие дочери, конечно, не приедут. – Он вновь тихо и светло улыбнулся. – Одна учится в мединституте, другая работает в Ханое. У них своя жизнь… Пойдемте в дом. Я покажу вам, каким станет наш город.
Этот непроглядный, как всегда в тропиках, вечер у пограничной реки Бенхай, проведенный над планом города Хоса, которому предстоит, как сказочному фениксу, восстать из пепла, напомнил мне «Ночь поэзии» на развалинах цементного завода в Хайфоне. Так же вот неистовствовали цикады, мелкая летучая братия неслась на электрический свет, и цветочная сладость струилась в горячем и влажном воздухе. Но необозримая площадь, образовавшаяся на месте цехов и исполинских печей обжига, была заполнена молодежью. Люди стояли или сидели прямо на земле, что называется, локоть к локтю. В скрещении прожекторов, как ликующий костер победы, алела трибуна, с которой нарумяненная актриса в праздничном национальном платье декламировала под рокот однострунного дая стихи. Актрису сменил Доан Зиой – знаменитый поэт и старый партизан. Зорко щурясь в темноту, словно стараясь разглядеть в притихшей толпе друзей, он прочел знакомую всем вьетнамцам «Песнь о рубашке» и, отчаянно отмахиваясь от благодарного цоканья и аплодисментов, вытащил на трибуну мальчика – самого юного стихотворца на этом удивительном фестивале поэтов. Свои стихи читали рабочие парни с цементного и маститые, заслуженные поэты, партийные работники, члены правительства и даже бывшие монахи, сменившие тогу на солдатскую гимнастерку. Певицы столичных ансамблей и самодеятельных коллективов пели под звон и рокот народных инструментов песни о победе, о лесах и горах родной страны, о мирном труде под праздничным весенним небом. Вокруг, подобно стенам римского Колизея, зияли черные провалы стен, ажурно высвечивались из тьмы опоры несуществующих трубопроводов, пролеты кран-балок. Цементный завод – колыбель рабочего класса Вьетнама – окружал эту радостную, ликующую площадь сквозным контуром, неотвязным и беспокойным. Завода не было, и все-таки он существовал в человеческой памяти, в планах и неотложных заботах людей. Эти люди – вечно живое сердце его, – казалось, дышали в ту ночь стихами. Собственно, так оно и было. Но стихи, которые улетали во тьму с микрофона на кумачовой, засыпанной цветами трибуне, вобрали в себя нечто значительно большее, чем просто радость победы и счастье мира. Утром эти юноши и девушки будут расчищать завалы, сваривать стальные конструкции, заливать арматуру бетоном. Но для них этот будничный труд будет подобен удивительному переходу к новой прекрасной реальности, которую пока трудно даже вообразить себе во всех деталях. Проблески ее можно уловить лишь озарением сердца, интуитивно почувствовать их в стихотворных мелодиях и песенных ритмах. Это великолепно и удивительно, когда народ начинает свой созидательный труд с поэзии, ибо искусство в столь судьбоносный миг подобно разведке грядущего.
В разбомбленном Намдине, третьем по величине промышленном городе, работали уже все школы. Когда в школе Фунг Тьи Киен огромный барабан возвестил своим утробным урчанием об окончании урока и ребятня с криком выскочила на перемену, пожилые женщины с черными от бетеля зубами все так же методично и споро продолжали разбирать гибкие бамбуковые стволы. Школа работает, но строительство ее не закончено, и шефы из кооператива с побережья буквально днюют и ночуют на школьном дворе.
Молодой директор By Динь Фонг пояснил:
– Они хотят поскорее дать детишкам новое просторное помещение. Да и домой торопятся. Земля! Она ежедневно труда требует, хозяйского глаза. Теперь, когда пустили электростанцию, они и по ночам пытаются работать. Приходится выключать свет. Хорошо, что мы с женой – она тоже учительница – прямо тут, в школе, живем. А так кто бы заставил их отдыхать? Пожилые же люди как-никак… Но рассуждают они правильно. «Раньше, говорят, здесь была большая двухэтажная школа. Такую и надо строить. Хватит того, что ребятишки во времянках живут. Учение – большой праздник. Так пусть у них будет для этого подходящее помещение»…
В каждой стране свои приметы времени, свои традиции. Учебный год во Вьетнаме начинается, когда созревают вкусные маслянистые плоды на дереве бан, которые особенно лакомы в короткие минуты переменок: от барабана до барабана. Это типичное «школьное» дерево обильно цвело и во дворе Фунг Тьи Киен, обещая веселую щедрую осень. А в углу двора, у самой бамбуковой изгороди, уже распустились алые огневки – верная примета близких экзаменов.
Недавнее прошлое, как на грампластинке, записало свой грозный голос на дорогах страны. Мелкие выбоины асфальта, красные воронки бесчисленных объездов, отпечатанный стальными траками гусениц гофрированный профиль и засыпанные гравием ямы – все эти специфические особенности рельефа послушно воспроизводил наш многострадальный газик. Особенно трудно ему и, естественно, его пассажирам давались переправы. Иные речушки мы брали с ходу, вброд, грохоча по утопленной булыжной дамбе, другие преодолевали медленно и осторожно, по шаткому настилу без опор и оград. Встречались понтонные переправы, когда под колесами отчаянно тряслись незакрепленные стальные листы и в открытых люках гремели потревоженные крабы, и паромы с опущенной в мутную неосвежающую воду аппарелью. Но на протяжении всего шестисоткилометрового пути – от Ханоя к реке Бенхай и далее, в освобожденные районы Южного Вьетнама – можно было увидеть ремонтные бригады: молодежь из близлежащих деревень и отдаленных горных районов. Юноши и девушки ремонтировали мосты, сваривали новые фермы, засыпали ямы, местами вручную, как прихотливую мозаику, укладывали камешек к камешку гравий. Трудно окинуть единым взглядом все это титаническое действо, растянутое от Ханоя до Хоса, до Намдиня, Хоабиня, Хайфона. Лишь как иллюстрацию, как своего рода моментальный снимок, хочу сослаться на крохотный личный опыт. Дело в том, что путь из Ханоя на Юг показался куда труднее, чем дорога назад. Казалось бы, что могло существенно измениться на знаменитой этой дороге № 1 за какую-нибудь неделю? Невольно думалось о силе привычки, о тяжести первопутка. Но, к счастью, были объективные показатели, которые свидетельствовали совсем о другом. Средняя скорость движения на обратном пути возросла с 25 до 40 километров в час, уменьшилось число объездов, сократились простои у переправ. Ожила одноколейная железная дорога на участке Ханой – Винь, на двух железнодорожных мостах появились плакаты: «Сдадим к Первомаю!» И все это – осязаемые плоды вдохновенного неутомимого труда ремонтников. Я ощутил их всем своим существом, в прямом смысле этого слова, когда заметил вдруг, что наш «газик» уже не так часто подскакивает на бороздах, проведенных жестоким резцом войны.
Специфические особенности вьетнамских дорог по-настоящему способен оценить лишь человек, воспитанный в суеверном страхе московской автоинспекцией. Двойной обгон в аварийной ситуации, созданной воловьей упряжкой и дюжиной увешанных корзинами велосипедов, дело здесь совершенно обычное. О нем и говорить-то не стоит. Но даже наиотчаяннейшие из здешних шоферов в трех случаях строго соблюдают безопасность движения: на переправах, где внезапная авария может вызвать многочасовую пробку, на местности, где остались еще необезвреженные мины и шариковые бомбы, и, наконец, в горах.
По колышущейся понтонной переправе, проложенной рядом с искалеченными фермами разбомбленного моста, мы форсировали – это точное слово, потому что в трех километрах шел бой и была слышна канонада – пограничную реку Бенхай. Пересекли начиненную рваным металлом, опаленную напалмом легендарную семнадцатую параллель.
Никогда не забуду рукопожатия, которым, прежде чем обняться, обменялся с пограничником возле бамбукового КПП, осененного красно-синим с золотой звездой флагом революционного Юга.
Мы с писателем-фронтовиком Овидием Горчаковым хорошо понимали, какая честь оказана нам, первым советским людям, ступившим на освобожденную землю. Не только мы, но и наши вьетнамские друзья не догадывались тогда, что окончательная победа уже так близка. Все верили в нее, хоть и называли разные сроки. Но революция опередила самые оптимистические прогнозы. Не прошло и трех лет, как Вьетнам стал единым.
Медленно ехал наш безотказный вездеход по узкому грейдеру, проложенному через минное поле. Еще дымились железобетонные обломки взятой штурмом военной базы, горела по обочинам техника, и саперы с миноискателями успели проложить лишь первый проход в этой жуткой пустыне, начиненной зубами дракона – рассыпными, выпрыгивающими и прочими «хитрыми» минами. Мы продвигались к Югу, вслед за весной.
И еще одна дорога запомнилась мне навсегда…
Узкий стремительный серпантин, на котором каждая встречная машина – новая проблема, с каждым новым витком все выше возносит над овалом прекраснейшей в мире бухты с ее тысячами живописных островков и острых причудливых скал, над горячей и вязкой трясиной мангров. По ту сторону хребта осталась электростанция в Уонгби, причалы и краны Хонгая, разбитая пагода, у которой под священным деревом дай с желто-белыми горько пахнущими цветами сам собой возник крохотный пестрый базарчик. Окрестные крестьяне продавали здесь кокосовые орехи, бататы и грозди королевских бананов, а рыбаки – скромные дары моря: крабов, креветок и маленьких рыбок, которых у нас разводят в аквариумах, а в Юго-Восточной Азии жарят на кокосовом масле. От развалин «торговый ряд» отделяла распяленная на бамбуковых шестах грубая циновка. Сквозь дыры синело тропическое небо и виднелась единственная стена пагоды с крупным окном, выполненным в виде знака, запечатлевшего постулаты чань-буддизма:
То, что есть, – не есть.
То, что есть я, – не есть я.
То, что будет, – не будет.
Но вопреки бесстрастной формуле, жизнь брала свое, и будущее творилось руками людей, хоть дорога на Хату шла сквозь джунгли, и только бамбуковые столбы, гнущиеся под тяжестью энергокабеля, напоминают о присутствии человека. И еще, конечно, встречные КрАЗы, груженные породой и ослепительно сверкающим на солнце антрацитом.
Хату – геологическое чудо Вьетнама. Угольный пласт залегает здесь по простиранию хребта, и антрацит добывают открытым способом, начиная с самой вершины. Высокогорные разработки являют собой картину суровую и величавую. Где-то на самом дне циклопической горной чаши затерялись банановые садики и дома разработчиков, вдоль узкой, ртутно сверкающей змейки ручья высятся холмы песка и щебня, черные терриконы подготовленного к отправке угля. По сравнению со ступенчатым амфитеатром горной твердыни все это кажется кукольным, почти нереальным, словно в котловане спряталась от мира крохотная страна лилипутов, а двадцатиметровые рукотворные ступени лестницей уходящего вниз амфитеатра предназначены для неведомых исполинов. Даже дым и грохот взрыва, в котором рождается очередная ступень, не могут развеять эту удивительную горную иллюзию.
Могучий советский комбайн неутомимо сверлит скальный грунт. Образующийся после проходки шурф похож на уходящую вниз трубу, обсыпанную не то мукой, не то зубным цементом. Скользя по невидимой линии, комбайн закладывает шурф за шурфом. Потом в них заложат аммонал, и кусок скалы толщиной в 20 метров отколется от обрыва, обнажив черную матовую поверхность угля. Не успеет осесть пыль взрыва, как в эту антрацитовую стену вгрызутся стальные зубья экскаваторного ковша, оставляющие за собой длинные, словно от гребня, полосы.
Хату – это как бы шахта наоборот, где добытый уголь дается не «на-гора», а, напротив, стремительно летит с горы вниз, на погрузочный двор. Разработки здесь электрифицированы, и весь процесс добычи почти полностью механизирован. Для нас это уникальное предприятие было особенно интересно еще и тем, что оно одним из первых в стране достигло довоенного уровня.
Я разговорился с молодым инженером, сравнительно недавно закончившим Ханойский политехнический институт. Он начал работать в Хату в 1969 году, уже через год его сделали старшим инженером, а недавно стал заместителем директора всего предприятия. Зовут его Зыонг Мак.
– Как и все в стране, мы переживаем сейчас восстановительные трудности. – Зыонг Мак достал из ящика план участка и кальку с разрезом месторождения. – Но самое тяжелое уже позади. С середины февраля мы работаем в привычном режиме и даже перевыполнили квартальный план. Нам пришлось начинать, как говорится, с нуля: заготавливать материал в джунглях, строить временные дома и т. д. Все мы делали сами: и уголь добывали, и жилища собирали. Да и не только это… Лучшие кадры пришлось послать в Лангшин, на железную дорогу. Конечно, мы не только соседям помогли, но и о себе позаботились. Как только дорога заработала и можно было завезти на электростанцию уголь, мы стали бесперебойно получать ток. А для нас это все! Тем более, что в октябре прошлого года устаревшие машины заменили могучими советскими комбайнами. Без этого нам бы еще долго пришлось подниматься. Зато теперь руки у нас развязаны. Клуб, вот, ремонтируем, пять «зилов» послали за своими людьми. Пора возвращать их из эвакуации. Рабочие заждались жен и детей. Как только наладим транспорт, дадим большой уголь. Перекроем все прежние нормы. Перспективы у нас очень хорошие. Наши люди и ваши машины творят чудеса.
На верхней отметке, где над отвесной стеной антрацита только небо и зеленые джунгли соседней вершины, я познакомился с начальником смены Нгуоком Ван Ле.
– Быстро вы освоили сложный агрегат!
– Да. Быстро.
Мы стояли рядом, но визг буров заглушал голоса. Раскаленная пыль покалывала кожу, как искры с точильного круга.
– Сперва было трудно. Советские специалисты работали с нами первые три месяца. С начала этого года, можно сказать, дело пошло. Даем теперь 80 кубов за смену.
Глядя на этого человека, уверенно ведущего большой и сложный агрегат, никогда не скажешь, что он не получил специального образования. Но это так. Нгуок Ван Ле – крестьянин, он родился и вырос в деревне и лишь в 1963 году приехал в Хату. Учился прямо на рабочем месте. Сначала работал с ручным перфоратором, потом осваивал старую французскую машину, теперь вот командует комбайном.
– Я очень люблю машины. – Он смущенно пожал плечами. – Всякие. На шофера как-то само собой выучился, локомотив могу водить. С зенитным пулеметом я тоже сразу разобрался. У нас тут своя самооборона была, прямо на рабочем месте.
– Вы здесь с семьей?
– Один. Живу в общежитии.
– Ждете из эвакуации?
– Нет. – Он засмеялся. – Сам в отпуск собираюсь. Насколько у меня к машинам тяга, настолько жена ни на шаг от земли. Никуда из деревни. Самая настоящая крестьянка.