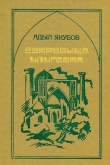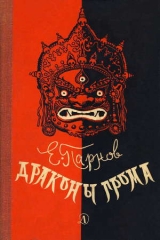
Текст книги "Драконы грома"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Это кто говорит: ты или старец?
– Я только тень.
– Но я и сам слежу за движением звезд, калантар.
– Кто не знает об ученых занятиях мирзы? В своих наблюдениях вы далеко превзошли успехи отца. Такова воля аллаха. Ученик всегда идет дальше учителя. Есть, впрочем, существенная разница. Усилия Улугбека направлены на подрыв ислама, ваши – во славу правоверных. Такую науку шариат одобряет, потому что звездные наблюдения необходимы для процветания народов и государств.
– Так думает пир или это глас его тени?
– У тени нет своего голоса.
– Что же, придется послушаться безгласной тени… Но скажи, калантар: как исполнится предначертание старца, если отцу наследует брат мой Азиз?.. Да и сам отец не так еще стар. Дед мой Шахрух и прадед Тимур жили долго. Или старец считает, что я должен обнажить меч против отца и брата?
– Святой пир не считает так. Жизнь Улугбека священна для Абд-ал-Лятифа. Хотя, если дело касается истинной веры, коран разрешает любые поступки. Зеленое знамя пророка оправдывает и возвеличивает истинно справедливое деяние. Сын-мусульманин ответчик за душу кафира-отца. Так что здесь никаких я препятствий не вижу. Но, повторяю, суфийский старец в своей доброте не считает мирзу Улугбека кафиром закоренелым. Пусть Улугбек совершит очищение, отправится в Мекку, замолит грехи, пусть потом он безбедно пирует с друзьями в саду. Накшбенди не хотят никаких крайностей. Просто, раз Улугбеку нужно время, чтобы позаботиться о своей душе, пусть делами государства вершит другой… более молодой и к тому же законный наследник, старший сын. А там посмотрим, что будет дальше. На все воля аллаха.
– Кто же посоветует Улугбеку позаботиться о своей душе? Я? Или, быть может, ваш старец?
– Стечение обстоятельств, в котором умный читает волю аллаха. Улугбек не любит войн, хоть и задирист. Ему не удалось умножить свои земли, подобно Тимуру, и он разочаровался в походах. Теперь ему хочется жить в мире с соседями, предаваясь пирам в Баги-Мейдане и ночным наблюдениям звезд. Но если его задевают, если кто-то посягает на границы его междуречья, он все же отправляется в поход. Не важно, побеждает ли Улугбек врагов своей рукой или руками других, может быть, более достойных, важно – он побеждает. Пусть в глазах народа он нечестивец, непонятный мудрец и все такое… Но Улугбек государь, и поэтому не упускает случая урвать чужой славы. Доказательством тому – последний его фирман… Вот если бы народ узнал, кто на самом деле является победителем при Тарнабе…
– Пусть! – сжимая унизанные перстнями пальцы, глухо отозвался принц.
– А еще лучше, если этот неведомый пока народу победитель вновь проявит свою доблесть. Заставь этот молодой лев бежать войска Улугбека, с того бы в один миг слезла фальшивая позолота чужой славы. Тогда бы самаркандцы и бухарцы, где ширится недовольство государем, сами прогнали нечестивца, и у него появилось бы время подумать о душе. Но к сожалению, такое едва ли возможно. Благородный лев не пойдет на отца, он для этого слишком высок сердцем и, может быть, недостаточно благочестив. Так что и думать об этом нечего… Хотя, если как следует поразмыслить, можно найти достойные средства, которые не запятнают великую цель. А цель действительно великая: дать Тимуру достойного преемника.
– Как следует поразмыслить, говоришь? Ужели старец ничего не придумал? Не хитри, калантар. Повторяю, будь прям и прост, как мой воин.
– Шейх Ходжа Ахрар поручил мне быть вашим проводником, мирза. Это я должен придумать и обо всем позаботиться.
– Так чего же ты ждешь? – улыбнулся зловеще Лятиф.
– Всему свой срок. А пока мне нужно всегда быть при молодом государе, стать его тенью, оставаясь при этом тенью пира, потому что без накшбенди нам ничего не достичь.
– Что же могут твои накшбенди?
– Все.
– Я велю тебя высечь, дервиш. Мне с детства не нравились сказки.
– Черновик Улугбека, содержание второго фирмана – это дело накшбенди, всемогущих и всепостигающих. Я бы многое мог открыть вам, мирза, но для этого не настала пора. Не все подвластно накшбенди. Душа Улугбека и ваша душа им неподвластны. Но могут они многое. И верьте в чистоту их помыслов. Они хотят, чтобы процветала держава Тимура и вместе с ней – истинная вера, они хотят видеть в столице Мавераннахра великого мусульманского государя и желают ему счастья и долголетия. И чтобы все это стало возможно…
– Тебе, для начала, надо быть возле меня, калантар?
– Да, мирза.
– И кем бы ты хотел видеть себя в моем Герате? Амиром? Главным муллой? Быть может, великим визирем?
– Нет. Только тенью мирзы, только его сейидом.
– В своем ли ты уме, калантар? Ты хочешь стать моим наставником в вере? Да знаешь ли ты, что сейидами становятся не безвестные дервиши, а потомки великих джагатайских родов, прославленные ученые и богословы?
– Знаю. Но вот золотая тамга, что дает мне право стать и сейидом правителя и, если понадобится, даже кем-то более высоким.
В косых лучах, бьющих из зарешеченного окна, вновь блеснула пластинка с таинственным знаком Гэсера – бога войны.
– Ну, допустим на миг, что я даже соглашусь назначить тебя своим духовным наставником. Представляешь ли ты себе, какой шум поднимется во дворце? И что скажет сейид мой, Ходжа Абул-Касим?
– Абул-Касим во всеуслышание заявит о своем желании отправиться в благочестивое паломничество и порекомендует сиятельному мирзе назначить меня на эту должность.
– А я-то было посчитал тебя за мудреца, калантар. – Мирза облегченно, хоть и с сожалением, рассмеялся. – Ты просто бродячий фантаст. Это солнце пустыни Кызыл напекло тебе голову. Да ни за какие блага в мире почтенный Абул-Касим не расстанется со своей должностью. И никакая власть не заставит его совершить подобное безумство. Кроме моей, конечно. Но, скажу тебе прямо, я поостерегусь ссориться с моим сейидом.
– Мирза сказал золотые слова. Он во всем прав. Кроме одного. Вот эта тамга заставит Абул-Касима сказать завтра все, что я велю ему. Если, конечно, мирза согласится.
– Дай мне ясное доказательство твоего могущества мюрид-накшбенди, – потребовал принц.
– Разве недостаточно?
– Нет.
– Тогда слушай, – Калантар устремил на Лятифа мертвый немигающий взгляд. – Перед уходом Улугбека из Герата тебе составили гороскоп, где сказано, что сын погибнет от руки отца, если промедлит сделать надлежащий выбор. Так ответили звезды, мирза, а им ты, кажется, веришь больше, чем словам благочестивых людей?
Лятиф молча смотрел на калантара. Казалось, мысли принца были где-то далеко-далеко. Потом он вдруг махнул рукой и сказал:
– Ладно, калантар! Давай пробуй. Посмотрим, на что способна твоя суфийская тамга. Если выйдет – твое счастье. Может, тогда и другое удастся… Мне, во всяком случае, старый шайтан Абул-Касим давно надоел. Но имей в виду, если он прикажет прогнать тебя палками, заступаться не буду.
Глава четвертая
Ты одинок средь сотни тысяч лиц,
Ты одинок без сотни тысяч лиц.
Рудаки
Синим дымом полны кривые улочки Самарканда. И страшен багровый закат над мазарами[58] Афрасиаба. В чайханах и харчевнях, тысячах внутренних двориков жгут на угли сухую виноградную лозу. Она дает сильный устойчивый жар, и быстро гаснут в нежном пепле ее жирные языки, взлетающие вдруг от тяжелой капли бараньего сала. Синей удушливой струйкой уходит в самаркандское небо это сало с горячих углей. Сытным маревом висит оно над базаром и над лавками вдоль дороги на город Ташкент. И чахнут в том мареве малиновые лучи солнца, погружающегося в древнюю пыль. И страшным становится небо над древним холмом Афрасиаба. Стоймя поставленная плита и низкий четырехугольник ограды – конец юдоли земной. Уступами спускаются тысячи мазаров с вершины до самой стены у подножия холма. А там, за стеной, уже бегают оборванные мальчишки с корзинами горячих лепешек. Люди спешат домой. День кончен, и душный горячий вечер гонит их во внутренние дворики, под чинары и карагачи, за глухой глинобитный забор. Но что за чай без лепешки? Что без нее шашлык или, скажем, кабоб? Только теплым, чуть влажным хлебом можно собрать коричневую мясную подливку и острый соус из алычи. Невидимый дух хлеба струится вверх и сливается с синью бараньего чада. И не смеют встать мертвецы из сухой накаленной глины. Заклятием короткой, но сочной и яростной жизни земной мреет вечерний воздух над Самаркандом. Только бродячие длинноухие собаки бесшумной тенью мелькают среди немых поселений Афрасиаба, раздразненные и обеспокоенные ароматами воскурений грешному богу утробы.
Зажигаются тусклые красноватые лампы в сумраке харчевен и лавок, торгующих сладостями. У ворот базара уже варят плов, и пламя с треском мечется под черным, сверкающим масляными отблесками котлом.
Но на вершину холма, до древних, наверное домусульманских, мазаров и до стен самых святых мавзолеев Шахи-Зинда, где похоронен святой Кусам – сын Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, уже не долетает вечерняя суета. Там ветерок, напоенный полынью, шуршит в кустах чертополоха, и золотой затухающий свет грустно плавится в синих и голубых изразцах.
Мирза Улугбек задумчиво гладит искривленный ствол миндального дерева. Оно зацвело вдруг вторым в этот год, сумасшедшим цветением над лестницей, ведущей к гробнице святого Кусама – Живого царя, Шахи-Зинда.
Долго молча стоит, а потом поднимается выше и выше, мимо пилонов и стрельчатых арок, мимо звездных орнаментов и густо-синих узоров из сур корана, выполненных квадратным письмом. По привычке считает про себя ступени. Спускаясь, сосчитает опять. Если числа сойдутся, значит, так угодно аллаху и будет удача в делах. Нет, не верит мирза суеверной легенде. И все же… Кажется, что может быть проще, чем сосчитать ступени при подъеме и спуске, – однако числа часто выходят разные. «Только безгрешный не собьется в счете», – увернет легенда. В чем же здесь дело? И вдруг Улугбек понимает и, сбившись, конечно, со счета, тихо смеется. Все ясно! Лишь исступленный фанатик способен забыть все заботы, отвлечься от мира, закрыть глаза на дивную красоту этих глазурованных пилонов, не ощущать нежного запаха белых миндальных цветов и соловья не услышать, поющего за стеною в кустах фарсидской сирени. Ему б только считать да считать. Такой никогда не собьется! Мы же, грешные люди, не очень-то веря в душе, считаем ступени лишь краем сознания. Мудрено ли, что часто у нас ничего не выходит?
И, остановившись на середине лестницы, Улугбек поворачивается и начинает спускаться. Хоть сегодня и день святого Кусама, в который правители Самарканда совершают паломничество к мазару Живого царя, а дальше не стоит идти. И годы уже не те, и ночь нынче будет такая, что лучше провести ее в обсерватории. Ведь ожидается выход Зухры[59] из треугольника планеты Зухал[60] – вестницы бед. Благо, свита осталась внизу, и никто не узнает, что мирза Улугбек не дошел до плиты Шахи-Зинда.
Он спускается мимо гробниц самаркандских амиров, принцев, беков, принцесс, мимо ниш с саркофагами верных сатрапов Тимура. Все кончается здесь. Но и вся эта каменная мощь и красота не для мертвых. Им уже ничего не надо. Это все для живых. Пусть глупо, немного смешно, но в том есть и тайная мудрость. Надо жить для живых.
Погруженный в себя, что-то шепчет мирза и, все убыстряя шаг, спешит к высокой арке входного портала. Небо в ней уже совсем потемнело. Сзади на холме догорает в пыли закат, а в синей арке появился рожками вверх бледный, как молодое арбузное семечко, месяц.
Улугбек доволен, что так, походя, вовсе того не желая, разгадал тайну лестницы.
Он что-то бормочет, улыбается чему-то своему и, конечно, не видит в тусклом мраке какой-то высокой гробницы черной тени и шепота тоже не слышит: «Кафир! Нечестивец!»
Вот и портал. Он построен самим Улугбеком от имени младшего сына Азиза, любимого сына. Громадная арка, в ней – малый портал и малая арка с резными дверями, купола на стене и синяя вязь из глазури.
Здесь встречают его царедворцы, ученики и охрана. Чадящие факелы рассыпают горячие блики на шлемах и медных щитах, на румийских кольчугах, на лалах чеканных, богато отделанных сабель.
– Ты не забыл ли, какой ныне день? – спрашивает мирза любимого ученика Али Кушчи.
– День или ночь, господин?
– Это как тебе более мило, – смеется мирза.
– День Живого царя, ночь богини Зухры. День кончается. Выехав из Железных ворот, мы успеем к восходу Зухры. От Шахи-Зинда до Кухека час хорошей езды.
Улыбнулся мирза.
– Я вас всех отпускаю, – приложив руку к сердцу, поклонился он свите. – Кончается день амира, наступает пора Звездочета. Рахмат[61]. Благодарю, что разделили со мной тяготы паломничества. Вечер нынче выдался душный и жаркий. В такую пору лучше укрыться в саду у фонтанов, а не бродить по кладбищам. Но да будет с нами милость святого Кусама.
В это же время на другой стороне Афрасиаба, откуда виден базар и минареты великой мечети Биби-Ханым, старый мулла в белой чалме и черном халате запирал небольшую кладбищенскую мечеть. Он шептал суры корана, готовясь к пятой вечерней молитве. Навесив длинный винтовой замок из красной меди, прочел десятую суру. Запирая ключом, прочел суру шестнадцатую: «Скажи: истинно, от господа твоего низводит его».
Затем сел на ступеньки, поцеловал священные четки из финиковых косточек и совершил глубокий поклон.
Он не видел, как черная тень скользнула откуда-то сверху, из зарослей пыльного чертополоха. Как слилась она с темным квадратом обращенной к восходу стены.
И словно дуновение ветра, словно шелест травы:
– Нечестивец вернулся с полдороги. Не дошел до конца священной лестницы. Что-то шептал и чему-то смеялся. Мысли его были далеки от молитв и благочестия. Он собирается этой ночью на свой богомерзкий Кухек.
– К вам пришел посланник наш, – пробормотал мулла пятую суру, – он ясно укажет вам многое из того, что скрыли вы…
Он быстро спрятал ключи от мечети и финиковые четки. Молча спустился по лестнице, чуть подпрыгивая, поспешил к базару. Со всех минаретов муэдзины уже скликали мусульман к вечерней молитве. Закончился день, закрылась торговля. Пора было обратить сердца и мысли к аллаху, чтобы достойно встретить опускающуюся на город ночь.
И непостижимым образом после вечерней молитвы, именуемой «салят аль-иша», которую совершают в начале ночи, весь Самарканд уже знал, что мирза Улугбек не исполнил ежегодного паломничества к могиле Живого царя.
– Вон скачет он к Железным воротам, кафир, – шептал налитый кровью здоровенный рыбник, только что заглянувший в лавку почтенного продавца халвы, и пальцем указывал на двух всадников, проскакавших мимо погруженной в ночную тень базарной стены. И все, кто были в лавке, поспешили выйти на улицу, где не слепил их плавающий в масле красный огонек фитиля.
– В обсерваторию едут, – доверительно сообщил рыжий, чуточку косой меняла, державший контору у ворот Шейх-Заде. – Не знаю, было это или нет, но говорю, что слышал от людей, – они там, на холме Кухек, молятся иблису[62].
– И я это слышал, – кивнул торговец мантами. – А еще говорят, что джинны – духи пустыни – уносят его в небо, чтобы мог он получше разглядеть, как пляшут черти вокруг адских огней.
– Откуда же адские огни в небе? – усомнился вдруг рыбник.
– А разве звезды не адские огни? – запальчиво спросил его торговец мантами, и щека его нервно задергалась.
– Я слышал, что звезды – это очи аллаха, – пожал плечами рыбник и, сунув руку под ватный халат, поскреб у себя под мышкой.
– Один святой калантар сказал мне, что звезды – костры иблиса! – завизжал торговец мантами.
– И мне так говорили, – подтвердил хозяин лавки – продавец халвы. После этого все вернулись в лавку и сели играть в мейсир[63].
– Мирза Улугбек едет, – тихо улыбаясь, сказал сундучник и поглядел вслед всадникам.
Он сидел под стеной бани, держа в руках лепешку и глиняную пиалу с пловом. Кусок лепешки с горкой риса он отдал присевшему рядом студенту медресе.
Тщательно обсосав острую косточку и вытерев жирные пальцы о засаленный синий халат, студент с сожалением посмотрел на свой хлеб. На ломте его лепешки осталось лишь немного риса с желтыми глазками моркови и разваренные волокна зеленой редьки. Мяса уже не было. Да и много ли мяса в базарном плове, что покупают сундучники? Смахнув рис с лепешки прямо в рот, студент спросил:
– Кто, вы говорите, едет?
– Мирза Улугбек только что проехал, – сказал сундучник. – Вон, поглядите. Там, в конце улицы…
Но только четкими силуэтами, словно вырезанными из черной бумаги, виднелись всадники, скакавшие прямо на вечернюю зарю.
– И это правитель всего Мавераннахра! – покачал головой студент, и конец его грязной чалмы согнал со стены разомлевшую муху. – Вай-вай, какой позор! Без свиты, без охраны, как купец или, извините, ремесленник. Разве так надлежит вести себя государю? Где пышность, величие, блеск? Где суровость, наконец, я вас спрашиваю?
– Говорят, он добрый человек, – вздохнул сундучник.
– Правитель не может быть добрым. При Тимуре, вот, люди рассказывают, народ в строгости держали. Ни воров, ни смутьянов, ни богохульников – никого не осталось, всех вывели подчистую. А теперь что? Если и казнят кого, то редко, притом без всякой пышности. Чик-чик, и готово. Словно это не казнь, не назидательное всенародное действо, не праздник, а так… что-то досадное, с чем лучше поскорее разделаться. Воры, разбойники всякие и обнаглели. Проходу от них нет. Вольнодумство опять поползло, всяк себя господином мнит, исчезло почтение к власти. Приказов, говорят, на местах не выполняют. А почему все? Бояться царя перестали! А нет боязни – и уважения нет, и послушания тоже! Вот вы говорите – добрый. Не добрый, просто никудышный государь.
– Вам виднее, вы человек ученый, – снова вздохнул сундучник и поставил пиалу.
– Учение учению рознь, – назидательно поднял палец студент и, словно по рассеянности, положил на свой ломоть еще горсть плова.
– Воды! Кому холодной воды? Чистой, сладкой, холодной воды! – прошел мимо, ведя за собой ослика с кувшинами, водонос.
– Есть учение богоугодное, – жуя, поучал студент, – такое, как, скажем, у нас в медресе, а есть богопротивное, что процветает в Бухаре, в медресе Улугбека. Говорят, он велел там высечь на дверях слова: «Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина и мусульманки». У мусульманина одна только обязанность: прославлять аллаха. Остальное – от иблиса. Мусульманина и мусульманки, видите ли. Пророк учит, что «женщины вырастают в думах только о нарядах и бестолковых спорах»[64]. Улугбек же хочет, чтобы они стремились к знанию. Он разрушил порядок, хочет веру разрушить, разрушит и государство. Попомните мои слова. Нет, при Тимуре было лучше.
– Но разве могли бы вы так отзываться о Тимуре, как говорите сейчас о мирзе? – улыбаясь, спросил сундучник.
– Тьфу, – плюнул студент и, сунув за пазуху кусок лепешки, взял с земли свою истрепанную книгу. – В том-то и беда, что порядка и строгости нет в государстве. О Тимуре даже думать плохо боялись. Не то что теперь. А все кто виноват? Улугбек!
Он поднялся, отряхнул себя сзади и собрался идти.
– Развратничает с иноземными танцовщицами у себя в саду, – сказал студент, уходя. – А гаремом пренебрегает. Он и мусульманскую семью уничтожит! Вот увидите. Вы знаете, что сегодня этот богоотступник не пожелал почтить гробницу святого Кусама?
– Да-да, – печально поцокав языком, согласился сундучник. – Народ об этом говорил после вечерней молитвы.
– О! – указуя перстом в небо, покачал головой студент. – Народ еще не знает всего. Если бы люди только знали, на что способен этот богохульник. Он… – Студент наклонился к самому уху сундучника и жарко зашептал: – …плюнул на священные камни и притом расхохотался.
– Аллах акбар! – ужаснулся сундучник.
– Да, почтеннейший. Плюнул и расхохотался. Но тут раздался замогильный голос нашего вечно Живого царя: «Не быть кафиру правителем в Самарканде!»
– Ой, что творится в нашем городе! – закатил глаза сундучник.
– Тише, тише, почтеннейший, – зашипел студент. – Не привлекайте внимания. Послушайте лучше, что было дальше. Все это собственными глазами видел и слышал своими ушами один калантар из братства молчаливых и постигающих. Этот благочестивый человек видел, как пошатнулся и побелел Улугбек, услышав голос из каменного склепа. Сломя голову кинулся он прочь от гробниц Шахи-Зинда. А калантар узрел тень самого святого Кусама. «Поведай все, что видел здесь, людям, – велел ему святой, – и пусть каждый, кто узнает об этом, расскажет остальным. Тогда только забуду я оскорбление, которое нанес мне Самарканд в лице своего правителя». И еще сказал калантару святой, что не будет счастья самаркандцам, пока не смыто оскорбление святынь Шахи-Зинда.
– Что же будет теперь? – затосковал простодушный мастер. – Чем кончится?
– Не удивительно, что вы не продали сегодня ни одного сундука. Завтра тоже, верно, так будет. Пока все самаркандцы не узнают правду о посещении Улугбеком мавзолеев Афрасиаба, не будет удачи ни в торговле, ни в ремесле. Так что торопитесь, почтеннейший, исполнить волю святого Кусама. Спасибо вам за угощение.
Глава пятая
Один только враг – это много, беда,
А сотни друзей – это мало всегда.
Рудаки
Звезды уже заблестели на небе, и месяц набрал полную силу, когда Улугбек и верный его Али-Кушчи подъезжали к подножию холма Кухек. Здесь, на этом знаменитом холме, по велению Улугбека, в год хиджры восемьсот тридцать второй была построена обсерватория, равной которой не было в то время ни на Западе, ни на Востоке.
«У подошвы Кухека мирза Улугбек воздвиг огромной высоты трехэтажное здание обсерватории для составления астрономических таблиц», – писал потом Захириддин Бабур, государь и поэт, автор великолепной «Бабур-намэ», где есть, в частности, и такие, тоской исполненные, строки:
Что мне хула, что мне хвала, что мне, Бабуру, мненье людей?
Цену познав злу и добру, в мире земном я так одинок!
На скальном грунте, у самого арыка Абирахмат, построил Улугбек громадную круглую башню и покрыл ее самыми лучшими изразцами, на изготовление которых ушло много золота, серебра и бычьей крови. И так чиста, так глубока и прекрасна вышла глазурь, что даже при свете звезд, когда голубая нить неотличима от белой, был виден цветной узор.
Современник Улугбека, великий историк Абу-ар-Раззак Самарканди писал:
«К северу от Самарканда, с отклонением к востоку, было назначено подходящее место. По выбору прославленных астрологов была определена счастливая звезда, соответствующая этому делу. Здание было заложено так же прочно, как основы могущества и базис величия. Укрепление фундамента и возведение опор были уподоблены основанию гор, которые до дня страшного суда обеспечены от падения и предохранены от смещения. Образ девяти небес и изображение семи небесных кругов с градусами, минутами, секундами и десятыми долями секунд, небесный свод с кругами семи подвижных светил, изображения неподвижных звезд, климаты, горы, моря, пустыни и все, что к этому относится, было изображено в рисунках восхитительных и начертаниях несравненных внутри помещений возвышенного здания, высоко воздвигнутого. Так воздвигнут был высокий замок, круглый, с семью мукарнасами. Затем было приказано приступить к регистрации и записям и производить наблюдения за движением Солнца и планет. Были произведены исправления в новых астрономических таблицах Ильхани, составленных высокоученым господином Ходжой Насир-ад-дином Туси, чем увеличились их полезность и достоинства…»
Резвый ахалтекинец мирзы уже почуял прохладу арыка и, прядая чуткими ушами, уловил далекий звон тугой струи в кувшине, а хозяин его различил в ночи белое покрывало красавицы, изогнувшейся над быстрой водой. Али-Кушчи на соловом своем карабаире еле поспевал за Улугбеком. В клубах удушливой пыли летели всадники, высекая искры подковами сытых нетерпеливых коней.
Запахом свежей листвы и мокрой земли повеяла на всадников ночь, когда подъехали они к подножию холма. На излуке арыка под старым карагачем приютилась убогая чайхана. На коврах возлежали богатые дехкане из окрестных кишлаков, мелкие ремесленники и мастера, состоявшие при обсерватории, молодые математики и астрономы. Ароматный кок-чай, свежую лепешку, зимнюю дыню с твердой, цвета обожженной глины кожурой да кувшин мусаляса – густого вина Самарканда – вот все, что мог предложить чайханщик Али своим постоянным клиентам. Зато каждый знал, что после первой молитвы у Али уже готова горячая похлебка из требухи, жирная и клейкая, сулящая здоровье и бодрость до глубокой старости, а сытость – до следующего утра, когда ни свет ни заря на заднем дворе чайханы разведут огонь под котлом и станут толочь чеснок в ступе для соуса, которого каждый кладет в похлебку по вкусу, кто сколько хочет.
Сам мирза Улугбек любил отдохнуть здесь в тени. Он ложился на простую кошму и прихлебывал чай или своими руками резал огромный арбуз, который чайханщик охлаждал прямо в арыке. И вдруг смолкала беседа на ковровых настилах, остывал неразлитый чай, а люди неловко перешептывались, пытаясь не глядеть на мирзу и вести себя как ни в чем не бывало. Улугбек все видел. Но не мог понять, почему это люди так резко преображались. Мирза угощал учеников и шутил над пузом Али, что с каждым годом толстело все больше. И смеялась с ним вся чайхана, но… чуточку громче и чуточку дольше, чем обычно смеялись над пузом Али. Улугбек это чувствовал. Он покидал чайхану озабоченный, разочарованный, с тайной какой-то тоскою. Но всякий раз, проезжая мимо древнего карагача, придерживал коня, чтобы перекинуться словом с Али, а то и зайти к нему в гости. Может, надеялся правитель, что все будет иначе, чем всегда, или просто старался не помнить о чувстве недоумения, даже обиды, которое уносил из чайханы.

Али, как всегда, поджидал у дороги. Кланяясь и сопя от натуги, руками зазывал он в свою чайхану. Но сегодня Улугбек Гурагон проскакал мимо, только мелкие камешки брызнули из-под копыт ахалтекинца да клубы удушливой пыли тонкой мучицей легли на одежду Али. Амир потому и амир, что, если угодно ему, он может попросту не заметить любого из подданных. И спокойно вернулся Али к своему очагу. Проскакал властитель. Не придержал коня, не одарил мимолетным взглядом. Если бы даже чайханщик распростерся в пыли на дороге, и тогда бы его не заметил мирза. Железные подковы благородного коня ударили бы по телу простертого раба… Но и это бы было как надо. Так и должно вести себя тем, над которыми только аллах. Посещение же властителем убогой чайханы было просто капризом, странной причудой, от которой всегда становилось неловко. А разве может неловкость испытывать раб за амира!..
Улугбек видел Али, освещенного красной полоской из окна чайханы. Видел он, как огромный сопящий чайханщик пригибался к земле и махал руками, словно перевернутая, на спину черепаха. И странная мысль вдруг пришла ему в голову. Он подумал, что жалкая та чайхана переживет и Али, и его, Улугбека, и, наверное, даже далеких потомков его. Время разрушит обсерваторию, пески занесут гордые мраморные дуги звездного инструмента, а эта харчевня так и будет стоять у арыка. Подновляясь время от времени, вечно будет стоять она здесь, потому как нет вокруг более удобного места. Что бы ни случилось с народами и городами, люди будут стремиться всегда к тени дерева и прохладе бегущей воды. Значит, будут стремиться сюда, в чайхану. Разве только арык Абирахмат обмелеет…
Не бог весть какой глубокой была эта мысль, но почему-то остро кольнула она сердце мирзы, глухое обычно к таким исконным человеческим чувствам, как зависть, мелочность и жажда славы. Никому не завидовал Улугбек, был широк душой, неподозрителен, славы хотел, но не загробной, а такой, какая дается при жизни мудрому среди мудрых. И была у него эта слава. В чем же дело? С поворота дороги он видел уже свою башню. Блестела она под луной глянцевитым молочным огнем. Очень прочной казалась, неподвластной превратностям мира, построенной на века.
Но тем сильнее кольнуло в сердце сопоставление ее с жалкой чайханой, что казалось оно нелепым и что где-то в тайне сознания Улугбек увидел вдруг поверженной изразцовую башню и почему-то желтые тыквы на тростниковой крыше чайханы.
Улугбек чуть сильнее сжал чуткие бока коня, и ахалтекинец пронесся мимо согнувшегося чайханщика, высекая песчинки и искры ему в лицо.
У ворот обсерватории встретили Улугбека друзья. Помогли слезть с коня, приняли повод. За оградой заливался соловей и среди черной зелени благоухали цветы. В раскрытых чашечках переливались капли нектара. Мохнатые бабочки носились, гудя, с цветка на цветок, касаясь на лету лепестков хищными изогнутыми хоботками. После душного дня разгоряченному телу особенно приятна была ночная прохлада и эта почти неожиданная свежесть. В лунном неистовом свете, хотя до полной луны оставалось еще шесть дней, лица людей, и дорога, и цветы за оградой казались белыми.
Улугбек оглядел их всех, все еще находясь во власти той мысли. Он почувствовал вдруг, что стал стар, и эти люди его, которых давно знал и любил, тоже постарели вместе с ним. Тоскливо и смутно стало ему. Недавний подъем, лихорадочное какое-то нетерпение, с которым скакал он сюда, сменились усталостью и разочарованием. И еще охватила его щемящая жалость ко всем этим людям и, в этом он не хотел сознаваться, к себе. Часто, очень часто, во время ночных бдений он ощущал величие и недостижимость той высокой цели, к которой стремился. Теперь он познал и тщету ее. Разве звезды хоть что-то изменили в жизни людей? Гончары шлифуют на своем кругу горшки, а медники выбивают чекан на кувшинах, дехкане терзают кетменями сухую глину, и мираб обходит арыки, проверяя, высоко ли стоит вода. Что им до звезд? Если исчезнет эта обсерватория у подножия холма, разве хоть что-то изменится в повседневной их жизни? Зачем же это сверхчеловеческое напряжение, зачем эти бессонные, до рези в веках, ночи? Неужели только для себя?
Он видел над собой эти звезды среди чужих равнин ребенком в далеких походах Тимура. Звезды Индии, Армении, Афганистана, холодные звезды Отрары, под которыми умер в последнем походе на Китай дед Тимур. Сколько он помнит себя, желание знать было самым сильным его желанием. Разгадка неведомого всегда была для него самоцелью, независимо от того, что проистекало потом. Значит, все, что он сделал, было подчинено одному – снедающей его ненасытной жажде? Выходит, что высокое стремление его мало чем отличалось от Тимуровой жажды завоеваний, от любви отца его Шахруха к редким книгам, от фанатизма накшбенди, обжорства чайханщика Али, сластолюбия похотливого Ала-ад-дауля? Что же тогда вообще есть жизнь человека на Земле? Или прав бессмертный Омар Хайям: