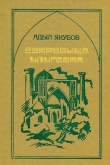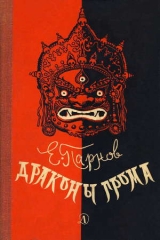
Текст книги "Драконы грома"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Но тогда же в войсках, которые возглавил Абд-ал-Лятиф, началась смута. Неукротимые тимуриды, как коршуны, рвали кровоточащую державу. Сын Байсункара Абул-Касим Бабур увел часть нукеров и бежал вместе с сыном Мухаммеда Джахангира Халиль-Султаном в Хорасан, заняв по пути Мазандеран, а вкрадчивый и послушный Ала-ад-дауля вступил по наущению царицы в Мешхед.
Суровый и мужественный Абд-ал-Лятиф навел в войсках порядок и, заключив царицу, приходившуюся ему родной бабкой, под стражу, направился на восток. Но близ Нишапура попал в засаду и оказался в плену у Ала-ад-дауля, который немедля освободил свою покровительницу – царицу Гаухар-Шад. Вчерашний победитель сделался узником, недавний узник возвысился до распорядителя судеб. Абд-ал-Лятиф просидел в гератской крепости Ихтияр-ад-дин до тех пор, пока не был подписан мирный договор, по которому бассейн Мургаба окончательно отделил Герат от Самарканда.
Принц Абд-ал-Лятиф возвратился к отцу и получил от него правление над всей областью Балха.
Но это был непрочный мир. Весной 826 года хиджры, что соответствует 1448 году последователей распятого Исы, произошла решающая битва в Тарнабе между войсками Ала-ад-дауля и Улугбека, в которой Ала-ад-дауля был полностью разбит. Улугбек занял Герат и посадил амиром сына Лятифа, которому целиком был обязан победой.
На краткий миг ветер мира повеял над Мавераннахром.
Казалось, ядро Тимуровой державы теперь восстановлено. Улугбек вновь спокойно правит Мавераннахром, к которому тяготеют и Балх и Фергана, а любимый сын его воцарился, наконец, в Хорасане, столица которого Герат столько раз становилась источником смут.
Но, пришпорив босыми пятками облезлого ишака, трусит ко дворцу гератского правителя худой, оборванный калантар. Тело его почернело под солнцем пустыни, вековая пыль Азии въелась в кожу, и время избороздило ее глубокими морщинами. Но сумрачно поблескивают из-под остроконечного колпака глаза калантара, черные угли его зрачков, слоновая кость желтых его белков.
Глава третья
Эй, муфтий, погляди… Мы умней и дельнее, чем ты.
Как с утра мы ни пьяны, мы все же трезвее, чем ты.
Кровь лозы виноградной мы пьем, ты же кровь своих ближних,
Сам суди – кто из нас кровожадней и злее, чем ты.
Омар Хайям
Гневно покусывая ногти, лежал на ковре мирза Абд-ал-Лятиф. Из опрокинутого узкогорлого, индийской чеканки кувшина медленно вытекала липкая, густая струя гулаба. Чудесные деревья в цвету, павлины и газели делались от нее темными и тяжелыми. Словно ночь вытекала из медного горла. Мирза недовольно скривился. Резче обозначились на сумрачном лице его монгольские скулы, унаследованные еще от далеких Тимуровых бабок. Тоска и бессильный гнев днем и ночью точили сердце победоносного воина. Любя, подобно отцу, науку и ее самоотверженных ревнителей, он сам наблюдал за светилами, долгие часы проводил над историческими свитками и диванами поэтов. Но все обрыдло Лятифу: и поэзия, и астрономия, в которой так преуспел Улугбек, его кровный отец, соперник и оскорбитель. Хорасанский поход, отделивший навеки Герат от Тимурова Самарканда, лег границей вражды между отцом и сыном, чьи пути дотоле всегда пролегали лишь рядом: на звездной башне, на мушаире, где состязались поэты, на ратном поле и в тугаях в часы веселой охоты на цапель – всюду стремя к стремени, локоть к локтю.
Принц хлопнул в ладоши, и в комнату неслышно проскользнул его верный катиб – секретарь, писец и наперсник – Саманбай.
– Шахматы! – сказал мирза, брезгливо прикрыв лужу шитой золотом шелковой подушкой.
Катиб достал из кораллового ларца костяные фигуры фарсидской работы и расставил их на доске: вначале аккуратно и бережно красную армию принца, затем – свою, черную. Мирза долго глядел на доску, не делая первого хода. Потом вдруг сгреб несколько фигурок и с силой швырнул их прямо в кыблу – восточную стену комнаты, на которой узким золотым месяцем было отмечено направление на священную Мекку.
Саманбай попятился к стене и, шаря позади себя, чтобы не поворачиваться спиной к мирзе, стал собирать шахматы.
С тоской пресыщенности и беспокойства глянул мирза на серебряные подносы, уставленные шербетом, рахат-лукумом, белой бухарской халвой и индийскими орешками в меду. Гератские дыни и черно-густое, как птичья кровь, застывшая на перьях, самаркандское вино, сладкие пирожки и воздушные лепешки – все было равно противно ему.
Он томился и страдал в гератском своем дворце, который так и не стал для него домом. Погладив куцую бородку, что росла у него, как у многих других представителей древних джагатайских родов, отдельными редкими волосками, он лениво ткнул загнутым вверх носком туфли своего катиба, вновь расставлявшего шахматы.
– Когда прибудут мои слоны? – капризно растягивая слова, спросил принц.
– Гонцы сообщили, о солнцеликий мирза, что двенадцать слонов вместе с искуснейшими погонщиками уже давно покинули Серендип и благополучно прибыли в байсорскую гавань. Теперь вместе с большим караваном кабулистанских купцов они следуют в твой, о надежда правоверных, возлюбленный аллахом Герат.
Слоны! Зачем ему эти нелепые животные, которым нужно столько сена, что можно прокормить бессчетные табуны лошадей. В бою от них нет почти никакого проку. Не сравнить с летучей конницей. Война была окончена, но мысль то и дело возвращалась к войне. Отец, желая, как можно думать, продемонстрировать гератцам, что время Шахруха прошло и область вновь пора пристегнуть как удельное княжество к Мавераннахру, начал с притеснения собственного сына. Он словно вырвал его из сердца, забыв раз и навсегда, что в жилах амира гератского течет та же Тимурова кровь, что этот амир плоть от плоти его, Мухаммеда-Тарагая, кость от кости. Значит, правду говорят мудрецы, что нет для государя ни отца, ни сына. Только держава, и только рать: нукеры, кони, слоны.
– Когда здесь будут?
– Если милость аллаха, который…
– Будешь говорить так длинно, велю подрезать тебе язык.
– К святому празднику рамадана, пресветлый мирза, если…
– Подрежу!
Привыкший к капризам принца писец в притворном страхе пригнул голову. Распахнулись резные, изукрашенные куфическим, славословящим аллаха письмом двери, за которыми днем и ночью стояли двое стражников с секирами.
– От пира Ходжи Ахрара ташкентского к амиру Герата расул![48] – доложил начальник охраны.
Бесшумной тенью скользнул за ковры писец Саманбай.
Мирза еще сильнее нахмурился, что-то сосредоточенно обдумывая, вновь погрыз ногти. Потом велел звать ташкентского посла.
Босоногий калантар прошел, оставляя следы, по ширазскому ковру к мирзе. Двери за ним закрылись.
– Благослови тебя аллах, мирза, – просто сказал посол.
– Я вот распоряжусь, чтобы тебе дали сотню палок, почтенный расул, – усмехнулся принц, – тогда ты будешь знать, в каком виде достойно предстать перед лицом государя.
– Обидев калантара, ты совершишь великий ходд[49], мирза, – холодно ответил паломник. – В глазах аллаха и далк[50] дервиша, и золотой халат амира – не более, чем пыль на дороге.
– Стража! – хлопнул в ладоши принц.
– Бойся обидеть калантара, мирза, – тихо сказал посол, доставая из-под пыльных лохмотьев золотую пластину с тамгой. – Я мюрид суфийского пира Ходжи Ахрара – ишана всемогущего братства накшбенди.
Но за спиной калантара уже стояли два дюжих джагатая. Под белыми их бешметами поблескивали надетые прямо на халаты румийские кольчуги. Слепящие солнечные пятна переливались на луноподобных секирных лезвиях и острых шлемах, обмотанных зеленым шелком чалмы.
– Вспомни башню Ихтияр-ад-дин, мирза, – еле слышно прошептал калантар, сбросив нетерпеливо и резко руки джагатаев со своих плечей.
Мановением кисти мирза прогнал стражей.
Он вспомнил башню и ту серую, прокаленную солнцем крепость, вспомнил, куда привезли его, истерзанного и запыленного, после недолгой и яростной битвы, столь неудачной и позорной, что и думать о ней нельзя без гнева и горечи. И вновь показалось мирзе, что саднят от пота царапины на ладонях, что черная пена коркой запеклась на губах, что зубы противно скрипят песком, а душная пыль скребет опаленное горло и грязной слезою стекает из глаз.
Он и помыслить тогда не мог, что из-за поросших пыльным бурьяном нишапурских холмов выскочит вдруг конница Ала-ад-дауля, брата презренного предателя – Султана Мухаммеда, вероломно поднявшего мятеж против благочестивого деда Шахруха.
Как вылетали тогда лохматые кони из-за холмов! Как закатное солнце туманилось за рыжей тучей, поднятой копытами! С копьями наперевес летели джигиты, пригнувшись к лукам коней, размахивая бебутами, описывая ими в воздухе свистящие круги! Огромный малиновый солнечный шар так и стоит перед глазами. И черная конница в рыжих клубах, и сухой беспощадный блеск оружия и сбруи.
Враги ворвались в самую середину походных колонн, которые так и не успели развернуться для боя. Застигнутые врасплох, они дрогнули и побежали, а вражеская конница давила их копытами, сминала крутыми горячими грудями ржущих коней, полосовала на скаку ослепительными дугами бебутов и сабель.
Лишь сотня его джагатаев устояла перед внезапным и стремительным этим броском. Сгрудившись вокруг своего принца, джагатаи бросались под вражеских коней и рассекали им тугие, напряженные бешенством сухожилия. Как яростно умирали они, падая в серую, прибитую копытами пудру, орошая ее темными пятнами крови. И как быстро их кровь уходила в дорожную пыль, становясь частицей земли, превращаясь в самою землю.
Почетным пленником доставил Лятифа гордый победитель в Герат. Принц понимал, что тот не посмеет, даже если захочет, пролить кровь тимурида, брата. Он мог не бояться за свою жизнь, когда его вели по винтовой лестнице в крепостную башню. Но тем сильнее, тем горше было его унижение. Побежденный, растоптанный, был он привезен в гератскую крепость Ихтияр-ад-дин. Как рвалось и тосковало тогда сердце от невозможности отомстить!
Мог ли помыслить он, что месть его будет и скорой и полной? Мог ли вновь вообразить себя стоящим во главе войск? Победоносных войск.
О сладостное слово «Тарнаба»!
Отец, мирза Улугбек Гурагон, доверил Лятифу левое крыло. Собрав вместе с Лятифом девяностотысячную армию, он добрую половину ее отдал сыну. Сам, вместе с гвардией и боевыми слонами, расположился в центре, а на правый край поставил другого сына – Азиза. И аллах внял исступленной мольбе раба своего. Ала-ад-дауля сначала ударил по левому крылу, и крыло устояло. Враг разбился о железную стойкость его и отхлынул. Но поздно: за спиной его уже были спешно переброшенные Улугбеком тумены Азиза.
Славный день, день яростной битвы, день великой победы при Тарнабе.
Вот и сидит он, мирза Абд-ал-Лятиф, в том самом Герате, куда привезли его полоненным, амиром сидит теперь в Герате, правителем сидит в гератском дворце! А бунчук его развевается над той самой крепостью, над той самой башней, куда привезли его с почетом, что только подчеркивало унижение.
Что же еще может припомнить он, мирза Абд-ал-Лятиф, в час своего торжества? Что еще хочет напомнить ему этот оборванец, этот грязный и дерзкий дервиш, которому мало даже сотни палок?
– Вспомни, мирза, крепостную башню, – все так же тихо сказал калантар. – Отчаяние свое вспомни и воду в кувшине, что показалась тебе горькой, как сок алоэ.
Верно, было и так… Косой луч заходящего солнца прорезал круглую комнату башни. В нем танцевали тонкие шерстинки, разноцветные крохотные ворсинки ковров, устилавших глинобитный пол. В забранное узорной мавританской решеткой оконце лился и лился тот знойный солнечный столб. А за окном открывались синие вечереющие дали, смутные холмы и серебристые ленты дорог, влажные густые тени и красная, как вино, полоса над развалинами древнего городища.
И так пылен и сух был солнечный луч, так чист и далек простор, так влажны и прохладны недоступные синие тени вдали, что принц почувствовал жажду. Он налил в пиалу воды из кувшина, облизывая пересохшие губы, следил, как пенится простая вода, подобно весеннему кумысу.
Но жажда осталась неутоленной. Горше полыни и сока мясистых колючих листьев алоэ показалась ему вода, потому что была она водой безнадежности и плена.
– Верно, было такое, – сурово ответил мирза. – Но откуда тебе это ведомо, дервиш?
– Припомни теперь, мирза, – улыбнулся ему калантар, словно дерзко посмел не расслышать вопроса, – припомни, как стала вдруг упоительно сладкой горькая та вода.
– Ты ли это, серый мутакаллим?[51]
– Теперь ты узнал меня, мирза, – ответил калантар и без приглашения сел на ковер.
Серый мутакаллим пришел к нему на третьи сутки после того, как принц, отравленный желчью тоски и отчаяния, отказался от пищи и питья. Лежа на тюфячке, вдали от окна, молча отстранял он лекарей, протягивающих ему чаши с целебными и укрепляющими напитками, готовясь встретить вскоре Азраила – ангела смерти.
Тогда и увидел он у изголовья серого мутакаллима. Синяя ночь тихо светилась за узорной решеткой. Она плыла и сгорала в лунном огне, струилась и таяла, но не могла ни сгореть, ни растаять. И от дивного света ее круглая башня позеленела. Светлый узор на ковре превратился в зеленый, темный окрасился в тот глухой черный цвет, который обретают во тьме все красные вещи. Стена же стала белой, оставаясь при этом зеленой. И тень человека четко-четко чернела на этой стене. А одежда его, простая одежда бродячего мутакаллима под луной была серой. Но серой, как свет, который идет от луны, стремительно летящей навстречу дымчатым облачкам.
– Слушай, бедный мирза, – тихо позвал его серый мутакаллим. – Есть над пропастью адской особенный мост. Мы его называем сиратом. После смерти все души ступают на этот сират, что тонким волосом туго натянут над страшным ущельем. Ты уверен, что сможешь пройти по мосту и не свалишься в смрадную адскую бездну? Уверен? О мой мирза. Много благочестивых и праведных дел надлежит тебе сделать, чтоб мост тот обрел вдруг перила, когда придет твой черед. Живи же пока, во имя аллаха, – он склонился над принцем и вновь прошептал, – бисмиллах[52].
Потом достал субха[53] в сто зерен из тигрового глаза, которые желтым огнем загорелись в ночи.
– Эти четки, мирза, – знак великого тайного братства. Мы поможем тебе возвратить славу и трон, бисмиллах. А покамест живи и не смей отказываться от еды. Ибо нет для правоверного большего греха, чем добровольно лишить себя жизни. Ешь и пей, бисмиллах.
Он взял пиалу и наполнил ее той же самой водой из того же кумгана, хранившего горечь полыни и желчи.
– Выпей, принц. Пусть отныне вода напоит тебя сладостью мира, надежды и веры. И да будет покоен твой сон, бисмиллах.
И вправду вода показалась мирзе ароматной и сладкой, словно гулаб, упоительной и прохладной, как кокосовое молоко. Он осушил пиалу и заснул крепким здоровым сном.
– Простите, что не признал вас сразу, мауляна, – почтительно обратился к калантару принц.
– Я не мауляна, мирза. Ничтожный дервиш и недостойный мюрид суфийского старца, который возложил на меня счастливую ношу и сделал расулом печальной вести.
– Счастливая ноша? Печальная весть? О чем ты?
– Братство наше поручило мне вас, мирза. Денно и нощно я буду молиться за вас, разрушать коварные планы ваших врагов, в меру ничтожных сил своих помогать вам, о светлый мирза, надежда ислама. Это счастливая ноша. Но есть и печальная весть.
– Что это за весть? В Самарканде?..
– В Самарканде. Но прежде позвольте, мирза, задать вам вопрос. Если я верно знаю, а мне надлежит верно знать все, что касается вас… Так вот, если верно я знаю, вы командовали левым крылом в тарнабском сражении, затмившем победоносные битвы Тимура – властителя мира. На правом крыле стояли тумены вашего младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза. Так, мирза?
– Так.
– И разве не вам и не вашим туменам обязан мирза Улугбек своей победой? Разве не ваши львиная отвага, победоносный гений, быстрый ум и ратная доблесть опрокинули врага и решили исход битвы?! О, кто не видел этого своими глазами может, конечно, говорить и другое. Но отсохнет язык и лопнут глаза у лжеца. Я-то видел, как ваш конь, этот благородный из благородных араб, словно Бурак, на котором пророк Мухаммед вознесся к высшим пределам неба, носился по полю битвы. Словно Искандер Двурогий, летели вы на своем благородном Бураке по ратному полю. Вы были в самых опасных местах. И там, где были вы, там воцарялась победа. Ваши тумены приняли главный удар неприятеля и нанесли ему сокрушительное поражение, от которого он бы уже не оправился, не будь даже туменов вашего младшего брата мирзы Абд-ал-Азиза и слонов Улугбека Гурагона. Разве не так?
Как зачарованный слушал мирза сладкие речи босого калантара. Дым сражения носился перед его глазами, ржали кони, ревели боевые слоны, и тучи стрел неслись вдоль красной полоски зари. И вправду, то была славная битва. Сам Тимур не постыдился бы приписать ее к своим неисчислимым победам. И может быть, действительно был прав этот дервиш, ведь со стороны виднее… Во всяком случае, именно его, Лятифа, тумены приняли на себя первый удар. Это-то бесспорно. А что там было дальше, кто может знать точно. Со стороны виднее… Ему было не до того. Он воевал, командовал своими туменами, носился, как говорит этот дервиш, по ратному полю.
– Скромный и благородный мирза! Ты молчишь, но я отвечу за тебя. – Калантар возвел руки к небу. – И пусть накажет меня аллах, если я солгу хоть словом. Это ты, ты один победил при Тарнабе. О эта битва! И через тысячу лет люди будут помнить о ней, а поэты прославят ее в сладких своих касыдах. И тем чернее, презреннее выглядят те, кто похищают у героя его заслуженную, кровью добытую славу, чтобы приписать ее себе. Мерзкие трусливые шакалы, презренные сыновья греха, воры, готовые украсть… Но что говорю я, поддавшись гневу? Да отсохнет мой язык! Я осмелился… Ради аллаха, прости меня, мирза.

– О чем это вы, почтенный калантар? Кто хочет украсть у меня славу?
– Нет-нет, забудьте, мирза, все, что сказал я, недостойный. – Дервиш обнаружил внезапный испуг. – Я не смею даже называть их имена. Разве червь, ползающий в пыли, может знать о путях льва? Разве ему ведомы эти пути? Не мне судить… Я только видел, как вы носились на своем Бураке в пыли сраженья, и только знаю…
– Что вы знаете? Что?
– Не смею…
– Моего прадеда Тимура никогда не вынуждали спрашивать дважды, дервиш. Говори! – нахмурился гератский амир.
– Правнук превзойдет победоносного властелина мира. Тарнаба – это только первый полет молодого орла. И прав молодой орел, никто не смеет молчать, если он – великий воин – обращается с вопросом. Но может ли ответчик называть имена, о которых даже помыслить нельзя дурно? – опустил с показным смирением очи долу всеведущий мутакаллим.
– Если ответчик говорит правду, он может называть любые имена.
– Даже имя мирзы младшего брата, о великий амир Герата?
– Так это Абд-ал-Азиз хочет отнять у меня победу?!
– Могу я говорить? – прошептал калантар, придвинувшись почти вплотную к мирзе.
– Да говори, все говори!
– И имя мирзы Мухаммеда-Тарагая, прозванного Улугбеком Гурагоном, я могу называть?
– Говори все, что знаешь! Но берегись моего гнева, если в словах твоих есть ложь. Я никому не позволю… Говори, калантар, не бойся. Только правду говори.
– Хорошо, мирза. Вы так хотели. Я прибыл из Самарканда. Караван, с которым я пришел, только входит в Герат. Не утолив жажды и голода, не совершив омовения и не почистив платье, поспешил я в этот дворец с печальной вестью. С печальной потому, что тайные интриги способны вызвать в благородном сердце не только гнев, совершенно справедливый, надо сказать, гнев, но и печаль. Так вот, мирза. В тот день, когда я покинул Самарканд, правитель его, Улугбек Гурагон, обнародовал грамоту о победе при Тарнабе…
– Ну!..
– И грамота эта… Простите, мирза, даже язык не поворачивается сказать… Грамота эта обнародована от имени одного Абд-ал-Азиза, вашего младшего брата.
– Так… – Мирза подвинул подушку и угодил рукой в липкий гулаб. С отвращением вытер клейкие нити о ковер. – Так, – сказал он, облизывая губы, – значит, это правда?
– Правда, мирза. Рискуя жизнью, удалось мне достать черновик, на котором Улугбек набросал первоначальный текст грамоты. Вот он, – калантар достал из-за пазухи кожаный футляр и протянул его мирзе.
Тот лихорадочно раскрыл футляр и вытащил измятый листок шелковой самаркандской бумаги. Он сразу узнал четкую, красивую вязь, уверенные точки и черточки над буквами. Изысканный почерк насх, всюду, где положено, проставлен знак забар! Сомнений быть не могло – это писал Улугбек, отец.
– Так! – прошептал принц. – Обо мне здесь не говорится ни слова. Будто это не я командовал туменами на левом крыле, будто это не я…
– Выиграли битву при Тарнабе, – досказал за мирзу калантар.
– Что ж! – принц сжал кулаки. Он хотел сказать что-то еще, но только пошевелил губами, как рыба, хватающая воздух.
– Верно, у мирзы, отца вашего, были веские причины поступить так, – осторожно сказал калантар. – Можем ли мы, ничтожные, знать, в каких горных высях витает крылатый дух его? Герат, Самарканд, соображения высшей политики…
– Это я, по-твоему, ничтожный? – хрипло спросил принц.
– Я о себе сказал, сиятельный мирза.
– Нет, нет, калантар. Ты прав! – Принц усмехнулся, и узкие глаза его почти закрылись. – Для него я столь же ничтожен, как ты, как последний из его рабов. Он смотрит на небо, великий звездочет. Все остальное – только прах под его ногами. Он никогда не любил меня. Другое дело Азиз, тот умеет угодить Улугбеку. Ябеда, льстец, презренный трусишка. Для него нет ничего святого.
– Он лишь подражает кому-то другому, более вознесенному, – печально вздохнул калантар. – Мирза Улугбек не раз говорил, что религии рассеиваются, как туман. Не о таком повелителе мечтали мы, слуги аллаха, да простит он меня за эти слова.
– Улугбек хочет отнять у меня победу? Но ему не она нужна. Нет! Он смеется над ратной славой, издевается над шариатом, унижает амиров и вельмож. Звезды и астролябии для него дороже благополучия государства. Нет, не для себя отнял он у меня победу. Здесь вижу я интригу брата. Мне надо объясниться с отцом. Ты отвезешь ему мое письмо, калантар!
– Я только слуга мирзы. И воля его для меня закон. Но не гневайтесь на меня за совет. Не пишите Улугбеку теперь. Я еще не все сказал вам, мирза. Сердце мое разбивается, когда глаза видят, как страдает благородный лев. Вы слишком великодушны, мирза. Хотите видеть в людях только лучшее. Защищаете там, где другие спешат обвинить. Великая душа, поистине великая душа… Но все обстоит сложнее, чем представляется вам. Мне тоже хочется защитить от дурной молвы светлое имя отца вашего и светлое имя брата. Верно, все же были у них особые основания издать этот фирман. Я только червь придорожный, мирза. А вы, конечно, легко сумеете найти истину, когда узнаете все. У меня так не получается. Я хочу оправдать в глубине сердца деяния, о которых и судить-то не смею, но чем больше думаю о них, тем страннее и непонятнее выглядят они для меня. Не обвиняйте брата, во всем видна воля отца, – хочу сказать я вам, но говорю: не обвиняйте ни отца, ни брата.
– Это твой совет, калантар?
– Моя смиренная просьба, сиятельный принц. Ибо поистине странны деяния великих мира сего. Остается лишь верить, что предприняты они на благо государств и народов. Да укрепит аллах нашу веру, потому что разум отказывается принять все новые и новые печальные свидетельства.
– Язык у тебя, калантар, как у моего Саманбая. Чего ты все кружишь, как шакал, не решающийся напасть? Говори прямо и откровенно! Я требую этого от каждого воина. Не выношу витиеватого кружения. Не терплю.
– Улугбек Гурагон, мой мирза, выпустил еще один фирман. Все ценное имущество, собранное вами в башне крепости, в которой раньше вы страдали пленником, объявлено собственностью Самарканда.
Принц знал, что отец забрал принадлежавшее лично ему, Лятифу, золото из крепости Ихтияр-ад-дин, и это было первое из полученных им оскорблений. Все же он полагал, что это временная мера, и в надлежащий день сокровища будут возвращены в Герат. Увы, он ошибся. Политические расчеты, в которых отец никогда не был особенно силен, вновь возобладали над справедливостью, здравым смыслом и голосом родной крови.
– Видимо, Улугбек Гурагон посчитал ваши денежки за дань Герата престолу Самарканда, – подлил масла в огонь калантар.
– Ты лжешь, дервиш! Никогда не поверю!
– И я о том же, мирза, – трудно поверить. Остается думать, что правитель всего Мавераннахра сделал это для высшего государственного блага. Не себе же забрал мирза Улугбек сокровища, которые вы добыли мечом в славнейшей из славных битв? Он присваивает ваши украшенные золотой чеканкой и сиамскими лалами сабли, драгоценные сосуды, ларцы с жемчугом, забирает отнятые вами у врага мешки с серебряными теньгами общей стоимостью в двести туманов, малиновый бархат, сафьян и шагрень – и все это не себе, он отдает вашу военную добычу Тимурову несуществующему государству… – вкрадчиво замолк калантар и добавил вполне равнодушно: – Наверное, брату вашему, мирзе Абд-ал-Азизу поручит он распорядиться всем этим имуществом?
– Не бывать этому! – Лятиф вскочил на ноги, опрокинув поднос со сластями. – Это откровенный разбой, а против разбоя есть одно только средство – меч.
– Против отца? – как будто испуганно прошептал калантар.
– За свое право. Что велел передать шейх?
– Шейх Ходжа Ахрар, мудрость его велика и святость его беспредельна, сурово отнесся к фирманам Улугбека. Он не пытался, подобно мне, недостойному, оправдать мирзу. Он осудил его. С тем и послал он меня к вам. Ходжа Ахрар сказал нам, что вы, сиятельный принц, надежда ислама. Посему накшбенди не могут стоять в стороне, когда с вами поступают несправедливо, тем более что неправое дело творит, – калантар понизил голос и почти неслышно выдохнул: – Кафир[54].
– Что ты сказал?
– Это не я сказал, мирза. Так говорит Ходжа Ахрар, великий пир, благочестивый старец суфийский. Я только тень его. Он же давно называет Улугбека кафиром, ибо только неверный может смеяться над кораном и нарушать законы шариата. Другие же шейхи говорят, что Улугбек – шайтан и богохульник.
На миг, на какой-то мелькнувший миг сердце мирзы сжалось. Разве не он, Улугбек, дал тебе жизнь, мирза? Имя твое и твою гордую кровь тимурида? Искусство слова и мудрость следить ход подвижных светил в сонме неподвижных огней Вселенной? Или не он пришел тебе на помощь, когда враги заточили тебя в крепостную башню? Может, кто-то другой назначил тебя правителем богатой области и прекрасного города, который не устают воспевать поэты? Не ты ли плоть от плоти его, и разве Герат твой не часть державы прадеда твоего Тимура? Почему же и не распорядиться ему твоими сокровищами и деньгами, если ты плоть от плоти его? Почему бы и славу твою не отдать другому, если тот, другой, тоже плоть от плоти его? Доверься же духу его, витающему выше самих звезд, доверься мудрости его, которая, как говорят на всем мусульманском Востоке, равна лишь мудрости Сулеймана, сына Даудова, которому подчинен весь видимый и весь невидимый мир. Пусть же делает он, как считает нужным, ибо печется не о благе своем. Пусть непонятны его пути и высоки неведомые цели. Доверься ему, и будет тебе благо. Если же постигнет его неудача, оплачь ее вместе с ним, ибо ты плоть от плоти его и его неудача – твоя неудача…
Но так краток был этот миг сомнения, так неглубок тоскливый укол в сердце, что мирза ничего не понял и ни к чему не прислушался.
– Говорят, что таких сокровищ, которые собраны вами в башне, мирза, никогда не видели даже на рынках Багдада и Дамаска, – сказал калантар, огладив бороду.
– Не даешь мне забыть мое унижение, дервиш? Зря стараешься. Я ведь и так не забуду.
Принц взял обеими руками чашу с густым самаркандским вином и стал пить глубоко и жадно, как истомленный путник, добравшийся до колодца в пустыне. Быстрые черные струи сбежали по его запрокинутому подбородку. Частыми каплями сорвались они с куцей бородки и лениво расплылись вишневыми пятнами на белом шелку расшитого золотом халата.
– Когда приходит хамр[55], уходит хилм[56]. Коран предостерегает нас против вина.
– Поучаешь меня?
– Я только тень ишана. Святой человек, легко читающий книгу судеб, словно заглянув в чашу Джамшида[57], видит в вас будущего государя. Он поручил мне беречь вас, принц. Не гневайтесь.
– Воля государя – закон. Или старец хочет видеть послушного государя?
– Мусульманского государя. Такого, каким был дед ваш, благочестивый Шахрух. Он воздерживался от вина, как подобает мусульманину, и не позволял употреблять его никому. Даже принцам.
– Он воздерживался и от управления страной, предоставив это моей властолюбивой бабке Гаухар-Шад-ата и вам, почтенные муллы, улемы и калантары. Тимуру небось вы не указывали, что ему пить: кумыс или вино. Я глубоко почитаю избранников аллаха, но править буду сам!
– У каждого свой путь в небе – у кречета, сокола и орла, – бесстрастно заметил суфи. – Молодой орел взлетит еще выше, чем Тимур – повелитель Вселенной, а нам останется лишь целовать его сверкающий след. Но пока… Не от вина я хочу уберечь будущего владыку мира, а от дурной молвы. Пусть пьет на здоровье, если разум его остается ясным. Не надо лишь чашу свою выставлять напоказ. Вот опять ваш отец Улугбек Гурагон. Весь Самарканд и вся Бухара только и говорят о его изумительном саде. У всех на устах этот Баги-Мейдан, раскинувшийся у подножия холма Кухек. Там мирза отдыхает от трудов земных и ночных звездных бдений. Нет, наверное, человека, который бы не видел его там с чашей в руке. Разве так надлежит государю являть свой лик перед чернью? А сотрапезники правителя? Не каждый амир или визирь попадает в тот, раю подобный, сад. Зато нищие поэты, всякие неотесанные горланы и богохульники – там первые гости. Не гости – хозяева. И конечно, все эти его звездочеты – астрологи и математики. Без них он и шагу ступить не может. А они-то и есть первые богохульники. Если поэты только издеваются над верой и прославляют вино, то эти его мауляны всерьез отрицают, прости мне аллах эти слова, бытие самого господа и вечную жизнь пророка его Мухаммеда. Так-то, мирза.
– Это правда? – быстро спросил Лятиф.
– И должен сказать вам, народ этим очень обижен, – гнул свое калантар. – Так разве правильно будет, если и мирзу Абд-ал-Лятифа станут видеть у мехов да кувшинов с вином? Не секрет, что в Герате и у них в Самарканде свободнее смотрят на мирские утехи, чем в других государствах пророка. Все немного грешны, все охочи до сладостной влаги, веселящей сердце. Но пусть народ видит, что молодой государь чтит религию, на которой стоит государство. Ныне, когда правитель Самарканда преступает запреты ислама, нарушает обычаи, это особенно важно. Пусть поэты читают стихи у фонтанов, пусть струится вино и под чинарами пляшут обнаженные пери – кто б поставил все это в вину Улугбеку? Но его разговоры о боге, о звездах, о мирах во Вселенной, эта обсерватория – капище зла… Тут сливается все воедино. Если ж вы, молодой государь, своей праведной жизнью продолжите примеры почитания корана, все преграды падут перед вами.