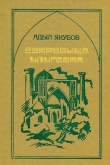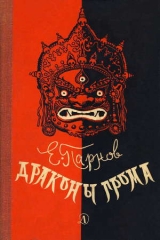
Текст книги "Драконы грома"
Автор книги: Еремей Парнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Играя на исконных противоречиях между китайцами и тибетцами, между далай-ламой и панчен-ламой, империалистическая агентура стремилась обострить и без того взрывоопасную обстановку в «сердце» Азии. В среде реакционного духовенства и феодалов не раз вспыхивали мятежи против новой администрации, составлялись различного рода петиции об отделении и так далее. Все это, однако, не получало широкой поддержки народа, поскольку наиболее активное население Кама еще не оправилось от шока поражения, а соглашение от 23 мая 1951 года, предусматривающее тибетскую автономию, пусть чисто формально, но все же учитывало традиции и социально-экономические особенности древней страны. В этом соглашении из семнадцати пунктов прямо говорилось о том, что центральные власти не будут изменять политическую систему Тибета и с уважением отнесутся к религиозным верованиям и обычаям тибетцев.
Правительство далай-ламы отдавало себе отчет в том, что соглашение было лишь временным, компромиссным. Но если бы китайцам не было дано согласие разместить в Тибете войска, они бы сделали это силой. В Лхасе и без того находился уже внушительный гарнизон. Не прошло и года, как по приказу Пекина организовался Тибетский военный округ и началось спешное строительство стратегических дорог Яань – Лхаса и Сикан – Лхаса. Была проложена и регулярная линия воздушных сообщений. Юрисдикция далай-ламы была ограничена центральной областью Уй, область Цзан полностью отошла к панчен-ламе, а район Чамдо управлялся непосредственно из Пекина. И вообще весь Тибет оказался разделенным на несколько самостоятельных автономных округов.
К 1956 году все было готово для образования Тибетского автономного района. В июне 1958 года в Лхасе были открыты отделения Верховного суда и Прокуратуры КНР. Работы им хватало. Стихийные восстания вспыхивали одно за другим почти повсеместно. На сей раз агентам зарубежных спецслужб не приходилось разжигать недовольство. Забегая вперед, приведу одно из признаний далай-ламы, сделанное в частной беседе четверть века спустя:
«Я верил в обновление жизни и не боялся перемен. Я даже подумывал о вступлении в коммунистическую партию, но жесткая и оскорбительно-грубая политика ассимиляции, которую начали очень скоро проводить китайцы, настроила меня отрицательно».
Тогда еще далай-лама, как и многие, не видел разницы между подлинным марксизмом и маоизмом. В одном из интервью, данном в 1978 году, он уже вполне определенно отозвался на этот счет…
Свой побег он задумал давно, но долго не мог решиться покинуть страну, где все было знакомо и дорого до боли: вещие камни с заклинаниями, бурные реки, вращающие молитвенные колеса, косматые яки, несущие через заснеженные перевалы вьюки отпечатанных с древних досок священных книг. В Индии, куда он прибыл по религиозным делам в середине пятидесятых годов, он все же принял решение не возвращаться. Но Чжоу Эньлай, спешно пролетевший за ним на специальном самолете, заверил его, что эксцессы и трения – явление временное и «поток скоро войдет в свои берега». Двадцатилетний юноша, для которого сама мысль о долгой разлуке с родиной казалась нестерпимой, дал себя уговорить и вернулся. Существенных изменений, однако, не последовало. «Поток» же действительно вскоре обрел точно очерченное русло традиционной великоханьской политики.
Об автономии, обещанной по соглашению «О мероприятиях по мирному освобождению Тибета», более не упоминалось. Представитель центрального правительства в Лхасе Чжан Цзинъу туманно высказывался насчет специфических условий Тибета, которые не благоприятствуют скорейшему введению «демократических преобразований».
Положение ухудшалось с каждым днем. В Лхасе, где по-прежнему пышно справлялись ламаистские праздники, далай-лама стал чувствовать себя пленником. В роскошной, не похожей ни на одно строение в мире Потале, в ее центральном красном дворце, суровом и неприступном, как скалы, он почти физически ощущал, как затягивается ловко наброшенная петля. Душит Страну снегов, сдавливает его собственное горло. С двух лет приучали будущего властителя не отделять себя от Тибета, от ламства, от всех живых существ, вовлеченных в круговорот буддийского колеса. Он так и мыслил, так и чувствовал. Когда ему было весело, он думал, что смех звучит в каждом тибетском доме; когда приходило страдание, то и оно мнилось всеохватным. Меркло невероятное, разрывающее душу закатное небо в узких окнах Поталы, вместе с черно-зеленой ночью на землю изливалась печаль.
Так его воспитали, так он привык думать и ощущать.
Лишь потом, на чужбине, пришло прозрение, и властитель судеб и душ понял, что он лишь лист, оторванный от родимого дерева, простой тибетец.
В марте 1959 года его пригласили посетить штаб-квартиру Тибетского военного округа. Одного, без свиты, без сопровождения дворцовой гвардии. Даже понаслышке знакомый с историей пекинских властителей человек и тот едва ли усомнился в истинном смысле подобного приглашения. Далай-лама был горд, и его воспитали в бесстрашии. Он склонялся к тому, чтобы пойти. Разумеется, с подобающим положению эскортом. Не ради безопасности, ради чести.
Поделившись соображениями с членами своего кошага, он натолкнулся на решительное «нет».
– Вам не следует идти туда, ваше святейшество, – выразил общее мнение один из колонов. – Отнюдь. Всем нам необходимо как можно скорее бежать отсюда. Более не откладывая ни на минуту, мы должны привести в действие наш план.
План действительно был разработан и, насколько можно было, выверен. Успеху не благоприятствовало лишь время года: перевалы на индо-тибетской границе еще были прочно забиты снегом, и яки – удивительные полудикие звери, способные идти по голому льду, – превращались по весне в озлобленных демонов упрямства и неповиновения. Но положение требовало мгновенных решений: либо одно, либо другое – третьего не дано.
И далай-лама решился. 17 марта он вместе с приближенными тайно оставил Лхасу и предпринял свой беспримерный пятнадцатидневный переход через Гималаи.
Я был приблизительно в этих местах со стороны Индии и видел заледенелую мертвую планету. Даже синие клубы тумана в ущельях казались оцепеневшими от стужи и безмолвия. Впрочем, безмолвие давило уши лишь днем, когда в разноцветном дыму поднималось над сверкающими вершинами разбухшее пунцовое солнце, окруженное венцом ложных двойников, бросающих на снег невероятные тени, порождающие фантастические миражи. Но стоило ему закатиться, упасть в лиловый провал за восьмитысячники Непала, как космическая, прорезанная немигающими звездами ночь оглашалась зубовным скрежетом, стоном и воем. Казалось, все устрашающие демоны ламаизма, вырвавшись на свободу, витали над тускло синевшими кручами, похожими на лунные цирки. Это стенали терзаемые подвижкой льды, корежа устоявшийся наст, и выли заметавшие трещины вьюги.
За несколько дней до бегства далай-ламы жители Лхасы подняли вооруженное восстание. Оно было жестоко подавлено в ходе кровопролитных уличных боев. Следом за духовным руководителем двинулось к индийской границе около ста тысяч тибетских беженцев. Почти все они и поныне живут на чужбине, мечтая когда-нибудь вернуться в родные долины, где птицы и те вскормлены плотью далеких предков.
Во время поездок по Гималаям мне удалось посетить лагеря и поселки, в которых жили тибетские беженцы. Из бесед с ними я многое узнал об упорном сопротивлении гордого, дорожащего своей самобытностью народа великодержавным шовинистическим устремлениям Пекина. В маленьком, возведенном на скорую руку монастыре я поинтересовался, где находится панчен-лама, и получил ответ, поразивший меня глухой безнадежностью:
– Этого не знает никто.
Ныне мы знаем, что Десятый панчен Лобсан Ринласун-дуб чойчжи-чжалцан (род. 1938) свыше десяти лет провел в специальной коммуне по перевоспитанию. В феврале 1978 года он был реабилитирован и вновь вышел на политическую арену. Собственно, с его заявления и начался новый раунд игры, которая велась все эти годы вокруг уединившегося в Дармасале далай-ламы.
Панчен пообещал, что все тибетцы будут приняты «надлежащим образом, если сойдут с неправильных позиций». Ему вторил Нгаво Нгагван-Джигмед, подписавший памятное соглашение 1951 года. В интервью с агентством Синьхуа он призвал далай-ламу вернуться и «покаяться». Представитель далай-ламы очень сдержанно отреагировал на подобные предложения:
«Нам и раньше предлагали это. Недостаточно простого заявления о том, что возвращение далай-ламы будут приветствовать, и, если они не разъясняют точно условий возвращения, мы не сможем сказать ничего определенного».
Разъяснений не последовало. Вместо них панчен-лама в интервью корреспонденту Франс Пресс призвал «старого друга далай-ламу» прекратить сопротивление:
«Я бы хотел сказать ему и другим тибетцам, находящимся за границей: отбросьте ваши сомнения и колебания, возвращайтесь на социалистическую родину».
Видимо, подобное увещевание могло оказать большее действие, если бы самому панчен-ламе было позволено вернуться в родной Шигацзе. Но даже его не пускают в Тибет, и он, подобно своему предшественнику, вещает с чужого голоса.
Что же происходит в Тибете в настоящее время?
Из Тяньцзиня туда направлено 100 кадровых работников, из провинций Хэбэй и Аньхой – соответственно 244 и 161. Цель, по заявлению китайского радио, «оборона границ». Завершено строительство нефтепровода Синьцзян – Лхаса, который позволит сосредоточить в Тибете крупные моторизованные силы и постоянные базы ВВС. Наряду с этим делаются широковещательные заявления об открытии Тибета для массового туризма, строительстве отелей, восстановлении храмов и монастырей. Китайская печать даже распространила сообщения об освобождении сначала 24 тибетских «преступников», затем еще 376 «мятежников».
Недавно я вновь встречался в Дели с тибетскими беженцами и спросил, что они думают по этому поводу.
– По меньшей мере девять тысяч тибетцев томятся в тюрьмах по политическим обвинениям, – сказал Дордже П., просивший не называть его полного имени.
– Партизаны устраивают китайцам нелегкую жизнь, – заявил Лобсанг Тимпа, президент конгресса молодежи.
Как же реагировал на перемены в Китае, тибетские «новости» и примирительные авансы сам далай-лама? В интервью корреспонденту журнала «Иллюстрейтед уикли оф Индия» он дал, как мне кажется, исчерпывающий ответ:
– Все это похоже на сцену – новые артисты приходят, старые уходят. А бывает и так, что один артист появляется в различных сценах в новом костюме и новой роли… Небольшая перемена произошла. Однако с уверенностью об этом сказать трудно. Ведь вы знаете, что и в прошлом там происходило много непредсказуемых и невероятных перемен. Сейчас произошла, видимо, какая-то перемена, однако китайский народ ею не удовлетворен. Так пусть же сначала он добьется удовлетворения.
И как бы окончательно ставя точку, ответил в журнале «Бунте» и на наиболее жгучий вопрос о возможном его возвращении: «Китайское правительство приглашает нас назад. Но взгляните, как оно поступило в отношении Вьетнама».
Накануне открытия конференции китайское посольство в Улан-Баторе обновило стенд, вывесив подборку снимков под заглавием «Освобожденные рабы Тибета». Счастливые, смеющиеся лица, безупречные национальные одежды, словно только что взятые из костюмерной, и дети, склонившиеся над букварем.
АБКМ сразу же после освобождения кампучийского народа от чудовищного режима Пол Пота направила в Кампучию и Вьетнам специальную делегацию, составленную из представителей пяти стран. Делегация привезла снимки иного рода: груды обожженных костей, вспоротые животы, руины на месте древних пагод в Лэнгшоне и Каобанге. Рядом с трибуной, с которой далай-лама произнес взволнованную речь о мире и счастье для всех народов, сидел кампучийский монах Лонг Сим, единственный уцелевший из восьми тысяч. Изможденный, с затянувшимися шрамами на лице, он не мог говорить без передышки более двух минут.
Геноцид, уничтожение тысячелетних памятников буддийской культуры, культуры вообще – вот почерк современного гегемонизма. Японские, индийские, монгольские делегаты, монахи из Шри Ланки и Лаоса единодушно заклеймили бесчеловечные преступления полпотовской клики, агрессию КНР против социалистического Вьетнама. Во многих выступлениях звучала тревога и за судьбу тибетской культуры, находящейся на грани уничтожения.
– Как вы расцениваете теперешнее положение в Тибете? – спросил я далай-ламу.
– Трудное. Долетающие оттуда вести свидетельствуют о том, что если и произошли какие-то перемены к лучшему, то незначительные. Нами движет тревога за судьбу нашей культуры, религии, самой нации.
– Как вам конкретно рисуется будущее вашего народа?
– Мы должны стать современной и динамичной нацией. Когда это произойдет, сказать трудно, но это произойдет.
– Короче говоря, вы взираете на будущее с оптимизмом?
– Безусловно.
Я подарил ему свою книгу «Бронзовая улыбка» – о старом Тибете и далай-ламах. Увидев на обложке яка, он буквально озарился:
– Это як! – Мои несравненные горы!
– Теперь я знаю улыбку далай-ламы, – сказал я, когда он попросил перевести название. – Могу лишь сожалеть о неточном заголовке.
– Вспоминая о прошлом, не угадать будущее. – В его приветливых, теплых глазах мелькнуло мальчишеское озорство. – Но зная будущее, можно не вспоминать о прошлом. Не все далай-ламы были похожи на Шестого, поэта и весельчака.
– Читая теперь его любовные песни, я все-таки буду вспоминать улыбку Четырнадцатого… Напишите мне что-нибудь на память, если возможно.
Он взял красочную литографию с призывом о мире, на которой в традиционно буддийском стиле была изображена рука с чудесным цветком в удлиненных пальцах.
«Пусть все, поднявшие мечи, побратаются с цветами в руках», – было написано на небесной голубизне.
– Не достигнешь цели, если не пройдешь до нее необходимого пространства, – то ли прокомментировал далай-лама, то ли просто привел народную поговорку.
Беглым тибетским шрифтом он написал благопожелание.
– Это, – объяснил, ставя внизу автограф, – означает «далай-лама», а это – имя: Нгаван Лобсан Донцзан-чжамцо.
На аэродроме его провожали верховные ламы Монголии, Ладакха, Бурятии, бутанцы, тибетцы. Ветер развевал алые тоги. Сомкнув пальцы рук, ламы шептали о благополучии в пути. Вдали, как та желтая лента, простиралась выжженная степь, а над ней синело безоблачное небо. Не хватало только руки с цветком. Но был самолет, который, оторвавшись от желтого, нырнул в голубое.
Я следил за ним, сколько мог, стараясь запомнить пословицу, которую слышал от Тхубтена Джигме Норбу, видного лингвиста из университета в Индиане и старшего брата далай-ламы.
«Мышь с сильным сердцем может поднять слона».
Необоримая сила сердца…

Истоки легенд
Рассказы

Чандамани


Когда последние пашуната – подвижники Шиваиты – покинули пещеру, старый брахман начал готовить владыку к вступлению в спальню. Расколов перед статуей кокос, он положил в обе половинки дикие яблоки бильвы, посвященной Шиве, и налил в золоченые лампадки свежего масла. В тайном помещении, где стояла круглая каменная плита, отверстие которой пронзал черный столб, отполированный поцелуями и засыпанный лепестками, он приступил к вечернему обряду ради благополучия всего мира. Приняв асану лотоса и впав в прострацию, старик сосредоточился на почитании священного слога «ОМ», дабы защитить все живое от надвигающейся темноты и вреда, который несут бесы и демоны ночи.
Раньше, когда брахман был молод, вечерний обряд заканчивался бурной пляской храмовых танцовщиц. Но вот уже много лет, как деревни вокруг обеднели, и все танцовщицы разбрелись кто куда. Старик не жаловался и ни о чем не сожалел. Он был даже доволен, что в одиночестве выполняет многотрудные обязанности, которые связаны со служением в пещерном храме. Очнувшись от транса, он сто восемь раз явственно произнес: «Ом намашивая»[2], нанес тилак[3] и, задернув занавесь, отправился домой, чтобы передохнуть часок перед обрядом почитания стражей стран света, которым положено кадить ароматным дымом.
У бога, которому он поклонялся, была тысяча и еще восемь имен. И каждый раз старик старался назвать его по-новому: то нарекал кумира Владыкой Третьего Неба, то Шарвой-разрушителем, который убивает стрелой, то Махешварой, что означает просто «великий бог». Были и другие имена: Амаракша – повелитель богов и Шамбху Милостивый, Истинный Повелитель и Долгокосый, Шамбху Могучий и страшное имя Бхайрава, которое рискованно было произносить всуе. Но чаще всего старый жрец называл своего господина Четырехруким, потому что у храмовой статуи было четыре руки, и Владыкой танца, так как бог танцевал на поверженном карлике, и Трехглазым, ибо сияла у него во лбу огненная звезда. Давным-давно, когда люди и боги еще жили вместе, Парвати, жена Владыки, играя, закрыла ему глаза своими ароматными ладонями, и мир погрузился в кромешную тьму. Тот самый мир, ради благополучия которого Шива выпил яд, отчего горло его стало навеки синим. Тогда-то, дабы не оставить людей без света, он зажег свой третий, надбровный глаз. Впоследствии в минуты гнева и раздражения он неоднократно испепелял этим нестерпимым светильником демонов и людей, других богов и даже целые миры.
Еще у него было имя – Обладатель Восьми Форм, упоминать которое дозволялось только брахманам высших степеней, а также отшельникам, предающимся размышлениям о первопричине всего сущего и его конце. В восьми этих формах заключалось все, что движет мирами: Земля – Шарва, Огонь – Пашупати, Вода – Бхава, Солнце – Рудра, Луна – Махадева, Ветер – Ишан, Пространство – Бхава и Угра – Жертвователь, понятие, включающее в себя обязанности человека по отношению к высшим силам.
От пещеры до хижины жреца было ровно тысяча восемь шагов, что позволяло ему не упустить ни одного имени Шивы, которое уже само не явно содержит все другие имена. Но последнее время брахман начал сбиваться и путать. Такое свое состояние он объяснял не слабостью памяти, а недовольством Мстительного Владыки, который скучает в одиночестве. Сбившись в подсчете шагов и прозвищ, старик начинал воображать, что именно говорит и делает в эти минуты Шива. Порой он настолько забывался, что кощунственно присваивал себе права патрона и начинал бормотать:
– Я Шива Натараджа Четверорукий Владыка танца! Я танцую, и все мироздание вторит мне. Вот приподнял я правую ногу, легко отклонился назад, весь равновесие и совершенство, и небесное колесо пришло в движение, закружилось, мерцая факелами звезд. Мой танец пробуждает творческую энергию Вселенной, он зовет из мрака невежества и лени к животворному всеочистительному свету, который изливает вечный костер, пылающий у меня на ладони. От меня исходит грозная сила. С моих волос срываются молнии. Электрические вихри бушуют вокруг меня. Левой ногой я попираю ленивого карлика, имя которому Майялака. Подобно жирному пауку, плетет он паутину недоверия, иллюзии и темного зла. Он сон, а я пробуждение! Он лень, а я энергия! Он коварное наваждение, а я царь знания! Смотрите, каким магнетическим светом озарена моя голова! Слушайте, как рокочет барабанчик дамару под ударами моих пальцев. Я пробуждаю к бытию новые миры. Вибрация звуков врывается в холод и мрак первозданного хаоса. Так океанский ветер рвет в клочья низкие тучи и несет их в иссушенную зноем пустыню. Они прольются благодатным дождем, плодотворящим жизнь, и я, Шива, пробьюсь сквозь землю первым зеленым ростком! В звоне моих запястий слышен гимн плодоносящей силе. Я прекрасен и страшен, беспредельно милостив и беспощаден. Ничто не минует моего всеочистительного костра. В урочный час все атомы бытия будут уничтожены в пламени, все миры. Я непостижимое единство. Во мне слились все изначальные противоборства: бытие и небытие, свет и тьма, мужские и женские начала вещей. В мочке моего правого уха – длинная мужская серьга, круглая женская серьга – у меня в левом ухе. Ибо един я, и моя женская энергия – шакти – предвечно во мне. Я танцую, и рука моя обращена ладонью к вам. Это абхайя мудра – жест уверения и покровительства. Все, кто знают язык пальцев, созданный мной, поймут меня. Все, кто идут к совершенству по ступеням моей йоги, сольются со мной. Прекрасная кобра обвивает мой локоть. В стремительном танце она развевается и летит по кругу, как газовый шарф. Моя змея, моя опасная энергия, мое воплощение. Ожерелье из черепов подпрыгивает у меня на груди, когда я танцую. Это мертвые головы великих и вечно живых богов. В них непостижимая тайна круговорота миров и вещей, совершенствования и разрушения Вселенной. Один мой глаз – живительное Солнце, другой мой глаз – влажная плодотворящая Луна, горящий над переносицей третий мой глаз – Огонь. Головы Брахмы, Вишну и Рудры, как пустые кокосы, гремят у меня на груди, всевидящее сердце Агни пылает над моими бровями. Что перед испепеляющей мощью его сияние звездных факелов? Что перед ней даже Солнце в зените? Гневная вспышка надбровного глаза ослепляет ярче тысячи солнц…
Так напевал, танцуя, Владыка танца, но никто не слышал и не видел его. Вернее, так понимал неподвижный танец и безмолвную песню бронзового изваяния престарелый жрец.
В пещере, где стояло оно в отдаленной нише, было сыро и сумрачно. Красные огоньки курительных свечек едва мерцали в душном клубящемся тумане. С каменных сводов, отшлифованных временем и водой, с их бесчисленных, напоминающих дупла баньяна складок поминутно срывались тяжелые капли. Разлетаясь известковыми брызгами, образуя в пещерном поде причудливые столбы и глубокие каверны, они превращались в холодный туман. Поднимаясь вверх и остывая, он оседал на складчатом своде, чтобы вновь и вновь проливаться дождем. Удары отдельных капель и еле слышный шелест тоненьких быстрых струек сливались в один приглушенный шум. Может быть, престарелый брахман – хранитель пещеры – и различал, пока окончательно не оглох, в однообразной мелодии дождя бой барабана и звон запястий своего божества, но ныне некому стало слушать Шиву.
Брахман все чаще и чаще отлучался из храма. От вечной сырости и могильного холода, которые источали камни, он стал задыхаться и кашлять, нажил ломоту в костях и жестоко мучался от постоянных прострелов. Поэтому и предпочитал старый жрец ночевать в уединенной хижине на высоких сваях, под непромокаемой кровлей из рисовой соломы. Там было сухо, тепло, смолисто пахли всевозможные снадобья, завернутые в банановые листья, и не тревожили душу красноватые огоньки курительных свечек, столь похожие на глаза крокодилов.
Задернутый покрывалом из крашеного пальмового волокна, Шива подолгу оставался теперь один в своей каменной нише. Согнув правую ногу в колене и оттянув книзу носок, он готовился начать свой сокрушающий миры танец, и верная кобра в стремительном отлете очерчивала ему магический круг. Владыка не мог пожаловаться на нерадивость своего служителя. На каменном алтаре исправно тлели сандаловые свечи; деревянные блюда благоухали горками живых цветов: влажных орхидей, фиолетовых, с нежными, быстро вянущими лепестками миртов, белых восковых пипал с розовым зевом, чье дыхание горько и сладостно, как вода в джунглях; в кокосовых чашках лоснился золотой от шафрана рассыпчатый рис; гроздья округлых королевских бананов и зелено-розовые плоды манго казались только что сорванными с деревьев.
Но, бронзовый и неподвижный потому, Владыка танца тосковал от одиночества. Его лик, прекрасный и ужасающий, надлежало скрывать от простых смертных. Лишь в праздник шива-пуджу, в день большого поклонения, старый жрец поднимал покрывало и демонстрировал грозного бога восторженной толпе. Это случалось всегда в одно и то же время, когда солнце, поднявшись над исполинскими травами горных джунглей, заглядывало в пещеру. Его лучи ударяли в надбровный глаз Шивы, и он вспыхивал в ответ кровавым яростным блеском. Казалось, Натараджа стремился испепелить и людей, и джунгли, и всю Вселенную. Тамилы[4] в ужасе закрывали глаза и падали ниц на мокрый и скользкий камень. Когда спустя некоторое время они робко приподнимались и разлепляли непослушные веки, в пещере стояла полная темнота. Некоторые принимались в ужасе рвать на себе одежды и стенать, что ослепли навек. Но мрак постепенно начинал приобретать красноватый оттенок, в котором уже можно было различить знакомые очертания алтаря, и люди успокаивались. Наиболее проницательные догадывались, что в тот самый миг, когда Шива являл себя народу, жрец опускал покрывало и гасил в чаше с песком алтарные свечи. За это время солнце поднималось выше и уходило в сторону, отчего в пещере становилось темно как ночью.
Зато снаружи ночь превращалась в день. Покинув пещеру, жители деревни зажигали факелы, и начиналось большое гулянье. Тамилы танцевали, пели, лакомились сладковатым пальмовым вином. До утра не смолкали флейты и барабаны, и далеко в джунглях трубным зовом откликались потревоженные слоны.
Но что за дело было Шиве до посвященного ему празднества, если сам он при этом оставался в полном одиночестве? Раньше хоть жрец не покидал его в такой торжественный день. Возился за покрывалом, что-то переставляя на алтаре, бормоча себе под нос, сжигал в жертвеннике ароматную очистительную траву. Но теперь и он уходил из пещеры вместе с народом. И пока в деревне длился пир, старый брахман, кряхтя, натирал ноющую поясницу соком камфорного дерева. Уж он-то знал, что утром предстоит основательно поработать! Больше всего хлопот доставит, конечно, молодежь. Столько романов завяжется в колдовскую, наполненную мерцающими вспышками светляков ночь, что и за целый год не распутаешь… Старики тоже не оставят его в покое. С рассветом даст знать о себе пальмовое вино. У одних разболится голова, другие начнут жаловаться на рези в желудке. И всех их придется лечить ему, старому Рамачараке, который живет близ деревни Ширале, окруженной травяными джунглями, скоро уже сорок лет… Но ничего, он не боится повседневных забот. Лишь бы все кончилось благополучно.
Не все возвращались под утро в свои дома. Следы пропавших терялись в джунглях или на берегу реки, покрытой зеленым цветущим ковром. И хотя старик догадывался, что старого гончара задрал леопард, а дочь старосты утащил в воду большущий крокодил, который любит погреться на солнышке возле упавшего дерева, он всех отсылал к Шиве. «Это Шива забрал твоего Чандру», – утешал он вдову гончара. «Шиве понравилась наша Лакшми, – терпеливо успокаивал убитого горем старосту. – Не надо плакать. Она пьет сейчас из чаши богов амриту бессмертия».
Он так привык вещать от имени Четверорукого танцора, что и сам верил сказанному. Не беда, коли мешочек, в котором Чандра хранил бетель и плоды арека для жевания, нашли потом возле дерева, изодранного когтями большущей кошки, а на прибрежный песок выбросило клочок золотистого сари. Разве не все на земле вершится единой волей танцующего Бога? Разве не все мы являемся эманацией его творческой энергии?
С заходом солнца брахман повесил гирлянду цветов на серый термитник, под которым поселилась длинная кобра. Теперь это место сделалось священным. Конус термитника – тот же лингам Шивы, символ его производительной мощи.
Видно, сам Шива послал сюда Нулла Памбу – кроткую змею. И когда?! В самый канун Нага-Панчами – большого праздника змей! Это ли не знак благоволения Владыки танца к жителям деревни? Значит, их жизнь угодна богам! Да и могло ли быть иначе? Люди здесь тихие, работящие. Они безропотно принимают удары судьбы, смиренно несут кару за ошибки и прегрешения предшествующих перерождений. Старый Рамачарака знает их всех: и старых и малых. За каждого выступает защитником перед Четвероруким разрушителем миров. В столь очевидной милости неба есть и его заслуга. Он ревностно выполнял свое предназначение, и этого у него не отнимешь.
Закончив растирание, он совершил надлежащий обряд омовения и, помолившись, насыпал в сплетенное из ротанга блюдо горку вареного риса. Любовно украсил ее фруктами: разрезанным на две половинки спелым манго, очищенными бананами, красными, пронзительно-кислыми ягодами. Наполнил кокосовую чашку козьим молоком.
Держа блюдо на вытянутых руках, осторожно спустился по лестнице и заковылял к термитнику. У темной норы он опустился на колени и позвал змею:
– О уважаемая Нулла Памба, посланница Шивы, о царица всех Нагов, отведай кушаний, которые принес тебе твой слуга!
В дыре под термитником ничто не изменилось. Не пошевелились даже тонкие мохнатые волоконца корней в растресканной, как камень, твердой красной земле.
Старик нагнулся еще ниже и, отставив блюдо в сторону, одним глазом заглянул в темноту.
Змеи он не страшился. Брахманы – служители Шивы вообще не ведают боязни, что не мешает, конечно, проявлять разумную осторожность. Рамачарака знал, что кобра никогда не атакует без надлежащих приготовлений. Сначала она должна приподняться над землей и раскрыть свой капюшон, на котором сам Шива нарисовал вещие глаза, и лишь потом, сделав два-три предупреждающих броска, начать настоящий бой. Недаром же в народе она зовется кроткой, благородной змеей. Кобры берегут свое страшное оружие. Прежде чем пустить в ход ядовитые зубы, они часто бьют головой, не раскрывая пасти, отгоняют в сторону зазевавшегося человека или неосторожную козу. Жители Ширале с незапамятных времен дружат со змеями. Едва ребенок становится на ноги, ему суют в руки первую игрушку – пестрого водяного ужа. К семи годам он уже будет знать, как следует обращаться с самой ядовитой змеей.
– Яви себя, о уважаемая Нулла Памба, – вновь позвал старик и бросил в нору горсточку риса.
Он хорошо знал, что в этот день, канун священного праздника Нагов, в каждом доме приготовлен горшок, в котором под ротанговой крышкой скрывается кобра. Завтра чуть свет крестьяне с горшками в руках придут к пещерному храму. Под грохот барабанов и хриплый рев морских раковин каждый покажет свою змею божеству. Но первую кобру возьмет, как предписано ритуалом, за самый кончик хвоста, с глубоким поклоном отдаст Владыке всех Нагов именно он, брахман Рамачарака. И хотя в его хижине уже припасен горшок со змеей, хорошо бы показать Шиве именно эту, которую Владыка сам послал в Ширале. То-то будет смеха и возгласов удивления, когда женщины увидят, что самую большую змею поймал не кто иной, как старый жрец!
Старику нестерпимо хотелось завладеть Нулла Памбой. Суетное искушение оказалось настолько сильным, что он, позабыв все правила приличия, зашептал:
– Ну выходи же, выходи! Чего ты медлишь! Разве тебе не ведомо, что в Ширале не был обижен ни один из твоих сородичей? Завтра, как только солнце достигнет зенита, я отпущу тебя на волю! Я сам отнесу тебя обратно, к термитнику, Пойдем со мной, благородная Памба! Женщины осыпят тебя рисом, сваренным с шафраном и кардамоном, прочтут в твою честь молитвы. Поверь мне, вместе с камфорным дымом они полетят прямо к Владыке всех Нагов, балдахином которому служит твой пятиглавый родич. Или ты не хочешь предстать перед ним? Боишься опаляющей вспышки его третьего глаза, красного, как Планета Огня? О, не бойся, прекрасная Памба! Разве ты не знаешь, что стремительная кобра уже обвивает его неутомимые чресла? Поспешай же к твоему слуге, о божественная энергия!