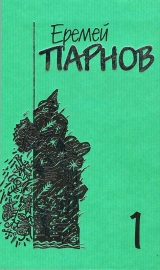
Текст книги "Собрание сочинений в 10 томах. Том 1. Ларец Марии Медичи"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Глава 14
Священное животное

Когда Люсин следом за Львом Минеевичем раздвинул гремящую занавеску и вошел в комнату, им навстречу поднялась разгневанная сиделка:
– Что же это получается такое? А?
– Разве я опоздал? – забеспокоился Лев Минеевич. – Сейчас, по-моему, и шести еще нет. – Он вынул из кармана старый брегет и щелкнул крышкой. – Так и есть! Двадцать минут пятого.
– Да не про то я! – досадливо отмахнулась сиделка. – Тут же полно кошек! – Она похлопала себя по солидной груди. – Я их и так терпеть не люблю, а тут полюбуйтесь!.. – Она указала куда-то в противоположный угол. – Полюбуйтесь!
Лев Минеевич и Люсин последовали настоятельному приглашению и увидели на полу белую тощую кошку. Она лежала на боку, вытянув лапы, и, судя по откинутой голове, была мертва.
– Это же Саския! – всплеснул руками Лев Минеевич. – Что же с ним? Бедное животное! Бедная, бедная Верочка…
– Не знаю, кто здесь бедный… – сиделка энергично замахала рукой, будто ковер выбивала. – Только я здесь не останусь ни на минуту. Мало того, что делаешь людям одолжение, с работы ради них срываешься, так тут еще дохлые кошки! Как вам это понравится?! То-то, чую, запах какой-то вонючий. «Не может быть, думаю, чтоб это от кошек. Кошки так не пахнут, хотя и противные». Принюхалась, принюхалась и – нате вам! – нашла в углу: лежит себе, околела! Чтобы я после этого кого послушалась? Да ни в жисть! Сейчас же ухожу…
– Никуда вы не пойдете! – с неожиданной твердостью остановил ее Лев Минеевич. – Оставайтесь на своем посту! Этот товарищ – он небрежно кивнул на Люсина – из милиции.
– А мне плевать! – Она глубоко вдохнула воздух, словно и впрямь собиралась плюнуть как можно дальше. – Мне за это зарплату не прибавят, – добавила она, печально выдохнув. – У меня у самой, может, мальчик больной… – Она вдруг зашмыгала носом. – Ножки у него не ходят, так и то посидеть с ним некогда… Работаю, как медведь.
Лев Минеевич беспомощно развел руками и умоляюще посмотрел на Люсина.
– Не расстраивайтесь, мамаша. – Люсин осторожно погладил ее по спине. – Надо ведь подежурить, раз такой критический случай. А насчет денег не беспокойтесь – это мы сделаем!
– Так я их терпеть не могу, кошек этих! – сказала она, усаживаясь.
– Я тоже, – сказал Люсин, наклоняясь над Саскией.
Бедняга скончался, видимо, под утро, а может, и ночью. Глаза его помутнели, и внутренний свет их погас. Они казались огромными, эти расширенные внезапной смертью глаза.
Люсин уже знал от врача все подробности утреннего переполоха. Но сейчас, рассматривая Саскию, он усомнился в правильности диагноза.
«Старуха могла, в конце концов, отравиться и колбасой. Кошка доела остатки и околела. Так хоть концы с концами сходятся… А то чего вдруг, спрашивается, она подохла? Не от испуга же…»
– Где у нее холодильник? – спросил он.
– Вы хотите положить его в холодильник? – ужаснулся Лев Минеевич.
– Нет, – поморщился Люсин. – Я хочу узнать, нет ли в холодильнике остатков колбасы.
– У нее нет холодильника. – Он указал глазами на софу, где лежала неподвижная и безмолвная Вера Фабиановна. – Все остатки – на столе. Я знал, что они вам понадобятся… – Он гордо взглянул на сиделку. – И велел все сберечь, как есть.
– Боюсь, что эта колбаса слишком долго пролежала в тепле, – вздохнул Люсин. – Но анализ мы на всякий случай все же сделаем… А где остальные кошки? – Благодаря Льву Минеевичу он был уже прекрасно осведомлен о комнате и ее обитателях.
– Шляются туда-сюда! – встряла в разговор сиделка.
– Кис-кис-кис! – позвал Лев Минеевич, приманивая кого-то невидимого согнутым указательным пальцем.
На зов явилась только шелковистая черная кошка с янтарно-зелеными глазами. Она бесшумно спрыгнула откуда-то сверху и прогнулась вся, вытянув вперед лапы. Царапнула пол и, спрятав когти, потерлась вдруг мордой о ногу Люсина. Но тут же отпрыгнула в сторону, зашипела на мертвого Саскию и полезла под софу.
– Похоже на то, что разбежались кошечки, – заметил Люсин.
– Да, – согласился Лев Минеевич. – Я лично только Леонида сегодня видел.
– А вы, случайно, не знаете, как реагируют кошки на смерть своих товарищей?
«Фу ты, как глупо сказано! И все ведь знать надо, черт его дери!»
– Не знаю, – вздохнул Лев Минеевич. – Наверное, они печалятся.
«Держите меня, ребята, или я сейчас что-то над собой сделаю, как говорил мой кореш Жора Васильков… Что-то неладно с этой кошкой. Тут, пожалуй, не в колбасе дело. Вроде ее удушили. Жаль, неизвестно, кого принимала вчера старуха. Он и ее мог удушить. По пьянке… – Люсин покосился на бутылку. – Нет, мало слишком, капля одна… Хоть и есть такие, что кошек по пьяной лавочке душат или в собак стреляют, но им для этого побольше надо, что-то в районе кило…»
Он осторожно взялся двумя пальцами за кончик мохнатого уха и приподнял кошачью голову.
«Явно задушена кошка. Зверски задушена. Словно кто-то полотенце вокруг нее затянул».
Он разжал пальцы и брезгливо потер их, словно стирал прилипший к ним смертный холод.
«И чего это я сразу за кошку принялся? Ах да, сиделка подсуропила, хотя, конечно, спасибо ей: может пригодиться».
– Где этот ларец стоял? – спросил он, выпрямляясь.
– Вон там. – Лев Минеевич кивнул на свернутый гобелен. – Он был этим покрыт, а сверху обычно лежали кошки.
На полу явно различался темный и пыльный прямоугольник.
– Такой большой? – спросил Люсин.
Лев Минеевич кивнул.
– Разве это ларец? Это целый ларь! Сундук, можно сказать.
– Так он везде называется, – вздохнул Лев Минеевич. – Ларец Марии Медичи.
– Где же это везде?
– Во всех антикварных каталогах мира.
– Ух ты, как громко!
– Да, – просто ответил Лев Минеевич. – Ларец Марии Медичи.
– Я не про это, – усмехнулся Люсин. – Ларец – это не громко. Я про весь мир.
– Он и вправду всемирно известен. Ради Бога! – Лев Минеевич умоляюще сложил руки у подбородка. – Разыщите его, иначе она умрет. Никакие доктора ей не помогут, никакие лекарства! Без этого проклятого сундука она не станет жить.
«В том-то и дело, что сундук… За ним-то он и охотился. Только зачем он, скажите на милость, в мебельный полез? Не знал настоящего адреса? Надеялся на случайность? С трудом что-то верится… Нет, все он знал распрекрасно! И водка эта его! Это из его купленных на валюту московских запасов… Неужели этот гад, пока мы тут с ног сбиваемся в поисках, где-то бродит, обкрадывает старух и душит котов? Прямо чертовщина какая-то! Ведь это он, он – поскольку некому больше! – был здесь вчера вечером! Ах, мразь какая! Ну и мразь! Но на что надеется? Как думает выбраться из страны? Нет, не такой он пентюх, чтоб надеяться на чудо. По лезвию ходит, знает, что по пятам за ним идут. В чем же здесь дело? Неужели и впрямь этот сундук оправдывает любой риск? Ничего, решительно ничего я в этом деле не понимаю…»
Люсин достал из портфеля пакет с гигроскопической ватой, разорвал его, осторожно собрал со стола и укутал в вату бутылку, рюмки, вилки и ложечки.
– Я знал, что это вам понадобится, – удовлетворенно заметил Лев Минеевич. – И велел, чтоб все осталось, как было.
– Спасибо, – сказал Люсин, приседая на корточки.
На полу хорошо были видны длинные полосы и царапины. «Не побоялся выволочь такую громадину! И как он только управился? В такси сундук явно не влезет. Значит, пришлось ему ловить левака… Грузовик, микроавтобус, по меньшей мере «пикап»… Неужели же никто этого не видел и не слышал? Или была у него наготове своя, договоренная, машина? Притом все произошло ночью, когда люди обычно спят… Все же надо будет хорошенько порасспросить соседей. Особенно эту Эльвиру Васильевну!»
– Какой высоты была эта штука? – спросил он, достав из кармана стальную рулетку.
Лев Минеевич подошел к прямоугольному отпечатку на полу и показал примерную высоту.
Люсин все вымерил и записал в блокнот. Потом приложил рулетку к притолоке и стал измерять дверь.
– Проходит? – осведомился Лев Минеевич.
– Проходит. С трудом, но проходит. – Люсин раздвинул занавес и вышел в коридор.
Сиделка, как завороженная, глядела ему вслед.
– Криминалистика! – приложив палец к губам, разъяснил Лев Минеевич. – Дедуктивный метод. Я это предвидел.
И милое, забытое детство открылось ему вдруг в пыльном солнечном луче. Он не помнил, а может быть, и вовсе никогда не знал, что представляет собой дедуктивный метод. Но разве это что-нибудь меняло? Слово утратило конкретный смысл, но отнюдь не умерло, напротив, оно расширилось и стало своею рода паролем. Он произнес его невзначай, а где-то, в уже несуществующем прошлом, кто-то откликнулся: Шерлок Холмс, Ник Картер, Этель Кинг, кольт, мокасины, бизоны, пещеры; словно пылинки в косом столбе света, танцевали и вспыхивали в памяти имена и названия, и были они столь же хаотичны, как пылинки. Но на душе стало грустно и хорошо.
Солнечный луч высветил на пыльном полу яркое мастичное пятно. Оно показалось Льву Минеевичу таким теплым и милым, что захотелось погладить рукой. Он и в самом деле нагнулся и потрогал нагретый солнцем паркет.
– Что это вы делаете, Лев Минеевич? – спросил, возвратившись, Люсин.
– Я? – испуганно обернулся застигнутый врасплох старик. – Я, видите ли, осматриваю место… Может, злоумышленник что-нибудь случайно обронил. Или следы какие оставил.
– Ах вон оно что… Ну-ну… Простите, можно вас на минутку? – Он наклонился к сиделке и поманил ее в коридор.
Тщательно прикрыв за собой дверь, чтоб ненароком не услышала больная, он тихо спросил:
– Ну, как вы ее находите?
– Плоха она! – решительно заявила сиделка. – Нипочем не выживет.
– Почему вы так думаете?
– Полный паралич. Не пьет, не ест. В больницу ее надо, на искусственное питание. Только переезда она не перенесет.
– Значит, полагаете, спрашивать ее о чем-нибудь бесполезно?
– Мертвое дело. Ничего не соображает. Ее бы в хорошую больницу пристроить, может, и выходят… А так помрет ни за грош одинокая старуха…
– Так, значит… Ну что ж, в больницу, думаю, мы ее устроим. Ладно. Спасибо вам.
– За что спасибо? Мне-то что? – Она махнула рукой и ушла в комнату.
Люсин немного походил в одиночестве по коридору, посасывая занзибарский мундштучок и прислушиваясь к тихому жужжанию счетчика. «Грабитель – будем пока именовать так, хотя не исключено, что сундуком он мог завладеть и путем шантажа, – тащил добычу до самой подворотни. Там он, очевидно, погрузил сундук на машину. Далее следы, естественно, теряются. И напрасно Лев Минеевич все уши прожужжал про умную собаку-ищейку. Дальше подворотни она не поведет…»
Возвратившись в комнату, он решительно пододвинул стул к изголовью Веры Фабиановны, но сел весьма робко, на самый кончик.
– Вы видите меня? – спросил он, поймав ее напряженный и неподвижный взгляд. – Вы видите меня, Вера Фабиановна? – чуть громче повторил он.
Но ничто не шевельнулось в ее лице. По-прежнему она смотрела прямо в его глаза, но вроде не видела, а как бы проницала насквозь, будто был он для нее прозрачным духом.
– Вы можете закрыть глаза?
Старуха тут же сомкнула веки, но минуту спустя вновь уставилась на него трудным, проницающим взором.
Контакт все же оказался возможным, и Люсин облегченно вздохнул. Чтобы подбодрить для начала Веру Фабиановну, он решил внушить ей, что обязательно отыщет исчезнувшее сокровище.
– Я найду ваш ларец… – Он говорил медленно и настойчиво, как гипнотизер на сцене. – Я обязательно найду его! Вы понимаете?
Старуха с готовностью моргнула. Дело явно шло на лад.
– Вера Фабиановна! – Незаметно входя в роль, Люсин даже прижал ладонь к сердцу. – Я стану называть вам буквы в порядке алфавита, и, как только дойду до нужной, вы мне просигнальте. Так вы поможете мне узнать имя похитителя. Хорошо?
Сморщенные, пронизанные извилистыми малиновыми жилками веки чуть заметно дрогнули. Лев Минеевич, который, понятно, знал старуху куда лучше, чем Люсин, от удивления даже подался вперед. Сомнений быть не могло: Вера Фабиановна явно кокетничала. Даже на смертном одре она хотела остаться женщиной, которая нравится, чьи «нет» или «да» – это чет и нечет судьбы. Не более и не менее!
Да и что изменилось за эти тридцать или там сорок лет? Разве этот молодой человек с приятным, хотя и простоватым лицом не ждет от нее ответа с тем же напряжением, что и те, другие, чьих лиц и имен она уже не помнит? Что же изменилось тогда? Что?
О, если бы Люсин знал Веру Фабиановну так же хорошо, как Лев Минеевич… Он бы вскочил со стула и встал перед ней, как раньше говорилось, во фронт. Но нет, пожалуй, лучше бы он опустился на одно колено и склонил голову на грудь. А то и вовсе поклонился старухе в пояс…
Но он не знал ее и ничего не понял. Эти старческие сухие веки и беспощадные гусиные лапки у ее глаз ничего не значили для него, ни о чем ему не говорили. Дрогнув, опали и поднялись эти веки. Он увидел в том только согласие, не более. Да так оно, собственно, и было. Вера Фабиановна прекрасно поняла, чего он хочет, и была готова ему помочь. Вот и все. Остальное – только неосознанная дань привычке, инстинктивная, автоматическая, как застарелый условный рефлекс.
– А! – как на первом школьном уроке, произнес Люсин, широко раскрыв рот.
Веки не шелохнулись.
– Бе-е! – Он подумал, что ему здорово пригодилась бы сейчас школьная касса с буквами. – Ве-е!.. Ге-е!.. Дэ-э!..
Вера Фабиановна моргнула.
– Значит, «дэ»? – с надеждой оживился Люсин.
Она молча подтвердила.
Через три минуты он уже точно знал имя, и было оно: Д-И-А-В-О-Л.
– Вы хотите сказать, что ларец украл дьявол? – переспросил на всякий случай Люсин.
Старуха просигналила, что он понял ее совершенно правильно. Именно это она и хотела сказать.
– Так… – Он облизал пересохшие губы. – На сегодня хватит. Не буду вас больше утомлять. Отдохните хорошенько… Мы еще побеседуем.
И, стараясь не замечать пристального, требовательного взгляда старухи, которой необходимо было столько еще рассказать, он полез в свой портфель.
Великое благо грамотность! Особенно знание иностранных языков. Что бы делал без этого Люсин сейчас, в такую трудную для него минуту? Но внимательно следящий за международной прессой товарищ Люсин был на высоте. Достав из портфеля несколько заграничных газет, он аккуратно подсунул одну из них под Саскию, а другой накрыл его, как фараона в саркофаге, и быстро сварганил вполне приличный сверток.
– На предмет яда будут исследовать! – шепотом прокомментировал Лев Минеевич. Он весь так и лучился сопричастностью к высоким задачам и, само собой, пониманием величия этих задач.
Люсин взял портфель, сунул под мышку сверток и кивком вызвал Льва Минеевича из комнаты.
– Как вы думаете, она не тронулась рассудком? – Люсин покрутил рукой на уровне виска.
– Кто? Вера Фабиановна?! Ну что вы! Как можно! Она в здравом уме. Теперь я в этом не сомневаюсь.
– Тогда как это понимать?
– Насчет диавола, что ли?
– Именно?
– Вы же не дали ей договорить! То есть я понимаю, что так разговаривать очень трудно – по отдельным буквам, но все-таки надо иметь терпение. Притом у нее весьма своеобразный склад ума. Она гадалка как-никак, верит во всякие гороскопы и заговоры. И изъясняется она не всегда, как другие. Для нее все эти суккубы, инкубы и прочая нечисть вроде… близких, что ли… Уж не знаю, как вам сказать…
– А дьявол?
– Ну, не знаю… Это могло быть сказано фигурально…
– Хорошо. Я приду завтра с разрезной азбукой… Вы пока побудьте с ней, а я пришлю врача и сиделку.
«Утоплюсь. Вот пойду отсюда прямо к реке и прыгну с моста. Негоже, конечно, моряку тонуть в пресной воде… Только это и останавливает…»
Плотнее прижав локтем сверток с дохлой кошкой, Люсин пощупал свободной рукой глубокую, явно свежую борозду на стене лестничной клетки. Наверняка она была оставлена углом проклятого сундука.
Драгоценные трофеи этого нескончаемого душного дня он отвез в лабораторию. Пока объяснял, что и как, пока спорил и выслушивал мнения специалистов, подкралась гроза. За окнами потемнело, где-то вдали беззвучно вспыхивали розовые зарницы. Но ветра не было. Это предвещало длительный ливень.
Люсин не требовал от аналитиков невозможного, но расслабляющий зной и распространившаяся по территории Прибалтики и центральных районов европейской части Союза область депрессии делали свое дело. Рабочий день уже кончился, и никто не хотел брать новых заказов на завтра. Послезавтра – другой разговор. А тут еще электрический привкус летящей грозы… Тончайшие антенны человеческих нервов уже ловили сигналы ее далеких молний, а это, как известно, влияет на настроение.
И все же Люсину удалось, пользуясь привилегией особой срочности, оставить почти все свои сокровища в лаборатории. Почти! Потому что осложнения возникли из-за Саскии, которому не было покоя даже после смерти.
В Древнем Египте кошка считалась священным животным. Даже непредумышленное убийство ее каралось смертной казнью. Бальзамировщики-парасхиты проделывали с мертвой кошкой те же манипуляции, что и с почившим в бозе фараоном. Недаром современные археологи так часто находят саркофаги с кошачьими мумиями. Во всем этом был глубокий смысл. Ведь даже сейчас находятся люди, впадающие в дурное настроение при виде переходящей дорогу кошки. Поэтому можно только догадываться о той неистовой буре чувств, которую вызывала в душе древнего человека кошка мертвая. По широко распространенному в те далекие времена убеждению, она, не будучи похороненной согласно обряду, могла навлечь несчастье.
Люсин, понятно, не знал тайн парасхитов и, откровенно говоря, не собирался мумифицировать Саскию. Более того, он красноречиво убеждал людей в белых халатах подвергнуть труп священного животного немыслимому поруганию! Конечно, такое святотатство не могло пройти бесследно, и древнее проклятие сбылось.
Взять кошку на исследование отказались наотрез. Впрочем, надо сознаться, что в этом случае Люсин хотел от аналитиков почти невозможного. Увы, ему мало было обычных анализов: авторитетную экспертизу о причине преждевременной смерти Саскии он соглашался принять только в качестве программы-минимум.
Этот ослепленный гордыней человек требовал… Он даже осмелился подкрепить свои неслыханные домогательства телефонным звонком высокому начальству. И только тем обстоятельством, что начальство тоже устало и было ему, возможно, некогда, сотрудники лаборатории объяснили ту решительную поддержку, которую получил окончательно зарвавшийся Люсин. Но даже и в этом случае Саскию согласились принять только условно. Люсин не возражал. Он знал, что необходимый ему анализ удается довольно редко, в лучшем случае в отношении 1:35. Но таковы же примерно шансы сорвать ставку на номер в рулетке! А тысячи людей – Люсин знал об этом из газет – бросают свои фишки на волю куда менее вероятных событий. Те же, кто играют только на цвет, даже при большом везении получают слишком мало.
Расширенные, оледеневшие от ужаса глаза Саскии внушали ему оптимистическую веру. Сбыв его наконец с рук («Аллах с ними, пусть хотя бы условно!»), он поднялся к себе за плащом. Первые напитанные электричеством капли уже обрушились на кусты сирени. Пыльная листва стала блестящей, а умопомрачительный запах проник сквозь двойные рамы и распространился по всей лаборатории. Его чувствовали даже в боксах качественного микроанализа, несмотря на аммиак и сероводород.
На своем столе Люсин нашел записку от секретарши, которая уже ушла домой:
«Звонили но поручению мадам Локар. Она досрочно возвратилась из поездки, потому что ей необходимо сообщить вам какие-то очень важные сведения. Просила принять ее. Я назначила на 13 часов. Если вас это не устраивает, позвоните ей». Далее следовал номер телефона.
«Устраивает. Очень даже устраивает!» – повеселел Люсин и раскрыл досье с вырезками, присланное от генерала. К нему была подколота бумажка, рекомендовавшая (две размашистые строчки наискосок красным карандашом) в первую очередь познакомиться со статьей из коммунистической газеты «Комментарии к делу Андре Савиньи». Газета дала и снимок, на котором мосье Свиньин был запечатлен в черной форме СС.
Сенсация с похищением туриста лопалась, как мыльный пузырь. Но тем важнее было его найти.
Гроза за окнами бушевала во всю мочь. Для личных дел Люсину машины по штату не полагалось. Хочешь не хочешь, а приходилось пережидать. Он пошел в буфет.
Глава 15
Мадам Локар

– Мой муж был моложе меня на четыре года. К тому же он, как принято говорить, «из семьи» – это значит из аристократической семьи. Их род восходит еще к Капетингам. Они особенно гордились своим древним, почти забытым теперь феодальным титулом – видам. Кто-то из них спас Людовика Святого, кто-то привез из Италии жену для Генриха Четвертого. Одним словом, очень древний и славный род. Где-то в шестнадцатом веке они вступили в династический брак с Роганами. Один из Роганов говаривал: «Королем я быть не могу, герцогом не желаю. Я – Роган!»
Мои же родители мелкие рантье. Наша семья могла похвастаться только генералом, вознесенным революцией, да и тот кончил жизнь на эшафоте во время якобинского террора.
Таким образом, все противилось нашему браку. Я даже не могла принести мужу то, что получают обычно обедневшие аристократы взамен громкого титула, – деньги. Мой отец едва сводил концы с концами. Только любовь была на нашей стороне. Это звучит громко, смешно и чуточку старомодно. Я понимаю, но это так! И ничего тут не поделаешь…
Странное предвоенное время. Больное, лихорадочное, но такое прекрасное! Горьковатый привкус был у нашей молодости, неповторимый и пленительный. Я так помню свет ночных фонарей и жужжание майских жуков вокруг праздничных свечек каштана! Древние сиреневые камни и длинные тени фланирующих прохожих на них, – мы шли тогда, взявшись за руки, как школьники, и почему-то смотрели себе под ноги, поэтому и видели одни тени. Это было смешно… Нарядные, надушенные дамы и господа превращались в длинные плоские тени… Но чей-то смех в вечереющих улицах, шарканье ног и волны, невидимые волны духов… Все казалось немного таинственным, пронизанным ожиданием чего-то… Словно в преддверии сказки.
Потом мне почему-то вспоминается шале в далекой провинции. Остроконечная крыша, окошко мансарды, увитая плющом белая растрескавшаяся стена. Хозяйка в накрахмаленном чепце. Холодное, неприютное море, серые волны в пене и выброшенные на мокрый песок устрицы. Мы собирали их по утрам. Шли дожди. Мокли капуста, салат и артишоки на грядках. Я собирала виноградных улиток и почти каждый вечер готовила эскарго – его любимое блюдо. Уныло скрипела мельница, крытая позеленевшей черепицей; по утрам с земли поднимался холодный туман, снаружи запотевали стекла, а дождинки потом оставались на них хрустальной клинописью. Где-то кричали петухи, безуспешно пророча перемену погоды, и удивительно пахла дождевая резеда. Этот запах до сих пор преследует меня. Невольно навертываются слезы. Ах, какое неудачное – я говорю о погоде – было оно, лучшее наше лето! По воскресеньям я ездила на велосипеде к рыбакам и привозила к завтраку скумбрию, а то и живого омара. Какой ликующий красный цвет был у его опустошенных клешней!.. Теперь мне все вспоминается, как один день…
Потом началась война. Филиппа призвали в армию, но каждое воскресенье он приезжал домой. Это была странная война, и мой лейтенант не принимал ее всерьез. Но вдруг все кончилось… Выброшенная взрывом черная неистовая земля, запруженные толпами беженцев дороги, брошенные на шоссе автомобили. Где-то жгли нефть, и жирными хлопьями медленно оседал черный снег.
Отец Филиппа приехал и забрал меня с собой. На какой-то миг у меня появилось вдруг все то, о чем я раньше только читала: драгоценности от Картье, лучшие герленовские духи, туалеты от Балансиаго, пармские фиалки на туалетном столике… Не знаю, долго ли длилось это время… Я не ощущала его реальности. Знаете, как во сне, когда видишь какую-то вещь и начинаешь в нее всматриваться, а она вдруг меняет свои очертания. Все становится таким текучим, зыбким, проскальзывает сквозь пальцы, как ртутный шарик, который хочешь поднять с пола.
Сон кончился, когда пришла оккупация. Приказы, которые всегда кончались одним лишь словом «расстрел», списки заложников, бесконечные очереди. Помню печальный обед – мы только что узнали, что Филипп в плену, – в большой сумрачной столовой, обшитой темным арденнским дубом. Нас только двое по краям колоссального стола, сервированного фамильным серебром с гербами и сумрачным богемским хрусталем. Старик видам ножом и вилкой берет какую-то корочку с литого серебряного блюда и аккуратно переносит к себе на тарелку, я делаю то же, и мы молчаливо ждем, когда дряхлый дворецкий торжественно внесет главное блюдо, подымет сверкающую крышку и водрузит перед нами тарелку с двумя исходящими паром желтоватыми картофелинами. Pommes de terre des gourmets – картофель гурме времен оккупации…
Но суть, конечно, не в нем. Все нехватки и тяготы мы сносили довольно легко. Особенно я. Чуть лучше, чуть хуже – разве от этого что-то менялось? Филипп был жив. И я не хотела большего. Боялась прогневить судьбу.
Но чужие солдаты на улицах и площадях, но седой булыжник под сапогами трубачей в черных касках… Их ненавистные знамена, облавы, грозные слухи о зверствах в гестапо, расстрелы…
Однажды ночью вернулся Филипп. Небритый, с кровоточащей царапиной на лбу, в прожженной солдатской шинели. Как он был прекрасен и как я была счастлива! У меня нет слов, чтобы это рассказать. Просто нет слов, как не нашлось их тогда, когда я помогала ему раздеться, готовила ванну. О, я целый час простояла, прижавшись ухом к двери! Слушала, как он плещется, и плакала. Это почему-то запомнилось особенно ярко. На мне был еще передник в разноцветный горошек. Пустяки врезаются. Почему?..
Филипп быстро наладил связь с Сопротивлением. Я стала ему помогать, все глубже втягиваясь в эту опасную, но такую необходимую работу. Все как-то преобразилось. Безысходный, тупой страх, который душил меня по ночам, не давал жить, смеяться, – этот страх исчез. Понимаете? Совсем исчез. Я, конечно, боялась, попав вдруг в облаву, когда у меня в сумочке лежал вальтер; боялась, когда нужно было стать лицом к стене вместе с другими задержанными, а какой-то солдафон обходил нас сзади и обшаривал с головы до ног. Даже простой проверки документов в вагоне я тоже боялась, хотя бумаги у меня находились в полном порядке. Но это был уже совсем другой страх! Он исчезал, как только проходила непосредственная опасность… И возвращалась жизнь. Тот же нестерпимый, даже во сне не оставлявший меня тошнотворный гнет больше не возвращался. Раньше я просыпалась с мыслью, что у меня страшное, непоправимое несчастье. Хаотичные проблески пробуждения обрушивались на мою бедную голову; я пыталась вспомнить, кто я и что со мной произошло, и тут же ощущала комок в груди. Дневной кошмар обступал меня, и выхода из него не было. Теперь же я вставала сразу, с нетерпеливым предчувствием, как когда-то в детстве, утром долгожданного праздничного дня.
У меня была очень скромная роль, но я делала настоящее дело, и Филипп был рядом со мной. Я могла радоваться, что живу, – раньше я себя за это ненавидела. Свекор видел и понимал. Он, безусловно, полностью сочувствовал нам, но делал вид, что ни о чем не догадывается. Почему? Не знаю… Может быть, не хотел мешать или чувствовал себя слишком старым. Но я никогда не забуду, как он пытался стрелять из дамского пистолетика с перламутровой ручкой в гестаповцев, которые пришли за мной. Их было двое, в плащах и шляпах, но с кавалерийскими шпорами на сапогах. Я инстинктивно рванулась к туалетному столику, где стояла фотография Филиппа (уголок картонки был пропитан ядом), но они истолковали это по-своему. Один из них стал выкручивать мне руки. Тогда-то старый видам и навел на него дрожащей рукой пистолетик. Второй гестаповец выхватил парабеллум и выстрелил старику в голову. Когда тот ничком упал на ковер, немец еще раз выстрелил ему в спину. Старик дернулся и затих, а ковер под ним потемнел. Кровь впитывалась плохо, и медленно ширилось страшное густое пятно… Так и стоит перед глазами… Знаю, что вспомню это во всех подробностях, когда буду умирать…
Но пора сказать о главном, а то я слишком увлеклась воспоминаниями. Право, в моей довольно-таки обычной судьбе мало интересного для других. И то, что бесконечно важно и значимо для меня, не имеет особого смысла в чужих глазах. Я понимаю это. Но ведь редко бывает иначе.
У Филиппа был приятель – я не хочу говорить «друг», – с которым он вместе учился в университете. Это и есть тот самый Андрей Свиньин, или Андре Савиньи, как он называл себя. Вчера я случайно прочла в газете, что мой пропавший коллега и есть тот самый – будь навеки проклято его имя! – Савиньи. Я видела его раза два или три, да и то мельком… Притом прошло столько лет… И эти усы. Они совершенно изменили его… Кстати, на верхней губе у него должен быть шрам в форме подковы. Однажды – тогда уже все знали, что он собой представляет, – Савиньи неосторожно зашел в бистро. Один парень схватил бутылку, отбил дно о край столика и рваным горлышком ударил эту собаку в лицо. Видимо, он целился в глаз или в висок… Жаль, что промахнулся… Его потом расстреляли… Шрам должен остаться, потому что рана, рассказывали, была страшная, сквозная. У Савиньи оказалась сломанной верхняя челюсть… Хороший молодой парень отдал за это жизнь. В причудах судьбы мало смысла. Не правда ли? Как и Филипп, Савиньи увлекался ориенталистикой [13]13
Ориенталистика – востоковедение.
[Закрыть]. Муж рассказывал, что они часами могли обсуждать назначение каких-нибудь тибетских ритуальных труб, сделанных из берцовых костей. Древность и темные предания нашего рода – я говорю «нашего», потому что как-никак была законной женой Филиппа, нас даже венчал епископ Льежский, уж так получилось, – тоже, очевидно, как-то привлекали Савиньи. Хотя после университета они встречались значительно реже, после нашей женитьбы совсем редко: я видела его у нас два или три раза, Филипп часто вспоминал о нем, высоко отзывался о его познаниях по части истории. Если бы он только знал…
На общую нашу беду, Филипп привлек его к работе в Сопротивлении. Не особенно активно и без большого риска для себя он помогал нам. Через него, например, мы установили связь с русскими военнопленными. Но организовать побег не удалось. Нам это стоило многих жертв, а тех русских, на которых пало подозрение, расстреляли. Савиньи открыл нам доступ и в эмигрантские круги. Надо сказать, что мы нашли там несколько прекрасных товарищей. В живых никого из них не осталось…
В общем, как говорится, в одно прекрасное утро гестаповцы задержали Савиньи при попытке нелегально пробраться в неоккупированную зону. При нем нашли компрометирующие письма. Конечно, этого было более чем достаточно…








