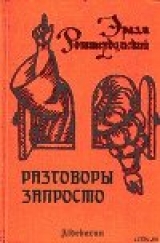
Текст книги "Разговоры запросто"
Автор книги: Эразм Роттердамский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
Фабулла. Выходит, по-твоему, если бы душа жука вселилась в человеческое тело, она бы действовала так же, как душа человека.
Евтрапел. Нет, ведь я уже сказал: даже если бы ангельский ум – все равно нет! Между ангелом и человеческою душой различие лишь в одном: душа человека создана для того, чтобы приводить в движение человеческое тело, снабженное природными орудиями, подобно тому как душа жука не движет ничем, кроме тела навозного жука. Ангел создан не для того, чтобы одушевлять тело, а для того, чтобы мыслить вне и помимо телесных орудий.
Фабулла. А душа на это способна?
Евтрапел. Способна, но только когда расстанется с телом.
Фабулла. Значит, она несамостоятельна, пока находится в теле?
Εвтрапел. Нет, конечно. Разве что нарушится обычный и естественный ход событий.
Фабулла. Но ты мне вместо одной души насыпал целую груду – тут и одушевляющая, и растительная, и чувственная, и мыслящая, и помнящая, и волевая, и гневная, и желающая… А мне довольно было одной.
Евтрапел. У одной души действия могут быть разные. Отсюда и разные наименования.
Фабулла. Я не совсем тебя понимаю.
Евтрапел. Сейчас поймешь, в спальне ты супруга, в мастерской – ткачиха, в лавке – продавщица гобеленов, в кухне – кухарка, среди слуг и служанок – хозяйка, среди детей – мать, и однако все это – ты в своем доме.
Фабула. Да, нехитро ты философствуешь, что и говорить. Стало быть, душа в теле действует так же, как я – в доме?
Евтрапел. Да.
Фабулла. Но покамест я тку гобелены в мастерской, я не стряпаю в кухне.
Евтрапел. Это оттого, что ты не просто душа, но душа, одетая в тело. Тело не может находиться одновременно во многих местах, но душа, поскольку это простая форма, действует так, что одновременно пребывает и во всем теле, и в отдельных его частях вся целиком, действия же в различных частях производит различные: мыслит и помнит в мозгу, гневается в сердце, желает в печени, слышит в ушах, видит в глазах, обоняет в ноздрях, вкушает на языке и на нёбе, осязает в любой части тела, снабженной нервами. В волосах и кончиках ногтей осязания нет; нечувствительны сами по себе также легкие, печень и, возможно, селезенка.
Фабулла. Значит, в некоторых частях тела она только одушевляет и растит.
Евтрапел. Видимо, так.
Фабулла. Если все это в одном человеке производит одна и та же душа, отсюда следует, что плод в материнском чреве, едва начнет расти, – что есть признак жизни, – как уже и чувствует, и мыслит; а в противном случае, у одного человека вначале должно быть несколько душ, впоследствии же остается одна, которая все исполняет сама. Иными словами, человек сперва бывает растением, потом животным и наконец человеком.
Евтрапел. То, что ты говоришь, Аристотель, быть может, счел бы не лишенным основания. На мой же взгляд, более правдоподобно, что разумная душа вспыхивает вместе с жизнью, но, словно малый огонек, заваленный сырыми дровами, еще не может обнаружить свою силу.
Фабулла. Стало быть, душа привязана к телу, которым она движет?
Евтрапел. В точности так же, как черепаха к своему панцирю, который повсюду носит с собою.
Фабулла. Да, носит, но и сама передвигается с ним вместе. Так кормчий не только направляет свой корабль, но и сам движется вместе с кораблем.
Евтрапел. Более того: так белка вертит колесо, но и сама бежит, не останавливаясь.
Фабулла. Выходит, что душа воздействует на тело и, в свою очередь, подпадает его воздействию?
Евтрапел. Конечно. В той степени, в какой это касается внешних проявлений.
Фабулла. А по природе, стало быть, душа шута равна душе Соломона?
Евтрапел. Вполне возможно.
Фабулла. Но тогда равны меж собою и ангелы, коль скоро они свободны от материи, которая, как ты утверждаешь, порождает неравенство.
Евтрапел. Довольно уж философии! Пусть себе богословы ломают над этим голову, а мы продолжим то, что начали. Если желаешь быть матерью вполне и целиком, ухаживай за телом своего ребенка, чтобы огонек ума, поднявшись над сыростью испарений, мог воспользоваться исправными и удобными орудиями. Всякий раз, как ты слышишь писк младенца, зерь, что он просит тебя именно об этом. Когда ты видишь на своей груди два ключа, набухшие и сами по себе сочащиеся молочною влагой, верь, что это природа напоминает тебе о твоих обязанностях. Если твой сын назовет тебя «полуматерью», что ты сделаешь? Наверно, схватишь розгу. А ведь едва ли и на такое имя вправе притязать та, которая, родивши, отказывается кормить. Главное – не произвести на свет, главное – выкормить. Ребенок питается не только молоком, но и благоуханием материнского тела; он ищет той влаги, которая уже знакома и близка ему, которую он вобрал в себя в материнском чреве, из которой возник. И я держусь того суждения, что в зависимости от молока меняются в дурную сторону природные качества детей, совершенно так же, как соки, которыми земля поит растения, изменяют их свойства. Ты думаешь, попусту говорится: «Он впитывает злобу с молоком кормилицы»? И у греков, мне думается, не попусту ходит поговорка: «Будто у кормилицы». Это про тех, кого худо кормят: разжевать-то кормилица разжует, да в рот младенцу положит самую малость, а всего больше проглотит сама. Кто, произведя на свет, вскорости бросает, – пусть уж лучше вовсе бы не рожала. Это и не роды, а скорее выкидыш. К таким женщинам как раз подходит греческая этимология: греки считают, что μητηρ[343]343
Мать (греч.).
[Закрыть] произошло от μη τηρειν, то есть «не беречь». Нет, верно: нанимать кормилицу для младенца, еще теплого материнским теплом, – это все равно что подкинуть его.
Фабулла. Я бы с тобою согласилась, если бы мы не нашли женщину, которую ни в чем не упрекнешь.
Евтрапел. Пусть даже безразлично, какое молоко пьет крохотное дитя, какую слюну глотает вместе с разжеванною чужими зубами пищей, пусть нашлась такая кормилица, какую не знаю можно ли и сыскать, – неужели ты думаешь, что есть на свете женщина, способная снести все тяготы кормления так же, как сносит их мать, – всю грязь, писк, болезни, неотлучные сидения, неусыпную заботу, которой, однако же, всегда мало? Только если можно любить наравне с матерью, только тогда можно и заботиться с нею наравне. А глядишь, случится и так, что сын будет любить тебя холоднее, чем должен, потому что природное чувство как бы разделится меж двумя матерями; и у тебя не будет полной преданности и нежности к нему. И когда он вырастет, то без особой охоты станет покоряться твоей воле, да и ты будешь испытывать некоторое равнодушие к тому, в чьем характере, быть может, узнаешь кормилицу. Далее: взаимная любовь между учащим и учащимся – главнейшая ступень в обучении. А значит, если из этого благоухания врожденной привязанности ничто не утеряно, тем легче ты внушишь сыну правила достойной жизни. Силы матери здесь очень велики уже потому хотя бы, что материал перед нею податливый, всему покорный.
Фабулла. Я вижу, что быть матерью не так просто, как обычно думают.
Евтрапел. Если мне не доверяешь, послушай Павла. Он прямо говорит о женщине: «Спасена будет чрез чадородие»[344]344
«Первое послание к Тимофею», II, 15
[Закрыть].
Фабулла. Стало быть, та, что «родила», спасена?
Евтрапел. Отнюдь нет! Апостол прибавляет: если дети пребудут в вере[345]345
Так толкует это место Эразм. Обычное толкование (принятое и в синодальном переводе) – женщина спасется, если пребудет в вере.
[Закрыть]. Ты не исполнила родительского долга, если правильным воспитанием не образовала сперва нежного тельца своего сына, а после – столь же нежной души.
Фабулла. Но это уже не во власти матерей, чтобы дети всегда хранили страх божий!
Евтрапел. Пожалуй. Но неусыпные увещания так важны, что Павел полагает необходимым предъявить обвинение матери, если дети изменили добрым нравам. И, наконец, если ты сделаешь все, что от тебя зависит, бог соединит свою подмогу с твоим усердием.
Фабулла. Меня, Евтрапел, твои доводы убедили. Вот если бы ты еще смог убедить моих родителей и супруга!…
Евтрапел. Это я тебе обещаю, лишь бы ты подала голос в мою пользу.
Фабулла. Подам, не сомневайся.
Евтрапел. А можно ль поглядеть на мальчика?
Фабулла. Конечно! Эй, Сириска, кликни кормилицу, пусть придет с ребенком.
Евтрапел. Какой славный! Говорят, что первая проба заслуживает снисхождения. Но ты и по первому разу показываешь искусство самое высокое.
Фабулла. Это ведь не ваяние, тут искусство ни к чему.
Евтрапел. Верно. Это литье из воска. Но что бы это ни было, а вышло на редкость удачно. Хоть бы гобелены выходили у тебя не хуже!
Фабулла. А вот ты – так наоборот: удачней на полотне изображаешь, чем рожаешь.
Евтрапел. Так угодно природе – она не со всеми обходится одинаково. Но как она хлопочет, чтобы ничто не пропало бесследно! В одном человеке воспроизвела двоих: нос и глаза · – отцовские, лоб и подбородок – материнские. Такой драгоценный залог любви можно ли доверить чужой заботе? Те, кто на это идет, мне кажется, жестоки вдвойне: они подвергают опасности не только младенца, с которым расстаются, но и себя самих, потому что молоко, обратившись вспять и испортившись, нередко вызывает опасные болезни. И получается, что, тревожась о красоте одного тела, нисколько не тревожатся о жизни двух, и, спасаясь от преждевременной старости, находят безвременную кончину. Как назвали мальчика?
Фабулла. Корнелием.
Евтрапел. Имя деда со стороны отца. Если бы в нем повторилась безукоризненная чистота этого человека!
Фабулла. Постараемся, насколько хватит сил. Но послушай, Евтрапел, у меня к тебе одна очень большая просьба.
Евтрапел. Считай меня своим рабом: приказывай что хочешь – отказа ни в чем не будет.
Фабулла. Ну, так я дам тебе вольную только тогда, когда ты завершишь доброе дело, которое начал.
Евтрапел. Что ты имеешь в виду?
Фабулла. Чтобы ты указал мне, как сперва следить за здоровьем ребенка, а после, когда он окрепнет, как подвести невинную душу к первым основам благочестия.
Евтрапел. С большой охотою, – если достанет ума, – но в другой раз; а теперь иду просителем к твоему супругу и отцу с матерью.
Фабулла. Бог тебе в помощь!
Паломничество

Менедем. Огигий
Менедем. Что это?! Неужели передо мною Огигий, мой сосед, которого добрых шесть месяцев никто из наших не видал? Был слух, будто его уж и на свете нет. Да, он самый, если только я не рехнулся! Подойду и поздороваюсь. Доброго здоровья, Огигий!
Огигий. Здравствуй и ты, Менедем.
Менедем. Какие края и земли возвращают нам тебя в целости и сохранности? А то ведь разнесся печальный слух, будто ты переплыл Стигийскую топь[346]346
Древние изображали Стикс, через который Харон переправляет в своей ладье души усопших, то в виде реки, то в виде заболоченного озера.
[Закрыть].
Огигий. Наоборот, – слава небесам! Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо, как в это последнее время!
Менедем. Дай тебе бог всегда с такою же легкостью рассеивать вздорные слухи подобного свойства. Но что это за убор? Ты усыпан ракушками, усеян оловянными и свинцовыми образками, увешан соломенными ожерельями, на руке – змеиные яйца[347]347
Так Эразм называет здесь бусины четок.
[Закрыть]!
Огигий. Я побывал у святого Иакова Компостелльского, а после – у чтимой по всей Англии Богородицы Приморской. Сказать точнее, у Богородицы я был уже в другой раз[348]348
Сам Эразм тоже побывал в Уолсингэме дважды – в 1512 и 1514 гг.
[Закрыть], а впервые посетил ее три года назад.
Менедем. Для развлечения, верно, путешествовал?
Огигий. Нет, из страха божия.
Менедем. Не греческие ли книги внушили тебе этот страх?
Огигий. Моя теща дала обет, что, если ее дочь родит живого и крепкого младенца мужского пола, я буду приветствовать и благодарить святого Иакова лицом к лицу.
Менедем. И ты приветствовал святого только от себя и от тещи?
Огигий. Нет, от всей семьи.
Менедем. Ну, на мой взгляд, оставь ты Иакова без приветствия, семье от этого ущерба не было б ни малейшего. Однако скажи, пожалуйста, как отвечал святой на изъявления благодарности?
Огигий. Никак. Но когда я поднес ему дар, мне показалось, что он улыбнулся и легонько кивнул. И тут же протянул мне эту раковину, похожую на черепицу.
Менедем. Почему именно такой подарок, а не какой-нибудь еще?
Огигий. Потому что этих раковин у него громадный запас: их выносит море по соседству.
Менедем. Какой любезный святой! И роженицам помогает, и о гостях заботится. Но что за новый способ давать обеты – чтобы самому палец о палец не ударить, а все труды переложить на другого? Представь себе, ты пообещался бы, что, если дело, которое ты начал, завершится благополучно, я буду поститься дважды в неделю; как ты полагаешь, исполню я твой обет?
Огигий. Полагаю, что не исполнишь, даже если пообещаешься от собственного имени: надувать святых тебе в забаву. Это ведь не кто-нибудь, а моя теща; пришлось повиноваться. Сам знаешь, каковы женщины. Впрочем, и ко мне это имело самое прямое отношение.
Менедем. А чего ты опасался, если б не выполнил ее обета?
Огигий. К суду, конечно, святой притянуть бы меня не мог, но на будущее мог бы сделаться глух к моим молитвам или исподтишка навести беду на моих близких. Сам знаешь, какой нрав у власть имущих.
Менедем. Как поживает достойнейший муж Иаков?
Огигий. Намного хуже прежнего.
Менедем. А причиною что? Старость?
Огигий. Болтун! Ты же знаешь, что святые не старятся. Нет, всему виною новые убеждения, распространившиеся по миру: из-за них Иакова приветствуют реже, чем встарь, а если кто к нему и приезжает, то с одними только приветствиями, дарить же – не дарит ничего или самую малость, утверждая, что эти деньги лучше употребить на помощь беднякам.
Менедем. Да, нечестивые убеждения!
Огигий. И вот такой великий апостол, который, бывало, сверкал самоцветами и золотом с головы до пят, теперь – сплошь деревянный, и даже сальная свечка не всегда перед ним теплится.
Менедем. Если то, что мне доводится слышать, верно, боюсь, как бы и прочих святых не постигла такая же судьба.
Огигий. Я тебе больше скажу: повсюду читают письмо, которое по этому поводу написала сама Дева Мария.
Менедем. Какая Мария?
Огигий. Та, что прозывается Каменной.
Менедем. Та, что в Базеле, если не ошибаюсь?
Огигий. Она самая.
Менедем. Про каменную, стало быть, святую ты мне толкуешь. Ну, и кому ж она написала?
Огигий. Имя обозначено в письме.
Менедем. А с кем послала?
Огигий. Без сомнения, с ангелом. А он положил письмо на кафедру, с которой проповедует тот, кому оно написано. Чтобы тебе ни в чем не сомневаться, ты увидишь αυτογραφον[349]349
Подлинную рукопись (греч.).
[Закрыть].
Менедем. Ты так хорошо узнаешь руку ангела, который у Богородицы в секретарях?
Огигий. Еще бы не узнать!
Менедем. По каким, однако же, приметам?
Огигий. Я читал эпитафию Беды[350]350
Беда Достопочтенный (ок. 673—735) был крупнейшим представителем англо-саксонской литературы на латинском языке. Самое важное его произведение – «Церковная история англосаксов». Гробница Беды – в церкви аббатства в Дареме (Дургеме) на северо-востоке Англии.
[Закрыть], высеченную ангелом, и очертания букв полностью совпадают. Читал я и записку, посланную святому Эгидию[351]351
Эгидий – отшельник, живший в VI или VII в. на юге Франции. Он просил бога отпустить грехи королю готов Флавию, и ангел положил на алтарь листок пергамена, в котором сообщалась, что просьба Эгидия исполнена.
[Закрыть]: тоже совпадают. Разве этого недостаточно?
Менедем. Можно взглянуть?
Огигий. Можно, если поклянешься молчать.
Менедем. О, буду нем, как камень!
Огигий. Но есть и камни, печально прославленные тем, что ничего не скрывают.
Менедем. Тогда я буду просто нем – если камню нет доверия.
Огигий. На этом условии – изволь, прочитаю. А ты навостри оба уха.
Менедем. Уже навострил.
Огигий. «Мария, Матерь Иисуса, приветствует Главкоплута[352]352
Главкоплут – греческий перевод имени Ульрих. Эразм имеет в виду швейцарского реформатора Ульриха Цвингли, под руководством которого в 1525 г. церковь в Цюрихе была реформирована и храмы очищены от икон и статуй.
[Закрыть]!
Вслед за Лютером ты с усердием убеждаешь, что взывать ко святым излишне; знай, что этим ты приобрел мою благосклонность, искреннюю и немалую. До нынешней поры смертные чуть не до отчаяния изводили меня бессовестными своими мольбами. У меня одной просили и требовали всего – словно бы сын мой все еще младенец (как его изображают у меня на коленях), словно все еще ни в чем не выходит из материнской воли и ни в чем не смеет мне отказать, боясь, наверное, как бы я, в отместку, не отказала ему в материнской груди. И нередко просили у Девы такое, чего скромный юноша едва ли дерзнул бы попросить и у сводни, такое, о чем мне стыдно писать в письме. Купец наживы ради плывет в Испанию, а целомудрие своей сожительницы оберегать поручает мне. Монахиня, сбросивши манатью, готовит побег, а мне поручает хранить славу своей непорочности, которую сама же замыслила опорочить и опозорить. Гнусный наемник, которому платят», за резню, за пролитую кровь, взывает ко мне: «Святая Дева, ниспошли богатую добычу!» Взывает игрок: «Будь благосклонна, святая, – поделюсь с тобою выигрышем». И если счастье улыбается не слишком широко, бранят меня, и поносят, и проклинают, за то что не помогла преступлению. Взывает та, что торгует собою: «Пошли щедрые прибытки!» А стоит мне хоть в чем-нибудь выказать неодобрение, тут же слышу недовольные голоса: «Тогда ты больше не Матерь милосердная!»
Другие мольбы не столько нечестивы, сколько нелепы. Зовет незамужняя: «Мария, дай мне красивого и богатого жениха!» Зовет замужняя: «Мария, дай мне доброе потомство!» Зовет беременная: «Дай мне легкие роды!» Зовет старуха: «Дай прожить подольше, без кашля и жажды!» Зовет старик, выживший из ума: «Дай помолодеть!» Зовет философ: «Дай связать нерасторжимые узлы!» Зовет священник: «Дай богатый приход!» Зовет епископ: «Сохрани мою церковь!» Зовет моряк: «Дай счастливого плавания!» Зовет правитель: «Покажи мне твоего сына, прежде чем умру!» Зовет придворный: «Дай исповедаться чистосердечно в смертный час!» Зовет крестьянин: «Дай дождя вовремя!» Зовет крестьянка: «Сохрани коровушек и лошадок!» Если в чем не соглашаюсь, тут же слышу обвинение в жестокости. Если отсылаю к сыну, слышу: «Чего желаешь ты, того – и он». Что же, мне одной – женщине и девице – помогать и плавающим по морю, и воюющим, и торгующим, и играющим в кости, и брачующимся, и рождающим, и сатрапам, и царям, и мужикам?
А ведь то, что я описала, – лишь ничтожная доля моих страданий! Но теперь забот стало гораздо меньше, и я благодарила бы тебя за это самой горячею благодарностью, если бы выгода не привела за собой новой невыгоды, еще тяжелее: досуга-то больше, но почестей меньше и меньше богатства. Раньше ко мне обращались: «Царица небесная!», «Владычица мира!» Теперь насилу дождешься, пока услышишь: «Радуйся, Мария!» Раньше меня одевали в самоцветы и золото, то и дело облачали в новое платье, приносили мне драгоценные дары, теперь насилу прикрываюсь половинкою плаща, да и тот весь изъеден мышами. Годовые доходы такие жалкие, что едва хватает на прокорм горемыке-причетнику, на лампадку да на сальную свечку. Впрочем, это бы еще можно сносить, но говорят, что у тебя наготове планы пошире. Говорят, ты клонишь к тому, чтобы всех святых, сколько их ни есть, изгнать из храмов повсюду! Еще и еще раз обдумай, что ты затеял. У других святых достанет силы отомстить за обиду. Петр, изгнанный из храма, в свою очередь, закроет перед тобою вход в царство небесное. Павел – с мечом, Варфоломей – с ножом, Вильгельм, хоть и в рясе, а вооружен с головы до пят, и даже пику в руке держит. А с Георгием как ты совладаешь – ведь он и верхом, и в панцире, и копье под мышкою, и меч у пояса? И Антоний не безоружен – палит священным огнем. И у остальных – у каждого либо оружие, либо напасть, которые они и направляют против кого бы ни вздумалось. Я и в самом деле беззащитна, но ты прогонишь меня не иначе, как вместе с сыном, которого я держу на руках. Расстаться с ним я не соглашусь никогда; либо, заодно со мною, ты вытолкаешь за порог и его, либо обоих оставишь, если только не предпочтешь иметь храм без Христа.
Вот о чем я хотела тебя известить. Ты же рассуди, как тебе отвечать, ибо я встревожена не на шутку.
Послано из Каменного нашего дома, в августовские календы, в год от рождения моего пострадавшего сына 1524.
Каменная Дева руку приложила».
Менедем. Да, грозное и страшное письмо. Вперед он, верно, поостережется…
Огигий. Если он в здравом уме, то конечно. Менедем. А почему и достойнейший Иаков не написал Главкоплуту того же?
Огигий. Точно не знаю. Но он намного дальше[353]353
Действительно, Базель – ближайший сосед Цюриха, и Реформация там одержала победу лишь немногими годами позже (в 1529 г.). В том же году Эразм покинул Базель.
[Закрыть], а все письма в наше время перехватываются.
Менедем. А что за бог опять привел тебя в Англию?
Огигий. Во-первых, ветер, на диво попутный, а во-вторых, я почти что обещался святой Деве Приморской снова навестить ее через два года.
Менедем. И о чем ты хотел ее просить?
Огигий. Да о том же, о чем все просят: о благополучии домашних, о богатстве, о долголетии и радости в этой жизни, о вечном блаженстве в жизни будущей.
Менедем. A у нас Присно дева не могла тебе этого даровать? В Антверпене у нее храм намного пышнее, чем там.
Огигий. Пожалуй, что могла бы, спорить не стану, но в разных местах она дарит разное: либо так именно ей угодно, либо, по своей доброте, она приспосабливается к нашим склонностям.
Менедем. Про Иакова я слышал много раз, но, сделай милость, опиши мне царство этой Приморской. Огигий. Постараюсь, и буду краток, насколько удастся. Она славится по всей Англии, и едва ли ты сыщешь на целом острове человека, который бы надеялся преуспеть, не принося ей ежегодных даров, хотя бы и скромных – в меру своих средств и сил. Менедем. Где она обитает?
Огигий. На самом краю острова, к северо-западу[354]354
По-видимому, описка Эразма: как уже сказано раньше, Уолсингэм находится на восточном побережье Великобритании.
[Закрыть], невдалеке от моря – примерно в трех милях. Все селение кормится лишь наплывом богомольцев. Есть обитель каноников, именуемых «уставными»: они занимают среднее положение между монахами и так называемыми «белыми» или «мирскими» канониками. [355]355
Августинские (или черные) каноники были орденом священников-монахов. Первоначально орден складывался из общин, в которые объединялся причт одного храма («белые каноники»), принимая добровольное обязательство жить по уставу наподобие монастырского
[Закрыть]
Менедем. Прямо амфибии какие-то! Вроде бобров.
Огигий. И крокодилов. Но оставим колкости, и я в трех словах объясню тебе то, что ты хочешь узнать. Когда дела складываются скверно, они – каноники, когда благоприятно – монахи.
Менедем. Ты всё задаешь мне загадки.
Огигий. Сейчас прибавлю математическое доказательство. Если бы папа римский метнул молнию в монахов, эти сразу бы заявили: «Мы не монахи, мы каноники». А если разрешит всем монахам взять жену, тут они все станут монахами.
Менедем. Неслыханное доныне благодеяние! Хоть бы взяли и мою заодно.
Огигий. Однако – к делу. У обители нет иного до-кода, кроме щедрости Богородицы. Крупные дарения сохраняются на будущее, а наличные деньги и вклады малой ценности идут на содержание братии и настоятеля, которого они величают приором.
Менедем. Жизнь ведут достойную?
Огигий. Дурного об них не скажешь: благочестием они богаче, чем годовым прибытком. Церковь нарядная и красивая, но Дева живет не в ней: тот храм она, в знак почтения, уступила сыну, а собственный ее храм поставлен так, чтобы матери быть справа от сына.
Менедем. Справа? А сын куда обращен лицом?
Огигий. Верно напомнил, спасибо. Если сын смотрит на запад, то мать по правую руку от него, если повертывается к востоку – по левую. Но и это еще не ее жилище, потому что постройка не закончена, нет ни окон, ни дверей, и весь собор продувается насквозь в любом направлении, а по соседству – отец ветров, Океан.
Менедем. Худо. Так где же все-таки она обитает?
Огигий. В том недостроенном храме есть тесная часовня с дощатыми стенами; в двух противоположных стенах – по узкой дверце, пропускающей богомольцев Света мало, – только то, что от свечей, – ноздри ласкает благоухание.
Менедем. Это все приличествует святыне.
Огигий. Ах, Менедем, если б ты увидал это своими глазами! Ты бы сам сказал, что это райские кущи, – так все блистает самоцветами, золотом, серебром!
Менедем. Слушаешь тебя – и тянет пуститься в путь.
Огигий. И стоит того: не пожалеешь.
Менедем. А священного елея там нет вовсе?
Огигий. Глупец! Елей сочится лишь там, где преданы погребению святые, например – из гробницы святого Андрея или святой Екатерины. А Деву Марию не погребали.
Менедем. Да, признаться, я ошибся. Но ты продолжай.
Огигий. Дабы шире разлился страх божий, в разных местах показывают разные вещи.
Менедем. И, вероятно, – чтобы больше и щедрее давали, в согласии со стихом:
Огигий. И повсюду наготове мистагоги[357]357
Мистагог – наставник, посвящающий в таинства (греч.).
[Закрыть].
Менедем. Из каноников?
Огигий. Что ты! Их никогда не зовут, чтобы не отвлечь от благочестия хотя бы и ради благочестия, и чтобы, служа Деве, они не позабыли о собственном девстве. Только во внутренней часовне – в покое святой Девы, о котором я говорил, – у алтаря стоит каноник.
Менедем. Зачем?
Огигий. Чтобы принимать даяния.
Менедем. А чтобы против воли давали, так бывает?
Огигий. Никогда! Но бывает так, что один, без свидетелей, человек не дал бы, а когда рядом кто-то есть, благочестивый стыд заставляет дать; или, в иных случаях, дают щедрее, чем собирались вначале.
Менедем. Это чувство всякому человеку знакомо, я по себе знаю.
Огигий. Однако ж есть у святейшей Девы и такие почитатели, которые, делая вид, будто возлагают свое приношение на алтарь, с поразительною ловкостью и проворством крадут то, что положил другой.
Менедем. Но пусть бы и никто не присматривал – разве Дева не испепелила бы воров на месте?
Огигий. Почему же Дева, а не сам Отец небесный, которого они обирают безо всякого страха, хотя бы даже приходилось проломить стену храма?
Менедем. Не знаю, чему больше дивиться, – их ли нечестивой самонадеянности или божией кротости.
Огигий. С северной стороны – ворота, только не в храмовой стене, а в ограде, окружающей храм. В воротах – крохотная калитка, вроде тех, что в домах и замках у знати, и если кто желает войти, то сперва выставляет далеко вперед ногу, а потом низко наклоняет голову.
Менедем. Входить к врагу через такую калитку – верная погибель.
Огигий. Конечно! Мистагог мне говорил, что в старину один рыцарь, верхом на коне, ускользнул через нее от погони. Несчастный был уже, можно сказать, у неприятеля в руках и, окончательно отчаявшись, вдруг вспомнил о святой Деве и доверил свою жизнь ей: он решил искать прибежища подле ее алтаря, если бы калитка пропустила. И тут совершилось неслыханное: в один миг всадник с конем оказался внутри ограды, а преследователь, в бессильной злобе, бушевал снаружи.
Менедем. И ты поверил этой удивительной истории?
Огигий. Вполне.
Менедем. А ведь ты философ, тебя убедить не так просто.
Огигий. Он показывал мне медную доску, прибитую к воротам, а на доске – изображение спасенного рыцаря в тогдашнем английском уборе, какой мы видим на старинных картинах. И если картины не лгут, худо жилось в ту пору цирюльникам, красильщикам, суконщикам.
Менедем. Отчего?
Огигий. Оттого, что у рыцаря борода, как у козла, а на всем платье ни единой складки; такое оно тесное, да узкое, что и само тело становится меньше, скуднее. Была и еще одна доска – с видом и размерами святилища.
Менедем. Сомневаться было уже грешно.
Огигий. Верхняя часть калитки забрана железной решеткою, пропускающей только пешего. Нельзя, чтобы конь попирал копытами место, которое тот конник посвятил Деве.
Менедем. Это так и должно быть.
Огигий. Потом, к востоку от входа, – часовенка, полная чудес. Тут встречает нас другой мистагог. Произносим краткую молитву. Показывают нам сустав человеческого пальца, больший из трех. Я облобызал, реликвию и спрашиваю, чья она. Мистагог отвечает: «Святого Петра». – «Неужели, говорю, апостола?» – «Да, говорит, апостола». Разглядываю я сустав, такой большой, что мог бы принадлежать и исполину, и замечаю вслух: «Как видно, крупного роста был святой Петр», – и тут кто-то из моих спутников расхохотался. Я был очень раздосадован и огорчен. Если бы он промолчал, служка показал бы нам все реликвии до последней. А так – насилу успокоили нашего мистагога, сунув ему несколько драхм.
Перед часовнею стоял домик. Служка объявил, что этот домик перенесен сюда внезапно и издалека, зимней порою, когда все вокруг было завалено снегом. Под ним – два колодца, полные до краев. Источник посвящен Богородице. Вода на диво холодная и помогает против болей в голове и в желудке.
Менедем. Если холодом лечат болезни головы и желудка, то скоро пожары начнут тушить маслом.
Огигий. Ведь это чудо, странный ты человек! А что было бы за чудо, если б холодная вода утоляла жажду?!
Менедем. Не только чудо, но и часть представления.
Огигий. Нам говорили, что источник внезапно ударил из земли по велению святейшей Девы. Я все внимательно оглядываю и спрашиваю, сколько лет прошло, как это строение сюда перенесено. Отвечает служка*; несколько веков. «Но ведь стены, если глаза меня не обманывают, совсем новые?» В ответ – никаких возражений. «И эти деревянные столбы – тоже?» Служка не отрицает, что их поставили недавно, да и самый их вид свидетельствует о том же. «А эта соломенная крыша, по-моему, настлана и вовсе недавно?» Соглашается. «Да и эти балки, и самые стропила, которые поддерживают кровлю, положены, мне кажется, не слишком давно?» Подтверждает. Когда таким образом перебрали все части хижины, я спрашиваю: «Откуда ж известно, что эта лачужка принесена издалека?»
Менедем. Любопытно! И как служка выпутался из этой петли?
Огигий. Он тут же показал нам ветхую медвежью шкуру, приколоченную к балкам, и разве что в глаза не посмеялся над нашею слепотою. И правда, не заметить такого очевидного свидетельства! Уверившись и попросив извинения за свою ненаблюдательность, мы двинулись к небесному млеку блаженной Девы.
Менедем. О, Матерь, во всем подобная Сыну! Он оставил нам столько своей крови! А она – столько молока, сколько едва ли могли бы источить сосцы женщины, родившей единожды, даже если бы младенец не испил из них ни капли!
Огигий. Так же точно толкуют о кресте господнем, который показывают по храмам и по частным домам в столь многих местах, что если бы все частицы собрать, можно бы, наверно, нагрузить доверху целое судно. А ведь господь нес свой крест на собственных плечах.
Менедем. А это тебе не кажется еще одним чудом?
Огигий. Необычайным я бы это, пожалуй, назвал, но чудесным – никогда, потому что господь, умножающий частицы креста по своему усмотрению, – всемогущ.
Менедем. Благочестиво ты объясняешь. И все же я опасаюсь, что многое подобное просто-напросто вымышлено ради наживы.
Огигий. Не думаю, чтобы господь согласился терпеть такие насмешки над собою.
Менедем. Напротив! Ведь святотатцы грабят и Матерь, и Сына, и Отца, и Духа, а они порою и не пошевельнутся, чтобы отогнать злодеев хоть мановением головы, хоть шумом. Такова уж божественная кротость.
Огигий. Ты прав. Но слушай дальше. Млеко хранится на главном алтаре. Посредине алтарного образа Христос, одесную – Матерь, в знамение почета. Ибо млеко знаменует собою Матерь.
Менедем. Значит, его можно видеть?
Огигий. Да, заключенным в хрусталь.
Менедем. Значит, оно жидкое?
Огигий. Какой там «жидкое», ежели оно пролилось полторы тысячи лет назад! Оно сгустилось и теперь напоминает тертую глину в смеси с яичным белком.
Менедем. Отчего ж тогда не показывают его без покрова?
Огигий. Дабы млеко Девы не осквернялось поцелуями мужчин.
Менедем. Это верно. Многие губы, я полагаю, ни чистыми не назовешь, ни девственными.
Огигий. Завидев нас, прибегает мистагог. Он облачается в подризник, покрывает плечи епитрахилью, благочестиво преклоняет колена, произносит молитву; после этого трижды святое млеко протягивает нам для лобызания. Тут мы, в свою очередь, преклоняем колена на первой ступени алтаря и, воззвав сперва к Христу, творим Деве краткую молитву, нарочно для этой цели приготовленную:
«Дева и Матерь, ты, заслужившая питать девичьими своими сосцами владыку неба и земли, сына своего Иисуса, молим тебя, дабы достигнуть нам, очищенным его кровью, того блаженного детства, которое, в голубиной простоте своей не ведая ни злобы, ни обмана, жаждет напитаться млеком евангельского учения, покуда не обретет совершенного мужества в меру исполненности Христом, коего блаженство ты разделяешь во веки веков, вместе с Отцом и со Духом святым. Аминь».








