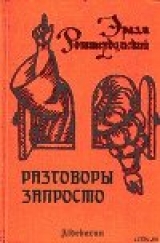
Текст книги "Разговоры запросто"
Автор книги: Эразм Роттердамский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
Томас. На что?
Ансельм. Она пожелала, чтобы трое паломников отправились в путь: один, чтобы посетил жилище Петра[284]284
То есть базилику святого Петра в Риме.
[Закрыть], другой – приветствовал Иакова Компостелльского, третий – облобызал гребень Иисуса в Трире[285]285
В Трирском соборе показывали гребень, которым якобы причесывался Иисус Христос.
[Закрыть]. Затем – чтобы в нескольких монастырях по многу раз отчитали псалтирь и служили обедни. А если что останется, – чтобы Фавн распорядился по своему усмотрению. Фавн уже ни о чем, кроме этого сокровища, не думал, уже поглотил его в своих мечтах.
Томас. Это общая слабость, хотя особенно дурная слава тут за духовным сословием.
Ансельм. Когда денежные дела были оговорены вплоть до мельчайших подробностей, заклинатель, по внушению Пола, стал расспрашивать душу о сокровенных искусствах – об алхимии и магии. И на это душа ответила, насколько было возможно, и пообещала рассказать подробнее, едва лишь хлопотами и трудами Фавна избавится от бесовской опеки. Это, если ты не возражаешь, пусть будет у нас третьим действием комедии. В четвертом Фавн начинает повсюду трубить о чуде, только об этом и твердит в любом разговоре, за любым столом, монастырям сулит баснословные вклады, о скромности и смирении забыл совершенно. Он находит указанное место и приметы, но вырыть клад не смеет, потому что душа предупредила его, что это чревато грозной опасностью – если тронуть сокровища, не отслужив сперва назначенных ею обеден. Уже многие проницательные люди чуяли обман, ибо не было такого места, где бы он не раструбил о своей глупости. Его друзья, и в первую очередь его аббат, втихомолку напоминали ему, что он всегда считался человеком рассудительным – пусть же не выставляет себя на глаза целому свету примером обратного свойства! Но никакие речи не могли его разуверить в том, что все случившееся – истинная правда. Это до такой степени заполонило его душу, что ни о чем, кроме привидений и злых гениев, он уже и не говорил и даже во сне ничего иного не видел. Состояние духа отразилось и в лице, которое было таким бледным, исхудавшим и унылым, что Фавн и сам больше походил на загробную тень, чем на живого человека. Он был на волосок от настоящего безумия, но тут применили сильное и скорое средство.
Томас. И это будет последнее действие комедии.
Ансельм. Да, его-то я и хочу изложить. Пол с зятем придумали такую хитрость. Они сочинили письмо и написали его диковинными буквами, да еще не на обычной бумаге, а на той, которую золотых дел мастера подкладывают под листовое золото, – красновато-желтой. Вот содержание письма:
«Фавн, в прошлом пленник, а ныне свободный, шлет вечный привет Фавну, своему достойнейшему освободителю! Отныне, мой Фавн, тебе более незачем изнурять себя заботою обо мне. Бог призрел на благочестивую решимость твоей души и ее заслугами избавил меня от страданий. Ныне я блаженствую меж ангелами. Тебя ожидает место подле Августина, Августин же – в ближайшем соседстве с апостольским сонмом. Когда ты явишься к нам, я поблагодарю тебя лично. А пока живи счастливо. Писано на седьмом небе в сентябрьские иды года одна тысяча четыреста девяносто восьмого и припечатано моим перстнем».
Письмо тайком положили на алтарь, у которого должен был служить Фавн. После службы кто-то, нарочито подученный, указал ему на это послание, словно бы обнаруженное случайно. Теперь Фавн носится с ним повсюду и показывает как святыню; и ни во что не верит он крепче, как в то, что письмо принесено ангелом с небес.
Томас. Это значит не избавить человека от безумия, но лишь переменить род безумия.
Ансельм. Конечно. Новое безумие приятнее прежнего – вот и вся разница.
Томас. Я и раньше не очень прислушивался к ходячим россказням о привидениях, а вперед и вовсе не стану обращать на них внимания. Многое из того, что записано и выдается за истину людьми легковерными и схожими с Фавном, многое из этого, я подозреваю, было подстроено примерно так же. [286]286
В уже упоминавшемся послесловии «О пользе „Разговоров“ Эразм дает такое несколько неожиданное толкование этому диалогу: „Я разоблачаю уловки обманщиков, которые привыкли издеваться над простыми и легковерными душами, изображая явления демонов и усопших, подражая звукам сверхъестественных голосов… Юный и неискушенный возраст особенно беззащитен перед подобными обманами, и потому я решил показать злостное надувательство на этом забавном примере“.
[Закрыть]
Ансельм. А я – так прямо уверен, что большая часть.
Алхимия

Филекой. Лал [287] 287
Филекой – по-гречески – «любитель послушать», Лал – «болтливый».
[Закрыть]
Филекой. Что это случилось с Лалом? Он все улыбается, едва удерживается от хохота, и все крестится. Сейчас спрошу самого. Здравствуй, мой дорогой Лал! Мне кажется, ты очень доволен сегодня.
Лал. Да, и буду еще довольнее, если поделюсь своим удовольствием с тобою.
Филекой. Что же, говори скорее.
Лал. Ты знаешь Бальбина?
Филекой. Такой образованный старик и жизнь ведет примерную?
Лал. Совершенно правильно. Но нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей. Ваг и у него среди многих замечательных достоинств есть один изъян: он уже давно помешан на том искусстве, которое называют алхимией.
Филекой. Это не изъян, а тяжелый недуг.
Лал. Как бы там ни было, а его уже много раз одурачивали алхимики, и все ж недавно он снова попался на удочку, и удивительным образом.
Филекой. Каким же?
Лал. Подходит к нему какой-то священник, почтительно его приветствует и начинает так: «Ученнейший Бальбин, ты, верно, удивишься, что тебе докучает незнакомец, и в особенности если этому незнакомцу известно, что ты постоянно погружен в самые возвышенные занятия». Бальбин кивнул: такой у него обычай, потому что он вообще до крайности скуп на слова.
Филекой. Это признак ума.
Лал. Но другой был еще умнее и продолжал так: «Впрочем, ты простишь мне мою дерзость, когда узнаешь, почему я к тебе обратился». – «Говори, – отвечал Бальбин, – только коротко, если можешь». – «Скажу в самых немногих словах, как только сумею. Ведомо тебе, ученнейший муж, что судьбы смертных неодинаковы, и я затрудняюсь, к кому себя приписать, – к счастливым или к несчастным. Когда взираю на свою судьбу с одной стороны, мне кажется, что я отменно счастлив, когда с другой – что нет меня несчастнее». Бальбин напомнил ему, чтобы он изъяснялся короче, а он: «Сейчас кончаю, ученнейший Бальбин. Это будет совсем просто: ведь я говорю с человеком, которому это дело знакомо, как никому в целом свете!»
Φилекой. Ритора ты мне описываешь, а не алхимика.
Лал. Сейчас услышишь алхимика: «Еще мальчишкою я сподобился счастья изучать самое драгоценное среди искусств и наук, мозг всей философии – алхимию». При слове «алхимия» Бальбин оживился, шевельнулся, но тут же невнятным мычанием велел рассказчику продолжать. «Но увы, – продолжал он, – я вступил не на тот путь, на который следовало вступить». Бальбин спросил, о каких путях он говорит, и священник отвечал: «Ты, Бальбин, человек всесторонне ученнейший, ты ничего не упустил и не пропустил и, конечно, знаешь, что в искусстве алхимии нам открываются два пути: один зовут „удлинновением“, другой – „укратчением“. Мне по какой-то недоброй случайности довелось встретиться с „удлинновением“. Бальбин осведомился, какое между путями различие. „Не такой уж я наглец, – возразил священник, – чтобы объяснять это Бальбину, которому все это знакомо, как никому в целом свете! Итак, я обращаюсь к тебе с мольбой: сжалься надо мною и удостой наставить на счастливейший путь укратчения. Чем более опытен ты в этом искусстве, тем легче можешь сообщить свой опыт мне. Не скрывай столь драгоценный дар божий от брата, угасающего во скорбях! Иисус Христос да осыплет тебя новыми, еще более щедрыми дарами!“
Этим заклинаниям не видно конца, и Бальбин вынужден признаться, что понятия не имеет ни об удлиновении, ни об укратчении; затем он просит священника растолковать смысл обоих слов. А тот в ответ: «Хоть я и не сомневаюсь, что ты знаешь лучше моего, однако раз ты велишь, я повинуюсь. Кто посвятил всю жизнь божественному этому искусству, изменяет обличие вещей двумя способами: один короче, но сопряжен с большими опасностями, другой дольше, но зато безопаснее. Я считаю себя несчастным оттого, что до сей поры бьюсь на пути, который мне не по душе; и до сей поры я не смог найти никого, кто согласился бы указать мне другой путь, который мне люб до безумия. Наконец бог внушил мне мысль обратиться к тебе, мужу столько ж благочестивому, сколько ученому. Ученость позволит тебе без труда наделить меня тем, о чем я прошу, а благочестие побудит прийти на помощь брату, чье спасение в твоих руках».
Не буду затягивать рассказа. Подобными речами хитрец отвел от себя всякое подозрение в обмане и внушил Бальбину уверенность, что другой путь отлично ему известен. Бальбин уже давно порывался его остановить и наконец не выдержал: «Бог с ним, с укратчением, – я о нем и не слыхивал-то никогда. Скажи мне по совести: удлинновением ты хорошо владеешь?» – «Ха! Как собственной пятернею! Долгота только не нравится». – «Какого срока он требует?» – спрашивает Бальбин. «Чересчур большого – почти целого года. Но дело верное, вернее не бывает». – «О сроке не тревожься, пусть и два года уйдут, лишь бы ты твердо полагался на свое искусство». Одним словом, уговорились тайно открыть работу в доме Бальбина, на том условии, что священник берет на себя труд, а Бальбин издержки, прибыль же разделят поровну; впрочем, непритязательный мошенник добровольно уступал весь будущий доход Бальбину. Оба клянутся молчать, как при посвящении в таинства. Тут же отсчитываются деньги на покупку глиняной и стеклянной посуды, углей и всего прочего, что потребно для оборудования мастерской, и наш алхимик с удовольствием проматывает эти денежки на продажных девок, на выпивку, за игрою в кости.
Филекой. Но это и значит изменять обличие вещей!
Лал. Бальбин, однако, требовал приступать к делу. «Разве ты не помнишь пословицу, – возражал ему алхимик, – насчет того, что доброе начало – половина успеха? Очень важно, чтобы хорошо заготовить материал». Наконец он принялся складывать печь. Тут снова открылась нужда в золоте – чтобы приманить будущее золото. Как рыба не ловится без наживки, так и золото алхимикам не дастся, если не примешать заранее частицу золота.
Тем временем Бальбин с головою ушел в расчеты: если унция принесет пятнадцать унций, прикидывал он, сколько ж прибытка ждать от двух тысяч унций? (Такую сумму решил он израсходовать.) Когда алхимик промотал и эти деньги и уже месяца два, как притворялся, будто усердно хлопочет над мехами и углем, Бальбин спрашивает, подвигается ли работа. Сперва тот отмалчивается, но Бальбин стоял на своем, и наконец слышит в ответ: «Ко всему прекрасному приступы и подходы трудны». Мошенник ссылался на оплошность, допущенную при покупке углей: он, дескать, купил дубовые, а надо было еловые или ореховые.
На ветер было брошено уже сто золотых, и тем не менее Бальбин снова пускается на риск. Снова отсчитываются денежки; куплены новые угли. Берутся за дело с еще большим рвением, чем вначале: так и на войне – после неудачи солдаты поправляют положение удвоенным мужеством. Несколько месяцев в мастерской все кипело и клокотало, и Бальбин ожидал золотой жатвы, но в колбах не было и намека «а золото: всё, как и прежде, прогулял алхимик. Отыскивается новое оправдание: колбы были не такие, как надо. Ведь не из всякого дерева можно резать Меркурия[288]288
То есть не любая чурка годится на то, чтобы из нее вырезывать статую бога (латинская пословица).
[Закрыть] – так и золото не из всякой колбы вынешь. И чем больше были затраты, тем больше не хотелось отступаться.
Филекой. Это в обычае и у игроков. Как будто не лучше потерять часть, нежели все.
Лал. Ты прав. Алхимик клялся и божился, что никогда не случалось у него такого просчета, но теперь ошибка обнаружена, вперед все будет ладно и гладко, а все убытки он возместит с лихвою.
Переменили колбы; мастерская обновилась во второй раз. Алхимик утверждал, что дело пойдет удачнее, если отправить в дар Богородице, которую, как ты знаешь, чтут в Паралиях[289]289
Паралии можно перевести примерно как «Приморск» (греч.); значит, имеется в виду та же «Богородица Приморская», что в диалоге «Паломничество» (см. дальше), то есть Божья матерь Уолсингэмская (Уолсингэм – к северо-востоку от Лондона, в графстве Норфольк). Отсюда определяется место действия диалога.
[Закрыть], несколько золотых: ведь алхимия – священное искусство, и для успеха необходима благосклонность небес. Бальбину этот совет очень понравился: он человек богобоязненный и ни единого дня не пропустит, без того чтобы не побывать в храме за службою. Алхимик отправляется в благочестивое странствие, но, разумеется, – не далее соседнего городка, где и оставляет приношение святой Деве в кабаке. Вернувшись, об объявил, что полон самых лучших надежд и что все их замыслы непременно сбудутся, ибо святая Дева с явною, как ему показалось, благосклонностью приняла их дары.
Опять протекло немало времени в упорных трудах, и опять золота ни крупицы. Бальбин требует объяснений, алхимик заверяет, что еще никогда в жизни не случалось с ним ничего похожего (а ведь он столько раз испытывал свое искусство!) и в чем тут причина – ума не приложит! Долго оба думали и гадали, и вдруг Бальбину приходит мысль: а не пропустил ли алхимик в который-нибудь из дней обедни или главных молитв? Если это так – никакой удачи и быть не может. Тут обманщик восклицает: «Ты попал в самую точку! О, я злосчастный! Я согрешил по забывчивости, и не раз, а дважды, а еще, совсем недавно, после затянувшегося обеда, поторопился встать и забыл принести благодарность святой Деве». А Бальбин ему: «Не удивительно, почему наше дело нам не удается!» Вместо двух пропущенных обеден алхимик вызывается отстоять дюжину, вместо одной «Богородицы» – отчитать десяток.
Скоро у мота-алхимика опять вышли все деньги, зато не вышли поводы к вымогательству. Вот что он придумал. Прибегает домой, чуть дыша, и жалобным голосом шепчет: «Я погиб, Бальбин, окончательно погиб. Считай, что меня уже нет в живых». Бальбин остолбенел, потом спрашивает, что за беда стряслась. «При дворе, – отвечает алхимик, – пронюхали, что мы с тобою делаем; не иначе как быть мне в тюрьме, и очень скоро». Услышав это, Бальбин так и побелел от страха. Ты ведь знаешь, что у нас занятия алхимией без дозволения государя караются смертью. А тот продолжает: «Не смерти я боюсь – хоть бы довелось умереть! – боюсь иного, пострашнее». – «Чего же?» – говорит Бальбин. «Упрячут меня в башню и до конца дней заставят трудиться на тех, ради кого и пальцем шевельнуть неохота. Любая смерть слаще такой жизни!»
Дело исследовали со всех сторон. Бальбин, искушенный в риторике, прикидывал и так и этак, нельзя ли избежать опасности. «Не можешь ли, – спрашивает, – отрицать вину в целом?» – «Никоим образом! Слух разнесся широко, у королевских советников есть доказательства, которых не опровергнешь. Даже защищаться невозможно – закон слишком ясен». Многое они перебрали и ни в чем не находили надежного укрытия; наконец алхимик, которому деньги были нужны немедленно, промолвил: «Мы, Бальбин, все строим дальние планы, а обстоятельства требуют средства, которое подействовало бы сразу. Я думаю, что за мною вот-вот явятся». Бальбину, однако ж, ничего в голову не приходило. «Вот и мне ничего не приходит, – подтвердил другой, – и я не вижу ничего иного, кроме как мужественно принять свою гибель, разве что мы обратимся к самому последнему средству; оно не столько честно, сколько полезно, но ведь стрекало пощады не знает. Для тебя не тайна, что эти придворные жадны до денег. Тем легче их подкупить и заткнуть им глотку. Как ни тягостно давать этим висельникам, которые тут же все пустят на ветер, но в нынешнем положении ничего лучшего я не нахожу». Бальбин решил точно так же и отсчитал тридцать золотых на покупку молчания.
Φилекой. На редкость щедрый этот Бальбин, как тебя послушать.
Лал. Нет, в честном деле скорее выбьешь у него зуб, чем монету. Однако ж об алхимике своем он позаботился, хотя тому никто и ничем не угрожал – кроме возлюбленной, которая требовала подарков.
Φилекой. Какая поразительная близорукость!
Лал. Только тут и обнаруживается его близорукость, в остальном он зорче самых зорких[290]290
С этим замечанием, возможно, связан выбор имени «Бальбин»: у Горация в «Сатирах» (третья сатира первой книги) так назван влюбленный, который «не видит ничуть недостатков в милой подруге».
[Закрыть]. Опять расходы, складывают новую печь, помолившись наперед Богородице о подмоге и заступлении. Уже целый год миновал, а мошенник, ссылаясь то на одно, то на другое, ничего не делает и только сорит деньгами. Между тем произошел забавный случай.
Филекой. Что же именно?
Лал. Алхимик находился в тайной связи с женою какого-то придворного; супруг заподозрил неладное и стал за ним следить. И вот мужу доносят, что священник у него в спальне; тот совершенно неожиданно возвращается домой и стучит в дверь.
Филекой. И как собирался он поступить?
Лал. Как поступить? Да уж ничего приятного прелюбодея не ожидало: либо с жизнью расстался бы, либо с яйцами. Супруг яростно грозился, что взломает двери, если жена не отворит, за дверями – страшное смятение, лихорадочно соображают, что делать. Но есть лишь единственный выход – тот, который предлагают обстоятельства. Алхимик сбрасывает с себя платье, протискивается сквозь узкое окно, прыгает – не без опасности, не без ушибов! – и спасается бегством. Ты знаешь, что молва о таких событиях разлетается мгновенно. Дошла она и до Бальбина. Но наш искусник уже был к этому готов.
Филекой. Тут-то он и попался.
Лал. Как бы не так – выскользнул удачнее, чем из той спальни. Послушай, какова хитрость. Бальбин ни слова ему не сказал, но хмурым выражением лица достаточно показывал, что осведомлен о слухах, которые стали общим достоянием. А тот знал, что Бальбин человек благочестивый, а кое в чем, пожалуй, и суеверный; такие люди легко прощают раскаявшемуся любой проступок, хотя бы и самый тяжелый. И вот он умышленно заводит разговор об их деле, жалуется, что нет того успеха, к которому он привык и которого желал бы; в чем причина, прибавляет он, одному богу известно. Бальбин, который, по-видимому, твердо решил молчать, тут вспыхнул (он и вообще-то вспыльчив). «Нет, – заметил он, – вполне понятно, что нам мешает: мешают грехи. Наше дело лишь тогда будет успешно, если его вершить в чистоте и чистыми руками!» В ответ на это обманщик упал на колени и, состроив плаксивую физиономию, плаксивым голосом воскликнул: «Истинную правду вымолвил ты, Бальбин. Верно: грехи мешают! Но мои грехи, не твои! Не постыжусь исповедаться в моей скверне перед тобою, словно перед самым святым священником! Слабость плоти меня одолела, Сатана завлек в свои сети! О, я несчастный! Из служителя святыни стал прелюбодеем! И все же не пропал понапрасну дар, который мы сделали святой Деве. Я погиб бы наверняка, если бы не ее помощь. Супруг уже выламывал двери, окно было слишком тесно для меня. В этой неминуемой опасности пришла мне на память святейшая Богородица. Я преклонил колени и взмолился: „Если дар был тебе угоден, оборони!“ И тут же (время не ждало!) снова устремляюсь к окну и нахожу, что оно достаточно просторно и открывает дорогу к бегству».
Филекой. И Бальбин поверил?
Лал. Поверил. Мало того – простил, и внушал со страхом божиим, что ни в коем случае нельзя явить себя неблагодарным пред блаженнейшею Девою! И снова отсчитываются денежки мошеннику, который заверяет, что вперед никогда и ничем не осквернит священного дела.
Филекой. Ну, а конец-то этому какой?
Лал. История очень длинная, но я завершу в нескольких словах. Долго морочил он Бальбина подобными проделками и немало денег у него выманил, когда появился человек, знавший этого негодяя с детства. Он легко сообразил, что его знакомец и здесь занят тем же, чем занимался везде, и, тайно встретившись с Бальбином, объяснил ему, какого искусника пригрел он в своем дому. Он советовал Бальбину поскорее отделаться от алхимика, если только Бальбин не предпочитает, чтобы тот скрылся сам, очистив предварительно ящики и шкатулки.
Филекой. И что тогда Бальбин? Уж, верно, постарался усадить негодяя в тюрьму?
Лал. В тюрьму? Ничего похожего – дал денег на дорогу и заклинал всем святым не болтать о том, что произошло. И, на мой взгляд, поступил мудро: лучше уж так, чем чтобы имя твое трепали на пирушках и на площадях, а после еще бояться, как бы не отобрали в казну твое имущество. Ведь обманщик никакой опасности не подвергался: искусством алхимии он владел столько же, сколько любой осел, и в подобных обстоятельствах на обман смотрят сквозь пальцы; а если бы Бальбин обвинил его в краже, сан спас бы мерзавца от веревки; кормить же такого приятеля за свой счет в тюрьме едва ли кто захочет.
Филекой. Я бы пожалел Бальбина, да ведь он сам находил удовольствие в том, что его водили за нос.
Лал. Ну, мне надо торопиться ко двору. В другой раз расскажу тебе про еще больших глупцов.
Филекой. Если будет время, послушаю охотно и отплачу рассказом за рассказ.
Конский барышник

Авл. Федр
Авл. Боже бессмертный, ως σεμνοπρεπει[291]291
Как важно глядит (греч.).
[Закрыть] наш Федр, то и дело возводит очи к небу. Подойду к нему. Что нового, Федр?
Федр. Отчего ты так спрашиваешь, Авл?
Авл. Оттого, что из Федра, мне кажется, ты обратился в Катона, – столько строгости у тебя в лице.
Федр. Не удивительно, друг: я только что исповедался в грехах.
Авл. А, ну тогда я уже не удивляюсь. Но скажи по чести, ты во всем исповедался, ничего не утаил?
Федр. Во всем, что припомнил, кроме одного.
Авл. Почему ж умолчал об этом одном?
Федр. Потому что до сих пор раскаяться не могу.
Авл. Приятный, надо думать, был грех.
Φедр. Я не уверен, грех ли это. Впрочем, послушай сам, если ты не занят.
Авл. Послушаю с удовольствием.
Федр. Ты знаешь, какие обманщики те, кто торгует лошадьми или отдает их внаем.
Авл. Слишком хорошо знаю: не однажды они меня надували.
Федр. Недавно случилось мне отправляться в дорогу, довольно дальнюю, и главное – по спешному делу. Иду я к одному из таких торговцев, пожалуй, самому честному среди людей этой породы, а отчасти даже и приятелю. Рассказываю, что дело у меня важное, что лошадь нужна самая крепкая и быстрая, и прошу, чтобы теперь, как никогда, он доказал мне свою дружбу и порядочность. Тот обещает обойтись со мною, как с родным братом.
Авл. Наверно, он и брата готов надуть.
Федр. Приводит он меня в конюшню и велит выбирать коня, которого захочу. Один приглянулся больше всех других. Торговец хвалит мой выбор, клянется, что лошадь добрая, много раз испытанная, и что он берег ее для близкого друга, а чужим отдавать не хотел. Договариваемся о цене; тут же расплачиваюсь; сажусь в седло. Поначалу конь мой скачет на диво резво; я даже решил, что он мало объезжен – до того гладок он был и хорош с виду. Но часа полтора спустя чувствую, что он совсем без сил, даже шпоры не помогают. Я слыхал про обманщиков, которые держат на продажу таких коней – с виду отменных, но без всякой выносливости. «Да, попался, – говорю я себе. – Ну, погоди, мошенник, вернусь – отплачу по заслугам!»
Федр. И что же ты стал делать, конник без коня?
Авл. То единственное, что подсказывали обстоятельства: завернул в ближайшее село. Тайно поставил коня у одного знакомца, нанял другую лошадь и выехал туда, куда направлялся. Приезжаю назад, возвращаю наемную лошадь, снова получаю моего притворщика, прекрасно отдохнувшего и такого же гладкого, как прежде. Сажусь верхом – и к барышнику. «Подержи, говорю, пока у себя в конюшне несколько дней; после я заберу». Тот расспрашивает, хорошо ли он меня вез. Я клянусь всем святым, что никогда в жизни не было подо мною коня лучше этого», он не бежит, а летит, за весь долгий путь ни разу не почувствовал усталости и нисколько не отощал, несмотря на нелегкие свои труды. Хозяин поверил, примолк и задумался: лошадь оказалась иною, чем он полагал. И вот, не давая мне уйти, он спрашивает, не продается ли лошадь. Сперва я отвечал, что нет; если опять случится ехать, другую такую сыскать будет не просто; впрочем, говорю, нет у меня ничего столь дорогого, чтобы не продать за хорошую цену, – даже если бы кто пожелал купить меня самого.
Авл. Да, недурно ты разыграл критянина с этим критянином[292]292
Греческая пословица: жители Крита считались в древности отъявленными лгунами и обманщиками.
[Закрыть]!
Φедр. Короче – ни за что меня не отпускает, покамест не назначу цену. Я назначаю много выше той, за которую купил. Распрощавшись, сразу нахожу человека, который соглашается сыграть в этой комедии со мною вместе, и все как следует ему объясняю. Он входит в дом, зовет хозяина и говорит, что ему нужен очень хороший и очень выносливый конь. Хозяин показывает многих коней и самых скверных расхваливает всего больше; только про того, которого недавно продал мне, ни одного доброго слова не вымолвил, поверив моей лжи. Но посетитель тотчас осведомился, можно ли и того купить (я описал ему наружность коня и место, где он стоял). Хозяин сперва промолчал и продолжал притворно выхвалять других лошадей. Но тот, с одобрением отозвавшись и о прочих, упорно толковал все об одном коне, и хозяин признал про себя: «Да, тут я решительно просчитался! Даже иноземец сразу высмотрел его среди всех остальных». Покупатель настаивал, и наконец хозяин сказал: «Он продается, но цена, наверно, тебя отпугнет». – «Нет цены слишком высокой, если вещь того стоит». Хозяин потребовал много больше, чем назначил я; он и тут хотел сорвать барыш. Все же сговорились – покупатель дает задаток, и немалый – золотой дукат, – чтобы не заронить подозрений, что покупка мнимая, потом велит засыпать коню корма и обещает вскоре за ним вернуться; перепадает кое-что и конюху.
Я, как узнал, что сделка заключена и расторгнута, быть не может, снова обуваю сапоги со шпорами и бегу к хозяину; кличу его, не успев отдышаться. Выходит. Спрашивает, что мне угодно. «Сейчас же, говорю, седлай моего коня. Надо немедля отправляться по чрезвычайно важному делу». – «Но ведь ты, говорит, только что просил подержать его здесь несколько дней». – «Верно, говорю, но неожиданно появилось дело, и не какое-нибудь, а королевское поручение, – отлагательств не терпит». Тут хозяин: «Выбирай любого, а своего не получишь». Спрашиваю, почему. «Потому что он продан». А я, словно бы в крайнем волнении: «Что ты?! Боже избави! Теперь, перед такою дорогою, я бы не продал его, даже если бы вчетверо больше предлагали». Начинаю браниться, кричу, что я погиб. Наконец разгорячился и он. «Что толку препираться? – говорит. – Ты назначил цену на своего коня – я его продал. Отсчитаю тебе твои деньги – и прощай! Есть еще в нашем городе законы! Не можешь ты требовать у меня коня!» Долго я кричал, чтобы он представил мне либо моего коня, либо покупателя, и, наконец, в гневе, он отсчитывает всё сполна. Покупал я за пятнадцать дукатов, оценил в двадцать шесть. Он оценил в тридцать два и расчел про себя, что лучше взять эту прибыль, чем возвратить лошадь. Я насилу успокаиваюсь, – даже после того, как получаю деньги, – и ухожу раздосадованный и огорченный. Он просит меня не сердиться, обещает загладить эту неприятность в других делах.
Итак, обманщик обманут. У него в стойле лошадь, которая вообще ничего не стоит, а он дожидается, когда придет тот, кто дал задаток, и уплатит всю цену. Но никто не приходит и никогда не придет.
Авл. И он не пробовал на тебя жаловаться?
Федр. И наглости не хватает, да и права нет ни малейшего. Приходил раз и другой, сетовал на бесчестного покупателя. Но я сам жалуюсь на него повсюду, говорю, что поделом ему, раз он своею поспешностью отнял у меня такого коня. И до того хорошо все подстроено, что не могу я склонить свою душу к покаянию.
Авл. Я бы считал, что мне должны поставить статую, если бы учинил что-нибудь подобное. И, уж конечно, не раскаивался бы.
Φедр. Не знаю, от чистого ли сердца твои слова, но мое сердце они успокаивают, внушая еще большую охоту к таким проделкам.








