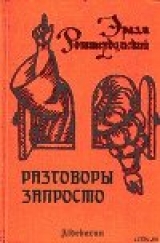
Текст книги "Разговоры запросто"
Автор книги: Эразм Роттердамский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
Кораблекрушение

Антоний. Адольф
Антоний. Какой ужас! Это и значит «плавать по морю»? Не дай боже, чтобы мне когда-нибудь пришла на ум такая затея!
Адольф. Все, что я успел тебе рассказать, – это пустяк, забава против того, что ты услышишь дальше.
Антоний. Я и так наслушался ужасов более чем довольно! Ты вспоминаешь, а у меня волосы дыбом встают, будто я сам в опасности.
Адольф. А мне – так даже приятны эти муки, оставшиеся позади… В ту же ночь произошло событие, которое сильно поколебало надежды хозяина на спасение.
Антоний. И что же именно?
Адольф. Ночь была не совсем черная, и на вершине мачты, в «вороньем гнезде», – так это, по-моему, у них зовется, – стоял кто-то из матросов; он озирался кругом, высматривая землю. Вдруг подле него появился огненный шар. Для моряков нет знамения печальнее, чем ежели огонь одиночный; а когда их пара – это добрый знак. В древности верили, будто это Кастор и Поллукс[192]192
Кастор и Поллукс – близнецы Диоскуры, то есть «сыновья Зевса». Несмотря на такое прозвание, миф утверждал, что от Зевса Леда родила только Поллукса (Полидевка), а Кастор – сын смертного ее супруга, Тиндарея, царя Спарты. У древних Диоскуры считались покровителями мореплавателей.
[Закрыть].
Антоний. Что им до моряков? Ведь один был конником, а другой кулачным бойцом.
Адольф. Так заблагорассудили поэты. Хозяин, который сидел у руля, крикнул: «Эй, товарищ (моряки друг к дружке иначе не обращаются), видишь, какой у тебя сосед?» – «Вижу, – отвечает тот, – и молю бога, чтобы он послал нам удачу». Скоро огненный клубок соскользнул по снастям вниз и подкатился к хозяину.
Антоний. Он поди обмер со страху?
Адольф. Моряки привычны к чудесам. Тут шар помедлил, потом обежал вдоль борта весь корабль, потом посреди палубы рассыпался и исчез. К полудню непогода стала крепчать. Ты когда-нибудь видел Альпы?
Антоний. Видел.
Адольф. Ну, так те горы – жалкие бугорки против морских волн. Всякий раз, как мы взбирались на гребень, казалось, можно бы луны коснуться рукою, а как съезжаем вниз – так словно бы земля разверзлась и мы несемся прямо в Тартар!
Антоний. Ох, эти безумцы, которые доверяются морю!
Адольф. Моряки пытались бороться с бурею, но безуспешно, и в конце концов хозяин, весь бледный, приблизился к нам.
Антоний. Эта бледность – предвестник большого несчастья.
Адольф. «Друзья, – сказал он, – я больше не господин своему судну. Победил ветер. Теперь возложим всю надежду на бога, и пусть каждый готовится к самому худшему».
Антоний. Поистине скифская проповедь. [193]193
Слово «скиф» для греков и римлян было синонимом варварской суровости и грубости.
[Закрыть]
Адольф. «Первым делом, однако же, – продолжал он, – нужно разгрузить судно. У нужды рука тяжелая. Лучше потерять добро и спасти жизнь, чем погибнуть вместе с добром». Истина живо убеждает: мигом полетели за борт бочки и тюки с дорогими товарами.
Антоний. Почти как в пословице: бросать добро на ветер.
Адольф. Да. С тою лишь разницей, что мы бросали в море. Был среди нас один итальянец; он исполнял должность посла при короле Шотландии. Этот человек вез с собою сундук, полный серебряной посуды, перстней, сукна и шелковой одежды.
Антоний. И он отказывался вступать в сделку с морем?
Адольф. Вот именно. Он желал либо утонуть вместе со своими любимыми сокровищами, либо уцелеть вместе с ними.
Антоний. И что же хозяин судна?
Адольф. «Будь ты один, – объявил он, – так и погибай себе на здоровье вместе со своим имуществом. Но несправедливо, чтобы ради твоего сундука мы все рисковали жизнью. Не согласен – пойдешь на дно вместе с сундуком».
Антоний. Речь истинно корабельная!
Адольф. Коротко говоря, итальянец последовал общему примеру, проклиная всех богов подряд, за то что доверил свою жизнь столь варварской стихии.
Антоний. Узнаю голос итальянца!
Адольф. Немного спустя ветер, нисколько не тронутый нашими дарами, оборвал канаты и в клочья изорвал паруса.
Антоний. Ох, беда!
Адольф. Тут снова подходит к нам хозяин.
Антоний. Опять с проповедью?
Адольф. Нет, с приветствием. «Друзья, – сказал он, – время велит, чтобы каждый поручил себя богу и приготовился к смерти». Какие-то люди, недурно знакомые с мореходным делом, спросили, сколько часов, по его мнению, можем мы еще продержаться, и он отвечал, что обещать не может ничего, а уж более трех часов ни при каких условиях не обещает.
Антоний. Эта проповедь еще суровее первой.
Адольф. Закончив разговор с нами, он приказывает рубить все канаты, а мачту спилить у самого гнезда, в которое она вставлена, и вместе с реями сбросить в воду.
Антоний. Зачем?
Адольф. Затем, что с разодранными парусами или вовсе без парусов она была для судна только обузою; единственной надеждою оставался руль.
Антоний. А что тем временем люди на борту? Адольф. Жалостное открылось бы тебе зрелище. Моряки пели «Царицу небесную» и умоляли Приснодеву о помощи, называя ее Звездою над морем, Владычицею небес, Госпожою мира, Вратами спасения и многими иными льстивыми именами, которых Святое писание нигде к Богородице не прилагает.
Антоний. Но что общего у Богородицы Приснодевы с морем? Она, я думаю, никогда и на корабль-то ме всходила!
Адольф. В древности о моряках заботилась Венера: верили, будто она родилась из моря. А когда ее заботам настал конец, Девственная матерь заняла место матери, но не девы.
Антоний. Ты еще шутишь!
Адольф. Некоторые, распростершись на палубе, молились морю, лили на волны масло, ублажали стихию лестью, будто разгневанного государя. Антоний. Что же они говорили? Адольф. Что говорили? «Море милосерднейшее! море прекраснейшее! утихни! пощади!» Много подобных слов выкрикивали они глухому морю.
Антоний. Смехотворное суеверие! А остальные что? Адольф. Иные только блевали без передышки, а большинство произносили разные обеты. Был на борту один англичанин, который сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской[194]194
О храме Богородицы в Уолсингэме рассказано подробно в диалоге «Πаломничество».
[Закрыть], если выйдет на берег живым. Одни давали щедрые обещания древу Креста, что хранится в таком-то месте, другие – что в таком-то. То же самое – и Марии Деве, что правит в различных местах: многие считают обет недействительным, если не указано место.
Антоний. Смешно! Как будто святые обитают не в небесах!
Адольф. Были такие, что обещали вступить в картезианский орден. Кто-то клялся отправиться к святому Иакову, что в Компостелле, босиком, с непокрытою головой, в одной кольчуге на голом теле, да еще и питаться по дороге одним подаянием.
Антоний. Неужели никто не вспомнил о святом Христофоре?
Адольф. Христофору – тому, что стоит в Париже, в главном храме, не статуя, а настоящая гора, – кто-то громким голосом (наверное, чтобы святой не прослушал) обещал восковую свечу вышиной с эту самую статую. Когда он, напрягаясь что было сил, прокричал свое обещание во второй и в третий раз, кто-то из знакомцев, по случайности оказавшийся рядом, тронул его за локоть и промолвил: «Опомнись! Что ты делаешь? Даже если ты пустишь с торгов все имущество, тебе не расплатиться!» Тогда тот, уже много тише (на сей раз – чтобы до ушей святого не дошло): «Замолчи, дурак! Неужели ты поверил, что это я от чистого сердца? Дай только выбраться на сушу – он у меня и сального огарка не увидит!» Я слушал и не мог удержаться от смеха.
Антоний. Ах, болван! Наверно, голландец?
Адольф. Нет, зеландец.
Антоний. Удивительно, что никому не пришел на память апостол Павел, который сам плавал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим[195]195
Римский наместник в Палестине Фест отправил Павла под стражею в Рим, на суд к императору. Невдалеке от Мальты судно пошло ко дну, но все, кто на нем находился, остались живы. Описание бури из «Деяний святых апостолов» (гл. XXVII), один из лучших эпизодов во всей этой новозаветной книге, до известной степени послужило литературным прототипом Эразмову диалогу. Так, отсюда заимствовано упомянутое несколько ниже обвязывание носа и кормы канатом.
[Закрыть]. «Ведая беды и сам»[196]196
Слегка перефразированный стих из «Энеиды», I, 630.
[Закрыть], он, конечно, умеет «приходить на помощь несчастным».
Адольф. К Павлу не взывал никто.
Антоний. А молились?
Адольф. Наперебой! Один тянет «Царицу небесную», другой «Верую». А некоторые бубнили какие-то особенные молитвы, похожие на заклинания.
Антоний. Как горе постоянно обращает нас к благочестию! Покуда всё ладно, мы и не вспоминаем ни о боге, ни о ком из святых… Ну, а ты что? Тоже давал обеты?
Адольф. Нет, никому.
Антоний. Почему?
Адольф. Я не заключаю сделок со святыми. И правда, что такое эти обеты, как не соглашение на твердых условиях: «дам, если сделаешь» или «сделаю, если сделаешь»? «Дам восковую свечу, если выплыву». «Отправлюсь в Рим, если ты меня спасешь».
Антоний. Но ты просил какого-нибудь святого о защите?
Адольф. Тоже нет.
Антоний. Но отчего же?
Адольф. Небо слишком просторно. Если б я поручил себя кому из святых, скажем, святому Петру, – он, пожалуй, первый услышит, потому что стоит у ворот, – не успел бы он дойти до бога и объяснить ему, в чем моя просьба, как я бы уж и погиб.
Антоний. Ну, хорошо, что ты все-таки делал?
Адольф. Я обратился прямо к Отцу, со словами: «Отче наш, иже еси на небесех». Ни один святой не услышит скорее и не дарует охотнее.
Антоний. А нечистая совесть тебя не останавливала? Ты не боялся взывать к Отцу, которого столько раз оскорблял своими прегрешениями?
Адольф. По правде говоря, мне было очень страшно и очень совестно. Но я ободрился и воспрянул духом, сказав себе так: «Нет отца, настолько гневного, чтобы, видя, как сын тонет в бурном потоке или в озере, не схватил его за волосы и не вытащил на берег». Спокойнее всех, впрочем, вела себя какая-то женщина, кормившая ребенка грудью.
Антоний. И что она?
Адольф. Она одна не вопила, не рыдала, не обещала; она только молилась про себя, прижавши к груди младенца. Судно часто било о камни, и хозяин, опасаясь, как бы оно вдруг не развалилось, распорядился опоясать канатами нос и корму.
Антоний. Жалкая защита.
Адольф. Тут поднимается старик священник, лет примерно шестидесяти; звали его Адам. Он сбрасывает с себя платье, сбрасывает даже башмаки и чулки и, оставшись в одной сорочке, велит, чтобы и мы все последовали его примеру и готовились плыть. И, стоя посреди судна, принимается проповедовать нам из Жерсона[197]197
Жан Шарлье из Жерсона (на северо-востоке Франции) (1363—1429), знаменитый богослов, государственный и церковный деятель, человек удивительного благородства и мужества. Его взгляды были во многом близки Эразму, но латынь Жерсона по справедливости казалась ему варварской.
[Закрыть] – пять истин о пользе исповеди, – и убеждает всех и каждого не отчаиваться в спасении, но и смерти не страшиться. Был тут и монах-доминиканец; они вдвоем исповедали всех, кто желал.
Антоний. А ты исповедался?
Адольф. Я, видя, что все полно смятения, исповедался про себя богу, проклял перед ним свои грехи и молил о милосердии.
Антоний. И куда думал попасть в случае гибели?
Адольф. Быть судьею над самим собой я отказался и судить предоставил богу. Но все-таки в душе надеялся а лучшее. Пока это происходит, возвращается к нам хозяин, весь в слезах. «Приготовьтесь! – говорит он. – Еще четверть часа – и судно нам больше не защита». В днище было уже несколько пробоин, в трюм хлынула вода. Немного спустя – новое сообщение: хозяин разглядел вдали колокольню и призывал, чтобы мы молили о помощи святого покровителя этого храма, кто бы он ни был. Все падают ниц и молятся неведомому святому.
Антоний. Если бы вы обратились к нему по имени, может, он бы и услышал.
Адольф. Имени никто не знал. Тем временем хозяин, сколько возможно, держит курс на ту же колокольню. Судно уже разбито, уже глотает воду во многих местах сразу и, наверно, уже рассыпалось бы, если б не канаты, которые его опоясали.
Антоний. Грозное положение.
Адольф. Мы подошли к суше так близко, что нас заметили. Тамошние обитатели толпами высыпали на берег, к самой полосе прибоя, и, размахивая шапками и куртками, вздетыми на длинные шесты, приглашали нас к себе. Они простирали руки к небу и потрясали ими, показывая, что оплакивают нашу участь.
Антоний. Я с нетерпением жду, чем это кончится!
Адольф. Море захватило уже весь корабль, и теперь что на палубе, что за бортом – опасность была одинаковая.
Антоний. Осталась, как говорится, последняя надежда.
Адольф. Скажи лучше: последний час настал. Моряки вычерпывают воду из лодки и спускают ее за борт. В нее хотят попасть все, но моряки, среди страшного замешательства, кричат, что лодка такого множества людей не вместит и чтобы каждый хватал любую деревяшку, какая попадется, и плыл. Времени на размышления нет. Кто хватает весло, кто багор, кто бочонок, кто лохань, кто доску, и каждый, полагаясь на собственные силы, бросается в волны.
Антоний. А что происходит с тою женщиной, которая одна не вопила?
Адольф. Она самая первая добралась до берега.
Антоний. Как же она сумела?
Адольф. Мы посадили ее на изогнутую доску, привязали покрепче, чтобы не свалилась, и дали в руки дощечку, вместо весла, а потом, пожелав ей удачи, бережно опустили на воду и оттолкнули багром подальше от корабля и от опасности. Левой рукой она держала младенца, правою гребла.
Антоний. Какое мужество в женщине!
Адольф. Под рукою не было уже ничего пригодного, и тогда кто-то сорвал с цоколя деревянное изображение Богородицы, прогнившее, источенное мышами, обнял его и пустился вплавь.
Антоний. Лодка добралась благополучно?
Адольф. Наоборот – утонула первою. А в ней было тридцать человек.
Антоний. Что за беда приключилась?
Адольф. Лодка не успела даже отчалить, как была опрокинута качкою судна.
Антоний. Ох, горе! Ну, а потом?
Адольф. Помогая другим, я чуть было сам не погиб.
Антоний. Каким образом?
Адольф. Ничего плавучего не осталось на мою долю.
Антоний. Вам бы туда пробковой коры.
Адольф. Да, в тех обстоятельствах я предпочел бы грошовую пробку золотому подсвечнику… Я озирался в растерянности и вдруг вспомнил про нижнюю часть мачты, ту, что осталась в гнезде. Вытащить ее один я не мог и кликнул кого-то на помощь. Вдвоем мы вцепились в этот обрубок и поплыли. Я держался за правый край, он за левый. Вдруг на плечи нам взбирается тот священник, что читал проповедь посреди палубы; а был он человек дородный и громадного роста. Мы в ужасе восклицаем: «Кто там третий? Он утопит и себя и нас!» А тот спокойно возражает: «Не бойтесь, места на всех хватит. Бог нам поможет».
Антоний. Почему он так долго не покидал судна?
Адольф. Он должен был сесть в лодку, так же как доминиканец (все уступили это право им), но, хотя они уже исповедались один другому, что-то, по-видимому, упустили и принялись снова исповедоваться, стоя у борта; возлагают они друг другу руки на голову, а лодка тем временем переворачивается. Это рассказал мне Адам.
Антоний. А что произошло с доминиканцем?
Адольф. Он, как рассказывал тот же Адам, воззвал к помощи святых, потом разделся догола и – в воду.
Антоний. Кого из святых он призывал?
Адольф. Доминика, Фому, Винцентия и какого-то Петра, но в первую очередь поручал себя Катерине Сиенской.
Антоний. Христос ему на память не пришел?
Адольф. Так рассказывал священник.
Антоний. Он бы вернее выплыл, если бы хоть капюшон на себе оставил; а без капюшона – как могла его признать Катерина Сиенская? Но рассказывай дальше о себе.
Адольф. Мы все еще кружились подле судна, которое кружили на месте волны, и ударом руля раздробило бедро тому, кто держался за левый край. Разумеется, он пошел ко дну. Священник, пожелав ему вечного покоя, занял его место и крикнул мне, чтобы я не падал духом, не разжимал рук и шибче двигал ногами. Мы уже вдоволь нахлебались соленой воды. Нептун не только устроил нам соленую ванну, но и соленого питья поднес. Против этого, однако, священник предложил хорошее средство.
Антоний. Какое?
Адольф. Всякий раз, как набегала волна, он подставлял затылок, а рот закрывал.
Антоний. Бодрый, я вижу, старик!
Адольф. Мы плыли уже некоторое время и заметно продвинулись вперед, когда священник, на диво рослый и длинноногий, воскликнул: «Мужайся! Я достаю дно!» Я не смел верить такому счастью. «Мы слишком далеко от берега, – отвечал я, – чтобы на это надеяться». – «Нет, говорит, я чувствую под ногами землю». – «Может, это ящик какой-нибудь, который сюда забросили волны?» – «Нет, говорит, пальцы явно скребут по дну». Мы поплыли еще немного, и он снова нащупал дно. «Ты, говорит, как хочешь, ты сам за себя в ответе, а я доверюсь твердой земле». И, выждав, когда волна отхлынет, он побежал что было духу и сил. Когда же надвинулся новый вал, он обхватил обеими руками колени и, не давши воде смыть себя и унести, скрылся под нею – так ныряют утки. Волна снова отхлынула – он вскочил и снова побежал. Видя, что его затея удалась, я последовал его примеру. На песке стояли люди, сцепившись друг с другом посредством длинных жердей и таким образом выдерживая натиск валов, люди всё крепкие, привычные к морю; самый последний протягивал жердь подплывавшему, и как только тот схватится за нее, все отступали к берегу, вытаскивая жертву крушения на сушу. Благодаря этой помощи несколько человек были спасены.
Антоний. Сколько именно?
Адольф. Семеро. Но из них двое умерли, когда их поднесли к огню.
Антоний. А сколько вас было на корабле? Адольф. Пятьдесят восемь.
Антоний. Ох, какое свирепое море! Хоть бы удовольствовалось десятиной, как священники! Из такого множества вернуть так мало!
Адольф. Тут мы на себе испытали редкостную доброту тамошнего народа: нас всем снабдили – и теплым кровом, и пищею, и одеждой, и деньгами на дорогу, и вдобавок невероятно быстро. Антоний. А что за народ? Адольф. Голландцы.
Антоний. Нет народа добрее, а ведь они окружены дикими племенами. Больше, я думаю, испытывать Нептуна не станешь?
Адольф. Нет, разве что бог отнимет у меня рассудок.
Антоний. И я предпочитаю слушать такие истории, чем в них участвовать.
Заезжие дворы

Бертульф. Гильом
Бертульф. Почему большинство путников задерживается в Лионе на два-три дня? Я, раз уже пустился в дорогу, не успокоюсь, пока не доберусь до цели.
Гильом. А я – так, наоборот, дивлюсь, как можно расстаться с этим городом.
Бертульф. Да почему ж, в конце концов?
Гильом. Потому что оттуда Одиссею своих спутников не увести бы – там настоящие сирены[198]198
Имеется в виду известный эпизод из «Одиссеи» Гомера, песнь XII, где рассказывается, как Одиссей и его спутники миновали остров сирен, которые своим пением заманивают плывущих мимо путников, и те, забыв обо всем на свете, погибают вместе с кораблями.
[Закрыть]! В собственном доме никто не найдет такого обхождения, как там – в гостинице.
Бертульф. Я слушаю тебя.
Гильом. У стола всегда, бывало, сидит женщина, развлекающая гостей шутками и забавными рассказами. А женщины там на диво хороши. Первою является хозяйка с приветствием и с пожеланием, чтобы все были веселы и не бранили угощение, которое им предлагают. Следом приходит дочка, красивая и до того жизнерадостная, что и самого Катона развеселила бы, пожалуй[199]199
Строгость и суровость нрава Марка Порция Катона Старшего вошла у римлян в пословицу.
[Закрыть]. Разговаривают они с нами не так, как с незнакомыми постояльцами, но словно бы с давними и близкими знакомцами.
Бертульф. Узнаю прославленную французскую учтивость.
Гильом. Но все время оставаться за столом они не могли – надо было и по дому распорядиться, и других гостей встретить и приветствовать, – а потому с нами безотлучно была молоденькая, но весьма острая на язык девица. Она одна легко отражала все наши удары, поддерживая разговор, пока не вернется хозяйская дочка. (Мать была уже в летах.)
Бертульф. Ну, а стол-то был каков? Разговорами ведь не наешься!
Гильом. Роскошный, да и только! Я все удивлялся, как они могут так принимать постояльцев за такую дешевую плату. После еды снова забавляют гостя беседою, чтобы он не скучал. Мне казалось, что я дома, а не на чужбине.
Бертульф. А спальни?
Гильом. В спальне тоже всегда застаешь девушку – улыбчивую, шаловливую, игрунью; она спрашивает, нет ли у тебя грязного платья, и все грязное стирает и отдает чистым. Скажу больше: там не увидишь никого, кроме женщин и девушек, разве что в конюшне мужчины. Впрочем, и в конюшню нередко врывались девушки: они обнимали отъезжающих, прощались с ними до того нежно, точно с братьями или близкими родичами.
Бертульф. Французам, может быть, и к лицу такие нравы, но мне больше по душе мужественная суровость германских обычаев.
Гильом. Мне никогда не случалось повидать Германию. Пожалуйста, не сочти за труд, расскажи, как там принимают постояльца.
Бертульф. Я припомню только то, что видел своими глазами; в иных местах, может, все и по-иному. Итак, подъезжаешь ты к постоялому двору – тебя никто не приветствует: иначе, как бы не подумали, будто гостя обхаживают, а это, по мнению немцев, дело позорное, презренное, не достойное германской строгости. Кричишь, кричишь – наконец кто-то высовывает голову в окошечко общей залы (чуть не до самого летнего солнцеворота постояльцы большую часть времени проводят в таких залах с печами), точь-в-точь как черепаха, выглядывающая из-под своего панциря. Надо спросить, можно ль остановиться. Если не откажет, – значит, согласен пустить. Спрашиваешь, где конюшня, – молча машет рукою. С лошадью управляйся сам, как умеешь, – никто пальцем не шевельнет, чтобы тебе пособить. Если гостиница из числа известных, в конюшню провожает слуга и даже показывает стойло для коня, самое, впрочем, неудобное. Места получше берегут впрок, для знатных гостей. Стоит вымолвить хоть слово поперек – тут же услышишь в ответ: «Не нравится? Ищи себе другую гостиницу». Сено в городах дают неохотно и очень скупо, а платишь почти столько же, сколько за овес. Когда поставишь лошадь и задашь ей корма, идешь в залу как есть – весь грязный, в сапогах, с дорожными пожитками.
Гильом. У французов гостя обводят в комнату, где можно раздеться, высушить одежду у очага, согреться, даже вздремнуть часок-другой, если надумаешь.
Бертульф. Тут – ничего похожего. В зале разуваешь сапоги, обуваешь туфли, меняешь, если хочешь, сорочку, развешиваешь у печки промокшее под дождем платье и сам придвигаешься поближе к огню, чтобы обсушиться. Есть и вода – умыть руки, если кто пожелает, – но обычно такая чистая, что после приходится просить еще воды, чтобы смыть первое умывание.
Гильом. Слава мужам, не избалованным никакими удовольствиями!
Бертульф. Ты прибыл в четвертом часу после полудня, ужинать, однако ж, будешь не раньше девятого, а не то и десятого часа.
Гильом. Почему?
Бертульф. Хозяева ничего не готовят, пока не убедятся, что больше ждать некого: им надо всех обслужить разом.
Гильом. Чтобы отделаться побыстрее и подешевле.
Бертульф. Угадал. И нередко в одну залу набивается человек восемьдесят или девяносто – пешие, конные, торговцы, матросы, возчики, крестьяне, женщины, дети, здоровые, больные…
Гильом. Настоящая общежительная обитель!
Бертульф. Кто расчесывает волосы, кто утирает пот, кто очищает от грязи башмаки или сапоги, кто рыгает чесноком. Коротко говоря – такое ж смешение языков и лиц, как в старину на Вавилонской башне. Но стоит им заметить чужеземца, одетого почище и побогаче, они так и впиваются в него глазами и глядят, не отрываясь, словно на невиданного заморского зверя; даже и потом, усевшись за обед, не перестают смотреть, выворачивая шеи и забывая про еду.
Гильом. В Риме, Париже и Венеции никто ничему не изумляется.
Бертульф. Просить что бы то ни было строго-настрого запрещено. Когда уже изрядно стемнеет и больше ждать, по-видимому, некого, входит старый слуга с седой бородою и мрачным лицом, коротко остриженный и неопрятно одетый.
Гильом. Таких бы стариков – римским кардиналам в виночерпии.
Бертульф. Он молча озирает залу, пересчитывает гостей, и, чем их больше, тем жарче разводит огонь в печи, хотя бы жара стояла и на дворе. Это у них главный признак хорошего обхождения – если все истекают потом. Ты не привык к духоте и чуть-чуть приоткрываешь окно, но тут же слышишь: «Затвори!» Если возразишь: «Не могу терпеть», – услышишь в ответ: «Стало быть, ищи другую гостиницу».
Гильом. На мой взгляд, нет ничего опаснее, как всем вместе – да еще такому множеству! – дышать одной духотою, и тут же принимать пищу, и оставаться долгие часы. Я уж не говорю о чесночной отрыжке, о смрадных ветрах, о гнилом дыхании, но есть люди, страдающие тайными болезнями, и нет ни одной болезни, которая не была бы заразительна. В самом деле, очень многие болеют испанской чесоткой (или французской, как зовут ее еще, потому что она общее достояние всех народов). От них, я думаю, опасность едва ли меньше, чем от прокаженных. Посуди сам, что будет, если начнется повальный мор.
Бертульф. Немцы – храбрецы, они смеются над опасностью и презирают ее.
Гильом. Но их храбрость грозит бедою многим.
Бертульф. Что поделаешь! Так уж у них заведено, а человеку твердому и постоянному не свойственно отступать от заведенного обычая.
Гильом. Но вот для брабантцев, лет двадцать пять назад, не было ничего привычнее общественных бань, а теперь они вывелись повсюду: эта новая чесотка выучила нас не ходить по баням.
Бертульф. Ладно, слушай дальше. Снова является, бородатый Ганимед[200]200
Мальчик Ганимед, любимец Зевса, был виночерпием на пирах у богов; отсюда насмешливое сравнение.
[Закрыть] и застилает скатертями столы – сколько находит достаточным по числу гостей. Но, боже бессмертный, скатерти отнюдь не милетские[201]201
Жители города Милета, старинной греческой колонии на западном берегу Малой Азии, считались любителями роскоши, изнеженными, избалованными.
[Закрыть], скорее скажешь, что это сорванная с реи парусина. Потом он разводит гостей по столам, за каждый стол – не менее восьми. Кто знаком с германским обычаем, тут же садится, кому где правится. Нет никакого различия меж богатым и бедным, меж хозяином и слугою.
Гильом. Вот оно, пресловутое древнее равенство, ныне уничтоженное тиранией. Так, я думаю, жил Христос со своими учениками.
Бертульф. Когда все рассядутся, снова приходит мрачный Ганимед и снова пересчитывает своих подопечных. Он исчезает и, вскоре возвратившись, ставит перед каждым деревянную тарелку, кладет ложку, сработанную из того же серебра, что тарелка, ставит стеклянный стакан, а еще чуть спустя раздаст хлеб, который все потихоньку и уминают на досуге, дожидаясь, пока поспеют кушанья. Ведь иной раз так и целый час просидишь.
Гильом. И никто из постояльцев тем временем не торопит, не требует?
Бертульф. Ни один из тех, кто знает тамошние нравы. Наконец приносят вино, но, боже благий, что это за вино! Его бы только софистам пить – такое оно тонкое и едкое[202]202
Софисты, древнегреческие учители философии и риторики (V в. до н. в.), были непревзойденными мастерами казуистически тонких, но часто пустых и бесплодных рассуждений.
[Закрыть]. Если кто из гостей попросит – хотя бы и за особую плату – другого вина, сперва сделают вид, будто не слышат, но скроят такую физиономию, словно сейчас прихлопнут надоеду. Если ж ты повторишь свою просьбу, тебе ответят: «У меня стояли и графы и маркизы, и никто никогда не жаловался на мое вино. А ежели не нравится, поищи себе другую гостиницу!» Только знатных господ из своего племени и считают они за людей, и повсюду выставляют напоказ их гербы… Итак, лающему желудку бросили кость. После величавою чередой вносят блюда. Первое – обычно куски хлеба, пропитанные мясным наваром, а если день постный – то овощным. Потом – суп, потом – разогретое мясо или соленая рыба, снова похлебка, снова что-нибудь из твердой пищи, и наконец, когда голод уже основательно укрощен, предлагают жаркое или вареную рыбу. Отказаться невозможно, но тут уже подают в обрез и быстро убирают. Все застолье, стало быть, устраивается по образцу театрального представления, где к игре артистов примешаны хоры; вот и здесь – чередуют жидкие кушанья с густыми, но так, чтобы последнее действие было наилучшим.
Гильом. Это правило соблюдает и хороший поэт. Бертульф. Не дай бог, если кто вдруг скажет: «Убери это блюдо – все равно никто уже не ест». Надо сидеть смирно, пока не истечет срок, который хозяин, по-моему, отмеряет клепсидрою[203]203
Клепсидра – водяные часы, применявшиеся древними в судебных заседаниях, где время, предоставленное для речей обеим сторонам, строго регламентировалось.
[Закрыть]. Но вот опять выходит тот бородач или сам хозяин, одетый почти так же, как его слуги, и спрашивает, нет ли у нас каких желаний. Вслед за тем приносят еще вина, получше. В Германии любят пьяниц, и кто выпил всех больше, платит ровно столько же, сколько тот, кто едва пригубил. Гильом. Удивительный обычай. Бертульф. Иной столько в себя вольет, что плата за ужин и половины не покроет. Но прежде чем покончить с застольем, я хотел бы, чтобы ты себе представил, какой страшный поднимается шум и неразбериха, когда все разогреются вином. Одно скажу: оглохнуть можно! В этот момент нередко появляются шуты; нет более гнусной породы людей, но ты не поверишь, какое удовольствие для немцев их мерзкие проделки. Они так поют, галдят, орут, пляшут, топают, что, кажется, вот-вот обрушится потолок и сосед не слышит соседа. Но все уверены, что в этом и состоит радость жизни. И так волей-неволей сидишь до глубокой ночи.
Гильом. Ну, будет уж про застолье. Слишком оно затянулось, даже мне надоело.
Бертульф. Да, да, кончаю. Наконец убирают сыр, который только тогда им по вкусу, если совсем прогнил и кишит червями, и опять выходит тот бородач с подносом, на котором мелом начерчено несколько кругов и полукругов; поднос ставит на стол, молча и сурово, точно Харон какой-нибудь[204]204
Харон, перевозящий души умерших через реки и озера подземного царства, взимает плату за перевоз; в рот покойнику вкладывали мелкую медную монетку для расплаты с Хароном. Подробнее см. далее, в диалоге «Харон».
[Закрыть]. Кому знакомы эти знаки, кладут деньги, один за другим, пока поднос не наполнится. Заметив, кто расплатился, бородач молча подсчитывает выручку. Если нет недостачи, кивает головой.
Гильом. А если больше, чем нужно?
Бертульф. По-видимому, возвращает. Так иногда и случается.
Гильом. И никто не возражает, что, дескать, расчет не справедливый?
Бертульф. Никто, если он в здравом уме. Потому ' что тут же услышит в ответ: «Ты еще что за птица? Платишь не больше, чем другие».
Гильом. Какой грубый народ!
Бертульф. Если кто, уставши с дороги, хочет сразу после еды лечь в постель, ему велят ждать, пока все не отправятся на покой.
Гильом. Мне кажется, будто увижу Платоново государство[205]205
Идеальное государственное устройство – первый в истории европейской культуры опыт утопии – изображено Платоном в диалоге «Государство». Здесь имеется в виду абсолютное равенство внутри сословий, на которые членит общество Платон.
[Закрыть].
Бертульф. После каждому показывают его гнездо в спальне, но уж это именно что спальня: кроме кроватей, нет ничего – нечем воспользоваться и украсть нечего.
Гильом. Чисто в спальнях?
Бертульф. Так же чисто, как за столом. Простыни, верно, месяцев по шесть не стирают.
Гильом. А лошади тем временем как?
Бертульф. С ними обходятся так же бесцеремонно, как с их хозяевами.
Гильом. И везде обхождение одинаковое?
Бертульф. Где повежливее, где погрубее, чем я рассказываю, но в общем такое.
Гильом. Хочешь, я тебе расскажу, как принимают постояльцев в той части Италии, что зовется Ломбардией, как в Испании, в Англии, в Уэльсе? Англичане придерживаются нравов отчасти французских, отчасти германских: они ведь смесь из этих двух народов. А валлийцы утверждают, будто они αυτόχθονες[206]206
Коренные жители (греч).
[Закрыть] Англии.
Бертульф. Пожалуйста, расскажи. Мне никогда не случалось там побывать.
Гильом. Сейчас недосуг. Хозяин судна велел, чтобы я вернулся к трем часам, если не хочу отстать и остаться, а мои вещи уже на борту. В другой раз будет случай – наговоримся всласть.








